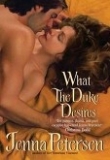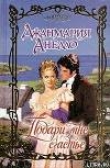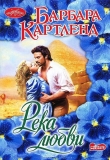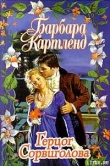Текст книги "Иоанн Антонович"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 59 страниц)
ПЕТЕРБУРГ ВРЕМЁН ПЕТРА ТРЕТЬЕГО
Крепко спалось с заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было так тихо в тёплой, уютной горенке. Городской езды по берегу Мойки в том месте почти не было слышно. Бавыкина и в церкви побывала, и на рынок сходила, и кончила в кухне обеденную стряпню.
«Вот заспался, сердечный», – рассуждала она.
Разбудили Мировича неразлучные канарейки хозяйки. Они так весело растрещались на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но не сразу пришёл в себя, глядел по комнате, припоминал…
Вот старый, почернелый дубовый комод Филатовны, берзовый, со стёклами, посудный поставец. В комоде лежали когда-то его кадетские рубашонки, тетрадки, потёртые в беготне чулки. А из поставца всегда так пахло корицей, имбирём, и лежали там, ждали его к праздникам пряники, орехи, шептала[137]137
Шептала – сушёные персики.
[Закрыть]. На стене – поясной портрет, красками, покойного Бавыкина. Сударь Анисим Поликарпыч, в кафтане, шитом золотом, и в лейб-кампанской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит из рамы и будто повторяет слова манифеста Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче лейб-гвардии нашей шквадрона по прошению престол наш восприять мы соизволили».
Мирович не застал уже Бавыкина в живых. Но власть и мочь покойника ещё признавались памятью знавших его. Один из трёхсот гренадёров, возведших Елисавету на трон, во дни загула он – «подпияхом с приятелями», – бывало, поднимет такое веселье, что канцлер Бестужев, слыша из своего дома, через Неву, буйные песни и крики у его ворот, посылал цидулки к генерал-полицеймейстеру о командировании пикетов для охраны спокойствия соседних улиц и домов.
– Всё отдам, всё тебе после смерти откажу, – говорила в оные дни Настасья Филатовна кадету Мировичу, – учись только уважать начальство, в люди выходи. Станешь в чинах, будешь знатен, анбиции своей не преклонишь и меня до конца веку доглядишь… Оно точно: на рать сена не накосишься, на мир хлеба не насеешься. А бери, сударик, пример хотя бы с меня… Самой царице угождала, её душеньку брехнёй услащала… И был за то бабе Настасье почёт и привет… Девка гуляй, а дело помни… Даром, брат, ничего, даром и чирей не сядет…
Всё изменилось, всё прошло. Бедность видимо проглядывала теперь во всей обстановке Бавыкиной. Не оправдал её надежды и былой её питомец. Мировича заметили за отличие под Берлином, где он был контужен, произвели в офицеры. Но тяжело давались ему двухлетние походы, лишения всякого рода, обиды старших, измены и подкопы товарищей, и та же суровая бедность, бедность без конца. Он ещё более сосредоточился, стал скрытен, завистлив, раздражителен и горд. Чужие края во многом открыли ему глаза. Он сходился там с умными людьми, в том числе с масонами[138]138
Масонство в России особенно расцвело в период правления Елизаветы Петровны. Многие из её ближайшего окружения входили в тайные масонские ложи. В состав лож входили люди, в основном, высокообразованные, однако цели масонской деятельности трудно назвать созидательными для государства и общественной нравственности.
[Закрыть], читал книги, немало перенял, сунул нос и в такие речи и дела, о которых прежде ему и не снилось. Грубость генерала Бехлешова на утреннем приёме в коллегии не выходила у него из головы.
«Скрыть хотят пропозиции Панина, – не выходило у него теперь из мыслей, – изменники! берлинские угодники!.. не скроют… Завтра опять пойду и добьюсь».
Мирович встал, быстро оделся и вышел на улицу. У него что-то сидело в голове. Доехав на извозчике на Литейную, он высмотрел чей-то двор, между светлиц придворных чинов, обошёл его, долго глядел на окна и двери и спросил кого-то вышедшего из того двора. Ему вызвали слугу. Ответы последнего не привели ни к чему. Ещё постоял Мирович перед заветным домом, ещё поглядел на окна. Он черней тучи возвратился на Мойку, пробрался в горенку Филатовны и молча прилёг опять на постель. Бавыкина вошла к нему с завтраком.
– Думала, спит, а уж он и по делам, – сказала она, присев против него и с любопытством его рассматривая.
Он молчал.
– Это же что у тебя? – спросила она, взглянув на истрёпанную тетрадку, лежавшую на куче хлама, вынутого из чемодана.
Мирович и на это ничего не ответил. На заголовке тетради красивыми росчерками стояла надпись: «Храм Апрантифской». Вокруг заглавия были рисунки тушью – два столба, треугольник, отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехизис, ложи святого Иоанна, ученической степени (apprenti).
– Диплон, что ли на чин? – спросила, просияв, Филатовна.
– Да… нет, бишь… артикул – товарищи дали, – нехотя ответил Мирович.
– Служи, Василий, служи; времена тяжкие: добивайся! Пёс космат – ему тепло; нам зато вот как холодно… А золотой молот, паря, он и железны ворота прокуёт. А почему? Потому нонешний свет, он самый, как есть, линущий… Тлёю над нами пахнет… Нынче корова, а завтра падаль…
Бавыкина вздохнула, опёрлась на руку головой.
– И уж так-то плохо, так… Всё махонькое в большаки, вишь, просится. Да не быть медведю стадоводником, а свинье огородником. А что прогорела, то ещё не беда. Города – и те чинят, не токмо рубашки.
Мирович не отозвался. Бавыкина пристальнее взглянула на него.
– Да ты не на Литейку ли отмахал? Что смотришь? угадала небось? Признавайся.
– Где Поленька? – спросил Мирович.
– Нешто сам не знаешь, не списывался с нею?
– Четыре месяца ни слуху про неё, молчит, на письма не отвечала, – отрывисто и грубо проговорил Мирович.
– То-то, Василий, скрытничаешь, – сказала, покачав головой, Филатовна, – а я, признаться, иной раз спрашивала. Помнила твои гонянья… Вот и сегодня… Только, брат, ни Птицыны, ни Прохор Ипатьич – кучер покойной царицы, ни Шепелевых кума – дворцовая кастелянша, никто не знает. Как померла на Рождество государыня, твоя-то, веришь ли, точно в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ведаешь, пошли все иные. Двор покойной царицы распустили, ослобонили – кто куда. Ну, а она, известно, – голячка, сирота: где ей в здешнем-то Бавилоне болтаться. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и съютилася… Самому знаком ейный нрав – недотрога, гордец, и обид – этакая, подумаешь, цаца – не любит. За границу разве?.. Так нет: знали бы. Без паспорта, чай, сразу и не уедешь…
– Чудеса! – произнёс Мирович. – Уж жива ли или впрямь куда уехала?
– А про то, братец, говорю тебе, не сведома! – с недовольством ответила Филатовна. – Двор, сокол ты мой, новый и порядки новые. Не то что камер-медхены, гоф-енералы у нового царя и у его хозяйки – всё почти переменились. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой; рассчитали, ну, ветер её, мелкотравчату, и сдул с земли долой.
Мирович не слушал Филатовны. Та взялась за поднос, брякнула тарелками.
– А я вот что тебе скажу, – заговорила опять Филатовна, – Что твоя Поликсена? ну, говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, сударь, не того нужно. Нет греха хуже бедности. Помни зарок бабы Насти – тут вся правда. Ну посуди! Ты молод, из себя красив, чин у тебя тоже вот уже офицерский, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдёт… Да вот, наприклад, хоть бы и дочка самой Птицыной… Чем не невеста? Повидишь, какая пава стала – выровнялась за это время, стан тебе полненький, ходит, вертит хвостом, как уточка, – а волосы, а глазищи… Да притом, Василий, дом какой на Литейной, дача на Каменном; а по смерти матери, в сходстве ейного счастья, ещё и капитал. Прокормишься, ну и меня в те поры не забудешь… Вон я последнюю холопку Гашку из-за бедности продала енералу Гудовичу, как сюда съезжала на фатеру. Веришь, пухом да перьями ноне торгую, – продолжала, всхлипнув и утираясь, Филатовна, – скупаю по господам да перепродаю в Гостиный на подушки и пуховики… Право, подумай, голубчик, не спеши. На резвом коне свататься не пытайся; а жена, брат, не гусли, поиграв, на сук не повесишь…
Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, с лукавым взором холодных, серых и загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и мушками на щеках и с гордо вздёрнутой, насмешливо дрожащей губкой, не отходила от его мысленных взоров.
Филатовна озлилась. Гремя в посудном поставце, она чуть не разбила любимой чашки.
– Да чем бы вы жили? ну отвечай! и каковы нынче цены? да ты не крути носом, прокурат, а толком разбери: фунт чаю два с полтиной, сажень дров рубь шесть гривен… а? Да что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать шесть копеек. Светопреставление, да и всё… Говядины, говядины фунт – меньше двух копеек не отдают… Как тут жить?
– Ну, как жить, про то уж не знаю, – полупрезрительно ответил, вставая, Мирович, – и пойдёт ли за меня Поликсена… А подруги её, Птицыной, прежде не примечал, да и теперь видеть не хочу… Вы спрашивали, что это вот за книжка? Мудрые в ней слова.
– Каки таки слова?
– Мир на трёх основах сотворён, – продолжал гордо и как бы в раздумье Мирович, – на разуме, силе и красоте. Разум – для предприятия, сила – для приведения в действо, красота – для украшения… Жизнь наша – храм Соломонов, и каждый камень в нём да кладётся без устали и ропоту… Впрочем, вы того, простите, не поймёте… Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите ещё раз к кучеру Прохору Ипатьичу, к Птицыным и к Шепелевых куме, кастелянше… Узнайте, куда от двора могли доставить Пчёлкину? Чай, не выкинули же на улицу, в придворном экипаже везли.
– Так вот тебе, высуня язык, и стану бегать за девками! – отвечала, отмахнувшись, Филатовна. – Стара, брат, стала! пора бы и на покой… Садись разве сам, да и пиши публикацию в газетах, как в старину письма к любовницам писали: сладостные, мол, гортани словеса медоточные, где вы, отзовитеся! Красоты безмерной власы! стопы превожделенные, улыбание полезное и приятное, нрав весёлый и пресветлый, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Нет, брат, уволь – винты развинтилися, не гожусь… в ломку пора…
Филатовна, однако ж, только храбрилась. Под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что надо после обеда сходить в Гостиный, накинула поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась к лейб-кучеру, к Шепелевых куме, кастелянше, и к Птицыным.
Возвратилась Бавыкина в сумерки. Она была сильно не в духе, хмурилась и бранилась.
– Эки концы, прости господи! Вот она, торговля… Коли не камер-фуриры[139]139
Камер-фурьер – чиновник, наблюдавший за парадными обедами.
[Закрыть] Герасим Крашенинников да Василий Кирйллыч Рубановский, – сказала она, бросив в угол ношу и глядя на Мировича, – так никто уж в свете и не скажет тебе, где ноне Поликсена… Они заправляли списками при похоронах государыни, им только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.
Она вышла. Мирович записал в бумажник названные ею имена и засуетился над чемоданом. Заперев дверь, он принялся чистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки, достал из какого-то свёртка иглу, заштопал штиблеты и долго, вздыхая, возился над распоротым у подошвы башмаком, расчесал и тщательно завил косу и букли, обвязал их, для сохранности, на сон грядущий, платком, и попросил разбудить себя на заре, чтобы успеть напудриться, побриться и, отбыв утром явку к начальству, пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского.
– Доля проклятая, где ж ты? – ворчал он, раздеваясь. – На дне моря, в земле или выше того?
Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его, сверх ожидания, задержали долго. Толпились приказные, гвардейские и армейские офицеры. Из заграничного отряда в ночь прискакал новый курьер. К полудню приёмная и лестница коллегии гудели от говора разномастного люда, как улей. Бряцая шпорами и дерзко волоча палаши по ногам встречных и поперечных, с наглыми казарменными ухватками, речами и громким смехом, прошли вслед за каким-то белобрысым и куцым голштинским бригадиром новоиспечённые гвардейские любимцы. Между мелкосошною мундирной братией стали говорить шёпотом, а потом и громче, что общие смутные предсказания сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому в пограничный корпус посылалось предписание – войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. О «пропозициях» Панина не было и помина. На Мировича, сидевшего в углу на скамье и поджимающего заштопанную коленку и плохо зашитый башмак, теперь уж никто не обращал и внимания. Вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехлешов, выйдя с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом в приёмную, заметил его и кивком, пренебрежительно подозвал к себе. Пыхтя и разглядывая свои белые маленькие ручки, он помолчал и вдруг, поглядев на него в упор, напустился:
– Так ты – Мирович? а? а? Мирович? ордонанс Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук – папильоном, сиречь бабочкой, не по форме повязан! Ордонансы! баловники! – кричал, топая ножками, генерал. – Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Вольнодумством вы только занимались там, по театрам, по обержам вертопрашили да дусергельды делили на пирушках!.. Шалберники, роскошники, моты!..
– Не заслужил, не заслужил! – ответил, вспыхнув и сам не помня себя, Мирович. – Подобный афронт[140]140
Афронт – оскорбление.
[Закрыть] офицеру… я… вы… вы…
– Здесь столица – сам государь – а не ордер-дебаталия… – крикнул ещё запальчивее Бехлешов. – Ступай, сударь, да берегись… Слышь, говорю тебе, берегись! Любимчики штабные! Ордонансы! А понадобишься, за тобой пришлют.
«Ах ты ракалия! – подумал с дрожью Мирович. – Да что ж это? и за что? только что приехал, и вдруг…»
Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился бледный с лестницы и, стиснув зубы, глотая слёзы негодования, поехал домой, повторяя:
– Ну, родина! угостила с первых же разов…
Бавыкиной он не застал дома. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав её час-другой, Мирович успокоился, пришёл в себя. Он вспомнил об академике, осведомился о нём у прислуги и смешался.
«Так вот кто это!»– пробежало в его мыслях. Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней, угольной комнате, выходившей в сад.
Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пенковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь, в обход Сибири, в Китай и в Индию. Теперь он был принаряжен – в парике, без пудры, в суконном, кирпичного цвета кафтане, в чистых манжетах и белом шейном платке. В кресле у камина, с книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В книжку она смотрела рассеянно, украдкой следя за серым котёнком, игравшим с бахромой ковра на полу.
– А, господин офицер! – сказал с улыбкой, подвигая стул, Ломоносов. – Очень рад… Садитесь, батюшка… Давеча вы меня порядком смутили. Стар становлюсь, да и болел эту зиму, ноги остудил, на смертной постели лежал; ну и не удерживаюсь иной раз. Да и как удержаться! Я дописывал новую оду, а поговорив с вами, бросил её в печку и, как есть, всю-то ночь не спал. Выехал сегодня в академию – ваши слова подтверждаются, – только и говору везде, что о перемирии… Соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год:
Петра Великого обратно
Встречает русская страна…
– Мир! да лучше бы кнутом меня на площади били, самого немцем сделали, чем это слышать! – произнёс Ломоносов, бросая трубку на стол и закашливаясь.
Краска залила его изжелта-бледные, в суровых морщинах щёки. Желтизна проступила и в затуманенных годами, больших, строгих и вместе ласковых глазах.
– Леночка! пивца бы нам аглицкого! – сказал он дочери. – Возьми у мамы ключи, да холодненького, из западни… Душу отвести… Пару бутылочек, не больше…
Леночка несколько раз бегала в западню.
Пиво развязало языки новых знакомцев. Ломоносов стал на карте объяснять Мировичу выгоды от придуманного им, мимо Сибири, пути в Индию.
– И всё ферфлюхтеры, всё немцы мешают, – сказал он, – сегодня в конференции, верите ли, чуть глотки в споре с ними не перервал… Скоп злобы! Ничего, как есть, не поделаешь с толиким препятством, с толиким избытком завистливой кривды и лжи…
– А что, Михайло Васильич, – спросил Мирович, – не уступи наш новый государь, Пётр Фёдорыч, своему другу, решись, по мысли Панина, продолжать войну – ведь навек бы немцев мы урезонили.
Лицо Ломоносова омрачилось.
– Плохо, – сказал он, махнув рукой и подвигаясь с креслом к камину, – и не приведи Бог, как плохо.
– Что же-с? Разве здоровьем слаб государь? – спросил Мирович.
Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.
– Слушай, молодой человек, и суди! – начал он, помолчав. – О тебе много наслышался от своего старого друга; да и приехал ты из такой дализны… Взвесь, оцени на свежую голову неудобства наших тёмных, бурливых дней и скажи, по сердцу, своё мнение. Чай, знаешь дела-то великого Петра… Что в Риме в двести лет, от первой Пунической войны до Августа, все эти Сципионы, да Суллы, да Катоны сделали, то он в свою токмо жизнь, он один в России совершил. Первые преемники были куда не по нём! Хоть бы двор при царице Анне Ивановне… – как бы тебе выразиться – был на фасон немецкого плохонького владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду, в глубине-то страны, ещё по-русски жили и говорили. Царица в оперу в спальном шлафроке ездила, Бироновых детей нянчила, курляндским конюхам да ловчим всё правление в опеку отдала. Да ведь эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они всё-таки были подданные русские, во имя России действовали. И повального, брат, онемечения ещё у нас в те поры не было… Правительница Анна Леопольдовна – слыхал ли ты про неё и про её тяжкую судьбу?
– Мало слышал… в школе и на службе-с было не до того… кое-что говорили…
– Ну, так скажу в краткости и о ней… Она драмы Аддисона, «Заиру» Вольтера любила декламировать[141]141
Джозеф Аддисон (1672—1719), – английский писатель; Вольтер (1694—1778) – один из идеологов энциклопедистов, подготовивших Французскую революцию.
[Закрыть] и по три дня, простонравная беспечница, не чесалась… При ней зато немцы немцев ели, и нам от того было не без приятства и пользы… А покойная государыня, божество моё, Лисавет Петровна? Ох! что греха таить! При ней – не на твоей, разумеется, памяти – всё у нас иноземным, французским стало – обычаи, нравы, моды и язык… Но всё же, голубчик ты мой, хохлик, – лучшие русские люди, лучшие умы и сердца её окружали… Умела она их выбирать и ценить… И я, российский природный поэт и вития, я – Ломоносов – недаром, слышь – ты, по сердцу, от души её воспевал…
– Помню ваши стихи, – с чувством перебил Мирович:
и другие о ней же:
Владеешь нами двадцать лет…
– Она смертную казнь отменила в России! – продолжал Ломоносов. – В Москве, по моей мысли, открыла университет[143]143
Московский университет был открыт в 1755 году.
[Закрыть]; на родине твоей, на Украине, в Батурине, тоже, в сходствие моего прожекта, открыла бы, если б не померла, – и свято чтила, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого и единого в мире моего героя, Петра…
– Однако, – заметил, подумав, Мирович, – то были женщины: Екатерина, две Анны, Елисавета, и почти подряд… Бабье царство – говорили в народе. Войску надоело быть под женскою управой… Теперь у нас на троне монарх, и снова Пётр…
– Пётр, да не Первый! – сказал Ломоносов. – Не было и не будет такого другого. По примеру деда-то великого думает он управлять? Далеко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся… Оно, конечно… и Пётр Второй, мальчоночек, в сенате торжественно обещал подобно Веспасьяну править, никого не печалить… А что содеялось потом? Я неотёсан, я груб, и меня, дикого помора, сударь, – за непорядочные поступки и озорничество с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими нашими колбасниками – под арестом при полиции держали. Но, ездив ещё с отцом на рыбачьем карбасе, по северному ледяному морю, я привык бороться с злыми стихиями… Великая и грозная, сударь, природа студёного надполярного океана воспитала меня… Я просто совестен, брат, но не податлив… И ничем ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души… Скажу тебе, юноша, правду… У нас теперь нашествие не русских немцев, а немецких, самых сугубых и лютых… И ныне, братец, – прибавил вполголоса Ломоносов, склонясь к Мировичу, – коли не найдётся у нас гения, чтоб нами побитого лукавца Фридриха водрузить в прежних умеренных пределах, то всю инфлюэнцию[144]144
Инфлюэнция – влияние.
[Закрыть] нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер, а мой давний благоприятель, Воронцов, министром – токмо не своего монарха, а того же, через нас вновь оживающего, Фридриха. Шутка ли, в военной коллегии, в конференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бестужевых витают имена, ныне компасом всех дел являются только что прибывший из Берлина Фридрихов посланник Гольц и дядюшка государев, командир его голштинцев, принц Жорж.
– А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? – спросил Мирович.
– Погоди, дойду и до неё… Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица Елисавет-Петровна… По особым важным политическим и статским резонам она, не объявленная в браке, выписала себе в преемники, из Голштинии, своего родного племянника, нынешнего государя, Петра Фёдорыча, когда ему исполнилось уже четырнадцать лет. Помню, как привёз его из Киля во дворец теперешний здешний генерал-полицмейстер, барон Николай Андреич Корф. Грустно было смотреть на этого ласкового и, скажу, с добрым сердцем юношу. Худенький, щуплый, бледный, верой притом, от случайных обстоятельств, лютеранин… чуточку по-французски знал, но, представь – ни слова не говорил по-русски. Такого ли ожидать было в преемники к российскому наследию великого Петра? Учение его в Голштинии совсем было заброшено. Учителя-шведы готовили его на стокгольмский престол и воспитывали, разумеется, не токмо в холодности, а даже в презрении к далёким русским варварам, И таков-то именно он явился, двадцать лет назад, в Петербург… Говорю, добрый он, и к наукам не без склонностей; кое-что и в искусстве сведал: егерь Бастиян выучил его в Голштинии на скрипке играть… Но не повезло племяннику императрицы в России: чуть его доставили, бедного посетила оспа. Государыня-тётка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом обвенчали Петра Фёдорыча, и взял он за себя – выбор счастливый – принцессу разумную, обстоятельную, нравом женерозную[145]145
Женерозитет – великодушие, благородство, щедрость (фр.).
[Закрыть], твёрдую и пылкую, сущий огонь… Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да, друг мой… Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятство!.. Да что! Разве среди нахлынувшей, подобной заморской челяди, убережёшь сердце свято? А Петра Фёдорыча окружили какими наперсниками! Из Киля ему целое войско грубейших голштинских скотин вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять от разумницы, преданной жены. Её общество он променял на компанию своих капралов, на смехи да утехи с вертухой Лопухиной, с дочкой первоначального нашего злодея, Бирона, с девицей Карр и с княжной Шаликовой… Государыня-тётка увидела всё ясно, только уж было поздно. Она даже хотела выслать племянника опять за границу…
– Что вы? – спросил с удивлением Мирович. – Кого же в таком разе объявили бы наследником?
Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.
– Есть один… был, – сказал он, будто про себя. – И судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданий, надежд… На пурпурной бархатной подушке дитятею его народу показывали, чеканили с его портретом монету, присягали ему, манифесты именем его издавали… Прочили русских ему учителей, и меня, нижайшего ещё в той поре студента, думали пригласить…
– Что ж он? умер?
– Умер или, вернее… живой погребён!.. Царственный узник!.. И жив, и вместе мёртв…
– Как жив? какой узник? Отчего ж он не правит? И где он?
– Не спрашивай об этом, голубчик ты мой, Василий Яковлевич, – когда-нибудь в другой раз! А лучше и вовсе никогда.
Ломоносов задумался. Большие строгие его глаза ещё больше затуманились. Из взволнованной далёкими воспоминаниями широкой груди вырвался тревожный хрип. Общее молчание длилось несколько минут. Маятник на стене кабинета мирно тикал.
– А вот я вам, государь мой, – ответил, вдруг резко засмеявшись, Ломоносов, – я вам, для увеселения, мог бы прочесть сочинённый на меня, на Ломоносова, здешними немецкими тупицами злой и преострый пашквиль… На днях в академии на мой стол подбросили… Да очень уж много чести… Гунсвоты! Рвань поросячья!.. Это любимая моя данная им кличка… Попрекают, что я мужик и что не прочь подчас покомпанствовать… То правда… Ругайте, наглецы, слабости, страсти непреодолённы!.. Ругайте и за то, что я – против нашествия языков, а сам, смеху подобно, у немцев учился и на немке женат… Браните. Всё это верно… учился я у немцев, умней нас они, и долго ещё нам не обойтись без них… Но сами-то, сами ругатели хороши ль? Потатчики ошибок и слабостей властелина! Льстецы! Подбили монарха дать вольности дворянству[146]146
Имеется ввиду опубликование манифеста Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762).
[Закрыть]. И господа сенат до того обрадовались, что депутацию прислали благодарить, золотую статую в честь нового Солона хотели отлить[147]147
Солон (ок. 638 – ок. 559 г. до н. э.) – известный законодатель в древних Афинах.
[Закрыть]… Дмитрий Сеченов хвалебную речь на это сказал… И я, грешный, до того всеми был увлечён, что больной оду написал. Да теперь думаю: ну, нешто барам нужны вольности? Народу, вот, друг мой, кому!.. Не твои сытые родичи, извини, – мои сермяжники в них нуждаются, по ним всуе молятся Господу Богу… Оно точно, правду ты, Василий Яковлевич, сказал, не женщина теперь на престоле. Да что, я у тебя спрашиваю, в том толку? Вы там кровь проливали, бессердечного хитроумца и льстеца Фридриха били, а тут перед его портретом на коленки в Рамбове становились, кричали ему с винным бокалом: hoch![148]148
Ура! (нем.).
[Закрыть] и с насмехательством, всякими шпыняньями встречали наши над немцами победы…
– Может ли это быть? – сумрачно спросил Мирович. – Не клевета ли? это чересчур.
– Богом тебе клянусь, не шучу… Говорят новым советникам государя – нет у нас настоящего уложения; он кодекс-фридерицианус для России указал переводить. Бедная Екатерина Алексевна совсем нынче брошена, забыта; набитый пентюх, Лисавета Воронцова, в фаворе[149]149
Елизавета Романовна Воронцова, фаворитка Петра Фёдоровича.
[Закрыть]. Единственного сына государева, Павла, о сю пору не объявляют наледником. И стоят, сплошной стеной стоят, вокруг доброго, доверчивого, но слабого волей монарха не мудрые советники, а молодые вертопрахи, жадные чужеземцы… И уж так-то его берегут… Хотел было я, вглядевшись поближе посатирствовать, войной пойти на эту челядь. Да ну их. Мудра пословица: негоже в крапиву… садиться…
Мирович не спускал глаз с собеседника. Он слушал и не верил своим ушам. Всё, что вскользь говорилось в иностранных газетах и что на их враждебных столбцах могло казаться умышленно злою издёвкой над Россией, подтверждалось устами великого учёного.
«Бог отвернулся от вашей России, – сказал Мировичу в заседании масонской ложи в Кенигсберге один каноник, – она на распутии между Востоком и Западом, тьмой и светом, свободой и рабством… Нужны великие жертвы, нужны смелые мужи добра, иначе уйдёт она в Азию… будет проклята Богом и людьми…»
– О чём говорено, чур, из избы сметья не выносить! – сказал в заключение Ломоносов. – А к Иберкампфу, на Миллионную, на бильярде поиграть и распить ренского, верно, уж не пойдём? Ну, ну… Настасья Филатовна не услышит. Да я, сударь, шучу. Ин и вправду мы на огнедышащем кратере… Не праздновать, не застольные песни, видно, ныне петь. Смирение древних и пост!.. Будем трезвости слугами, будем мудры… Так, к соблазнителям ни ногой?
– Ни ногой, – ответил, задумавшись, Мирович.
– Зарок?
– Зарок…
– Руку!
Новые знакомцы ударили по рукам.
На другой день Мирович молчком пустился в поиски указанных Филатовной камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского. Приглядывался он к домам, к улицам и площадям Петербурга, где мелькнули годы его ученья, и весь он теперь, после чужих краёв, показывался ему таким неприглядным, суровым и бедным.
Петербург в 1762 году был всё тот же, в зимние месяцы – грязный, а в летние – пыльный, малоосвещённый, до крайности разбросанный и на две трети бревенчатый, чухонско-немецкий городок. Жителей в нём тогда считалось с небольшим сто тысяч. Воды его были без набережных, с навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы зимой по улицам чуть не по пояс человека. Вместо улиц, вдоль линии Васильевского острова, шли, как в Венеции, каналы с разводными мостами на перекрёстках проспектов. Кучи навоза и всякой брошенной дряни загромождали тротуары и углы перекрёстков, валялись и, испуская вредные испарения, тлели на площадях. Сор, грязь и мертвечину с улиц и пустырей очищали колодники. Бездомные одичалые собаки, наводя страх на пеших и конных, бродили стаями по городу, бесились и кусали людей. От нищих, калек и всяких попрошаек не было прохода.
Покойная государыня Елисавета Петровна, в болезнях которой под конец чаще и чаще стала грезиться первая ночь её царствования, страдала бессонницами. Она то и дело меняла свои опочивальни. В девять часов вечера никто уже не смел ездить мимо окон её временного, деревянного Зимнего дворца, бывшего на Мойке у Полицейского моста. В девять часов смолкал весь Петербург. Раздавался по городу только бесконечный лай цепных и праздношатающихся собак да оклики на стенах Адмиралтейства и крепости часовых, которых для безопасности иной раз ставили и на перекрёстках. Все помнили ещё недавние времена, когда петербургские улицы, из-за поджигателей, грабителей, воров и всяких непотребных людей, на ночь наглухо запирались рогатками, так как назначаемые для обхода по городу «пристойные партии фузилиров[150]150
Фузилёры – мушкетёры.
[Закрыть] и драгун» оказывались недостаточными. Ещё в присутствии государыни дело городского благоприличия шло кое-как. Во время же её отъездов в Москву – а она там живала по полугоду и более – улицы Петербурга приходили в окончательное запустение и порастали травой. Городские австерии[151]151
Австерия – гостиница, трактир.
[Закрыть], где Пётр I по праздникам любил чинно выпивать, среди матросов и шкиперов, чарку тминной водки, обращались в притоны буйства и дикого разгула.
В грязь по Петербургу не было прохода. Городских извозчиков состояло в то время весьма немного. Пётр III завёл с них сбор по два рубля в год и дал им особые кожаные ярлыки. Люди среднего сословия в те поры более ходили пешком. Богатые и знатные, особенно гвардейские офицеры, ездили в своих экипажах или верхом. Модные щёголи и щеголихи то и дело давили пешеходов. Раз они чуть не до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барам; уличные мальчишки на Гороховой, Луговой (то есть Морской) и даже по Невскому, несмотря на объявления полиции, пускали бумажных змеев и тем пугали и бесили резвых вельможных рысаков. Генерал-полицмейстер Корф, с скакавшими у его кареты адъютантами, не поспевал являться туда, где оказывались беспорядки. Нередко среди белого дня на рынках или у нового, оканчиваемого постройкой Зимнего дворца, между не убранных ещё хибарок, избушек, шалашей и всяких сарайчиков раздавались отчаянные крики подравшейся черни:
– Караул! Грабят! Режут!
Невская першпектива в полдень покрывалась гуляющими. Шли статские щёголи, в чёрных бархатных кафтанах, лосиных панталонах и ботфортах выше колен, либо в розовых и жёлтых шёлковых фраках, с огромными лорнетами, а когда было холодно – с куньими и соболиными муфтами. Щеголихи, с затянутыми, в виде ос, талиями, несли на головах хитро устроенные причёски, на манер рыцарских замков, цветочных корзин, китайских беседок и кораблей. Но и на этой первостатейной улице не обходилось без неприятностей. У кофейной Мура или магазина мод госпожи Токе, не обращая внимания на разряженных в пух и прах прохожих, лежал, растянувшись по тротуару, избитый в кровь и с разорванными портами, мертвецки пьяный матрос. Верховой конногвардеец, с громкой бранью и с обезображенным от злобы лицом, у чьего-то дома стегал хлыстом чужого напудренного и важного кучера за то, что тот не свернул раззолоченной, с кожаными занавесками, кареты и тем помешал ему проскакать вдогонку за какою-то умчавшейся красавицей.