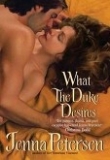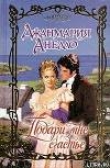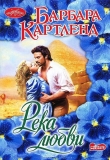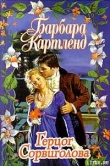Текст книги "Иоанн Антонович"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 59 страниц)
Двадцатого июня 1764 года Екатерина уезжает в Лифляндию.
Событие должно произойти в её отсутствие.
Впоследствии Екатерина утверждала в манифесте, что Мирович не только не видел Иоанна Антоновича, но и не знал, где он находится, в каком каземате Шлиссельбургской крепости.
Нужное утверждение.
О том, в какой казарме находился Иоанн, знали только пять человек: Бередников, Чекин, Власьев, Панин, Екатерина. Иоанн содержался в строжайшем секрете.
Мирович знал, где находился Иоанн.
Четвёртого июля 1764 года, в воскресенье, в 10 часов утра, в Шлиссельбургскую крепость по своим делам приехал подпоручик князь С. Чефаридзев.
Вот показания Чефаридзева.
Чефаридзев и Мирович закусили у коменданта. Потом пошли прогуляться по крепости. Чефаридзев спросил, просто так:
– Мне говорили, что здесь содержится Иоанн Антонович. Так, слухи.
– Я давно знаю. Он здесь, – сказал Мирович.
Погуляли.
– Интересно, – сказал Чефаридзев, – в какой же камере ОН? Или – нельзя? Или – неизвестно?
– Почему? – сказал Мирович. – Можно и известно. (Сегодня ночью операция, почему бы и не поиграть в кошки-мышки?) Пойдём, – сказал Мирович. – И примечай, – сказал он, – как только я тебе куда-нибудь кивну головой, туда и смотри: где увидишь мостик через канал, над мостиком ЕГО окошко.
Адрес точный.
Мирович – знал. Кто же мог сказать ему, где окошко узника? И Бередников, и Власьев, и Чекин – исключаются. В инструкции ясно сказано: в случае выдачи места заключения «безымянного колодника нумер первый» – смертная казнь. Значит, место заключения указала Мировичу Екатерина: разъяснила. Больше – некому. Сговор – был.
В ночь с 4 на 5 июля происходит событие. Власьев и Чекин великолепно выполнили инструкцию. Екатерина недаром написала столько пьес и опер. Премьера этого спектакля прошла блестяще.
Мирович обманут. Он не ожидал убийства. Он действовал безукоризненно. Он всё предусмотрел. Они договорились даже о том, чтобы во время операции не было никаких жертв, никакой крови. Какая материнская забота государыни о своих чадах! Мирович должен был так расположить свою команду, чтобы никто никого не ранил. С обеих сторон было выпущено СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ патрона! И – ни одного убитого, ни одного раненого. Стреляли с расстояния ДЕСЯТЬ – ПЯТНАДЦАТЬ шагов!
Не меньшую заботу об убитом императоре проявил и Н. Панин. 6 июля 1764 года Панин писал Бередникову:
«Мёртвое тело арестанта имеете вы предать земле в церкви или в каком другом месте, где бы не было солнечного зноя и теплоты. Нести же его в самой тишине».
Начинается следствие.
Мирович убеждён: получилась нелепость, императрица его не бросит. С подпоручиком обходятся прекрасно: хорошо кормят, позволяют бриться и не допрашивают. Ему только не дают газеты и не разрешают ни с кем разговаривать. Поэтому Мирович ничего не знает, он целиком полагается на сговор с императрицей и сочиняет всевозможные были и небылицы – пять пунктов о своём офицерском достоинстве (см. версию первую), чтобы представить себя единственным виновником события.
Этого только и нужно Екатерине. Мирович не знает закулисной игры. А игра идёт простая: спектакль сыгран, актёра нужно убрать.
Почему же с такой страстью Екатерина и её приспешники настаивают на том, что у Мировича не было сообщников? Казалось бы, наоборот: произошло серьёзное антигосударственное событие, подпоручик не мог действовать в одиночку, наверняка замешаны многочисленные враги Екатерины, необходимо их искать и отрубать головы, как она и делала и раньше и позднее.
Но – нет.
Панин пишет:
«Не было в сём предприятии пространного заговора».
Екатерина:
«Я опасаюсь, чтоб глухие толки не наделали бы много несчастных… Мирович виноват один».
«Осторожность вашу не иначе как похвалить могу, что вы за Мировичами приказали без огласки присматривать. Однако если дело не дойдёт до них, то арестовывать их не для чего, понеже пословица есть: брат мой, а ум твой».
При чём здесь пословица? Она боится Запорожья.
Екатерина всех успокаивает, никого не подозревает. Она даже пишет обращение к Смоленскому пехотному полку, в котором служил Мирович:
«Преступление, учинённое злосердием одного, не может вредить других, никакого участия в том не имевших».
Какая предупредительность. «Злосердие одного»!
Почему Екатерина так старательно не хочет расследовать это дело? Ответ только один – был сговор. Если дело расследовать – всё откроется: Власьев и Чекин – проинструктированные жандармы, Мирович – сам спровоцированный провокатор, автор же убийства – ОНА!
Императрица торопит Сенат. Сенат – Верховный суд. Простого подпоручика судили СОРОК ВОСЕМЬ сановников империи: митрополит Дмитрий, архиепископ Гавриил, епископ Афанасий, архимандрит Лаврентий, архимандрит Симеон, граф К. Г. Разумовский, граф А. Бутурлин, князь Я. Шаховской, граф П. Чернышёв, граф З. Чернышёв, граф И. Чернышёв, граф М. Скавронский, граф Р. Воронцов, граф Н. Панин, граф П. Панин, Ф. Ушаков, Н. Муравьёв, Ф. Милославский, А. Олсуфьев, князь П. Трубецкой, граф B. Фермор, С. Нарышкин, Л. Нарышкин, граф Эрнст Миних, C. Мордвинов, граф Минних, И. Талызин, князь А. Голицын, вице-канцлер князь А. Голицын, граф И. Гендриков, Д. де Боскет, И. Бецкий, граф Г. Орлов, граф С. Ягужинский, Ф. Эмме, барон А. Черкасов, И. Шлаттер, А. Глебов, Ф. Вадковский, Г. Вейнмарн, барон фон Диц, Н. Чичерин, Я. Евреинов, Д. Волков.
Такой высокий состав суда – неспроста.
Екатерина знала, что делает: свои сановники и иностранные представители (Беранже, Прассе, Гольц) должны были разнести по всей вселенной весть о ЕЁ невиновности, – и разнесли. Весть – молва – легенда.
Императрица приказала князю А. А. Вяземскому, генерал-прокурору Сената, глядеть за каждым членом Сената, слушать каждое слово и доносить ей – обо всём.
«Возмутителя Мировича, нимало не мешкая, необходимо взять в Царское Село и в скромненьком месте пыткой из него выведать о его сообщниках. Нужно у него в рёбрах пощекотать, с кем он о своём возмущении соглашался?»
Первого сентября 1764 года – очередное заседание Сената. Обер-прокурор Соймонов и барон Черкасов – обсуждают вопрос о пытке. Генерал-прокурор Вяземский[364]364
Вяземский Александр Александрович (1727—1793) – князь, генерал-прокурор Сената с 1764 по 1792 г.
[Закрыть] приказывает: прекратить!
Черкасов возмутился. Он написал «собственное мнение». Он обращался к Сенату:
«Нам необходимо нужно жестокой пыткой злодею оправдать себя (себя – Сенат, нас, судей!) не только перед всеми живущими, но и следующими по нас родами. А то опасаюсь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися, или и комедиантами».
Президент государственной медицинской коллегии барон Александр Черкасов был совестлив. И проницателен. Этот суд так и остался в истории: фарс.
Екатерина сделала Черкасову выговор: «Вместо того чтобы побыстрее закончить пустяковое дело, вы, барон, вздором и галиматьёй занимаетесь».
Побыстрее.
То же самое она написала и Вяземскому:
«Одним словом, шепните иным на ухо, что вы знаете, что я говорю, что собрание, чем ему порученным делом заниматься, упражняется со вздором и несогласиями».
Побыстрее!
«Порученным делом заниматься». То есть без последнего следствия, только по предварительному, а следовательно – без суда приговорить Мировича к смертной казни. Концы – в воду…
По всей России прогремели письма митрополита Арсения Мацеевича, который самым серьёзным образом предупреждал императрицу, что если Мировича не будут пытать, то подозрение, так или иначе, падёт на Екатерину – если она противница пытки, значит – сообщница. Мацеевич был темпераментен и мудр, но Екатерина уже разжаловала его, судила 14 апреля 1764 года и сослала.
Мацеевич протестовал из ссылки.
Восходящее солнце полиции, будущий (самый страшный в России) глава Тайной канцелярии С. Шешковский (то ли перестраховался, то ли переборщил!) тоже потребовал пытки Мировичу. Он сказал, что сообщники – существуют. Екатерина воспротивилась. Не из жалости к преступнику, совсем нет. Вспомним пресловутый заговор Хрущёвых – Гурьевых. Болтунов пытали несколько суток – самыми зверскими способами.
Государственного преступника, провокатора убийства императора Иоанна Екатерина – отказывается пытать! Запрещает. На Шешковского налагается взыскание. ЕКАТЕРИНА БОЛЬШЕ МИРОВИЧА БОЯЛАСЬ ПЫТКИ. ПОД ПЫТКОЙ МИРОВИЧ МОГ ЗАГОВОРИТЬ. А ВЕДЬ СУЩЕСТВОВАЛ СГОВОР.
К Мировичу были приставлены (всё те же!) К. Разумовский, Н. Панин, П. Панин – чтобы «уговорили преступника признаться». Но такие «уговоры» – не решение Сената, Сенат совсем растерялся: так – приказала императрица. ЕКАТЕРИНА БОЯЛАСЬ – ОНА ИЗОЛИРОВАЛА МИРОВИЧА ОТ СУДА, приставив к нему преданную ей троицу.
И тогда-то Мирович всё понял. И подпоручик помогает императрице – сам!
Примечание к протоколу. Заседание суда 9 сентября 1764 года:
«Примечена в нём окаменелость, человечество превосходящая…» Судьи заметили состояние Мировича – он был потрясён таким предательством, такой провокацией.
Он встал.
Он сказал:
– Недолго владел престолом Пётр Третий, и тот от пронырства и от руки жены своей опоён смертным ядом. После него же не чем иным, как силою обладала наследным престолом Иоанна самовлюблённая расточительница Екатерина, которая из Отечества нашего выслала на кораблях к родному брату своему, к римскому генерал-фельдмаршалу князю Фридриху-Августу, на двадцать пять миллионов денег золота и серебра, и, сверх того, она через природные слабости свои хотела взять себе в мужья подданного своего Григория Орлова с тем, чтобы из злонамеренного и вредного Отечеству её похода (путешествие в Остзейские провинции) – не возвратиться, за что, конечно, она перед Страшным судом не оправдается.
Мировича предупреждали, что его ожидает помилование (как бы там ни было!), что помилование засекречено, что награды – приготовлены, только бы он молчал о сообщничестве.
Но в эту игру Мирович уже не хотел играть. Он почувствовал себя обманутым и оскорблённым, кровь предков, кровь рода – заговорила. Прозвенели цепи, прозвенели и отзвенели, Панин и Разумовский увели Мировича «уговаривать», и напрасно: теперь и под пыткой он не выдал бы соучастия императрицы, он ЕЁ теперь так ПРЕЗИРАЛ – не рассказал бы, не произнёс бы вообще вслух её имя.
И – не произнёс.
Мировича привезли накануне в какой-то, похожей на кораблик, карете, дверцы оклеены какой-то кожицей с цветочками. В таких каретах возили почту или казённые деньги. Конный конвой (башкирцы) сопровождал карету до эшафота, а потом оттеснили толпу, образовалась окружность радиусом метров в двадцать, по окружности расставили роту мушкетёров, а башкирцы летали на лошадках туда и сюда – конвоировали.
Эшафот построили за одну ночь – не хотели волновать обывателей: излишние сплетни, сенсации, – ночью металось два костра, поморосил дождик и прошёл, в переулках голосили гуляки, к утру получилось то, что надо – сруб из брёвен с лесенкой. Всё-таки «сие сооружение» было уродливо, на брёвнах пестрели сучки, и командир мушкетёрской роты капитан Д. Корольков откомандировал к полицмейстеру С. – Петербурга барону Н. Корфу курьера: не покрасить ли «сию архитектуру»?
Пока полицмейстер просыпался и застёгивался, пока соотносился с начальником Тайной канцелярии графом Н. Паниным, а тот, в свою очередь, испрашивал «именных повелений» у Екатерины, а та выразила «высочайшее согласие на приведение места казни в божеский вид», – прошло утро, пора уже было начинать казнь, весь Петербург теснился в Обжорном ряду, проталкиваясь в толпе, девушки-аристократки устраивались на крышах карет, а девки – на водовозных бочках, дети, как всегда в таких случаях, плясали на плечах у родителей и размахивали разноцветными леденцами на палочках, на холмах домов примостились подмастерья со всеми своими кирзовыми сапогами и самодельными трубками, собаки растеряли хозяев, и невозможно было разыскать в непроходимой толпе родственника.
Седовласый маляр с металлическими зубами (иностранец), в спецовке, в штанах из чёртовой кожи, нежно макал кисть в цинковое ведро с масляной краской – докрашивал последнюю ступеньку лестницы, докрасил, опустил кисть в ведро и ушёл в толпу, его пропустили.
Мировича привезли накануне, чтобы не было паники, лошадей выпрягли и увели, оглобли опустились на землю; знали или не знали, что там, в карете?
Эшафот был покрашен самой дорогой краской, золотой, солнце слепило, и краска слепила. Землю вокруг эшафота посыпали песком, тоже золотым почему-то, прибалтийским, как будто предстояла не казнь, а премьера итальянской оперы. По песку порхали (повсюду!) воробьи, они что-то искали в песке, мёртвых мух, что ли, и что-то клевали, муравьёв, может быть.
Палач поднялся на помост первым, он шёл балансируя, чтобы не поскользнуться на свежей краске, на лесенке появились тёмные пятна от его тяжёлых подошв, палач был одет в чёрно-красный балахон с капюшоном, – прорези для глаз, а у капюшона заячьи уши – тоже оперный гардероб. Палач, как ружьё, нёс на плече большой блестящий топор; кто выковал такой топор, какой инженер мучился над этим уникальным инструментом, или разыскивали в арсенале Анны Иоанновны, ведь после смерти Анны Иоанновиы не было ни одной публичной казни – двадцать два года.
В общем, никому не приходило в голову, что казнь состоится, – слишком похоже на фарс.
А потом произошло следующее.
Карета шатнулась. Разлетелась кожаная дверца с цветочками. С подножки кареты на лестницу прыгнул офицер – блеснули пуговицы, – упал на ступеньки, закарабкался по-собачьи наверх, на коленях, на ладонях, встал на помосте во весь рост, перекрестился быстро-быстро, махнул палачу – и палач, как послушная машина, опустил топор.
Ни вздоха. Никто не осмыслил, не сообразил. Увидели: наверху, в воздухе, блеснула ладонь, измазанная золотом, и блеснул большой топор.
Потом брызнула кровь, потом хлынула кровь, блестящие брёвна всё чернели и чернели, народ смотрел во все глаза – где голова? А голова упала с эшафота и покатилась по песку, переворачиваясь, она уже лежала (с чистым, незамазанным лицом), а из горла, снизу, на песок выливалась кровь, и только цыганские кудри чуть-чуть пошевеливались и поблёскивали.
Засуетились солдаты, палач стоял надо всеми, на помосте, ни на кого не смотрел, в капюшоне, с топором на плече.
Дверца кареты распахнута, а на подножке – солдат с морщинистым лицом, в руках он слабо держал кандалы.
Появился полицмейстер, и священник полез на эшафот.
Полицмейстер, белёсый немец, моргал куриными очами, бегал со своей саблей и кричал голосом, растерянным и детским:
– Кто снял кандалы? Кто снял кандалы, дьявольщина!
Священник полез к палачу и зашумел, размахался крестом, а палач кое-как высвободил из-под балахона руку и показал священнику свои часы с цепью.
Мирович был казнён точно: минута в минуту.
Василия Яковлевича Мировича казнили 15 сентября 1764 года на Петербургской стороне, в Обжорном ряду.
Державин писал:
«Осенью случилась поносная смертная казнь на Петербургской стороне известному Мировичу. Ему отрублена на эшафоте голова. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились».
Бильбасов писал в 1888 году, через сто двадцать четыре года после казни Мировича:
«Записанное поэтом аханье толпы, колеблющиеся мосты – единственное сообщение русского современника о впечатлении, произведённом казнью Мировича на русское общество. Русские люди привыкли быть осторожными, научились уже быть необщительными, они предпочитают молчать. Наша мемуарная литература крайне бедна, у нас мало записок, да и те под запретом».
Пятнадцатого сентября 1764 года был солнечный петербургский день, листья уже пожелтели, но ещё не опадали. Они свисали с деревьев, вялые и влажные.
В магазине кружев мадам Блюм появились чудесные брюссельские перчатки для девушек не старше пятнадцати лет. Но сейчас витрины были завешены железными гофрированными шторами, а под шторами, чуть-чуть над тротуаром, висел бронзовый литой замок, отполированный, как золотой.
Церкви стояли, как голубые статуи в металлических шлемах.
Караул уже уехал. Оливковые кареты с гербами уже умчались. Солдаты ушли в кабаки. У магазинов мод ходили девушки со страстными глазами. Но оживления – не было.
Петербург был растерян и потрясён.
Слухи о великодушии императрицы – распространялись. Все ожидали помилования.
Украинский писатель Г. Ф. Квитка-Основьяненко писал:
«Екатерина располагала непременно даровать жизнь преступнику. Скрытно от окружающих она подписала о сём указ, чтобы выслать указ к эшафоту перед самым исполнением казни. Но она была обманута действовавшими: казнь была совершена днём раньше. Может быть, некоторые были заинтересованы, чтобы Мирович был казнён скорее».
Может, и были эти некоторые. Но сведения о том, что «казнь была совершена днём раньше», сочинил сам Основьяненко.
Казнь была совершена в срок – минута в минуту.
Правительственные газеты с облегчением писали:
«Великолепный карусель, данный Екатериной Второй на Царицыном лугу, и вслед за тем торжественный въезд в Петербург турецкого посла, осенью того же года, изгладили из памяти жителей столицы впечатление, произведённое на них казнью Мировича».
ПримечаниеПеред казнью Мирович написал стихотворение. Вот оно:
Проявился, не из славных, козырной голубь, длинноперистый,
Залетал, посреди моря, на странный остров,
Где, прослышал, сидит на белом камне, в тёмной клеточке,
Белый голубок, чернохохлистый…
Призывал на помощь Всевышнего Творца
И полетел себе искать товарища,
Выручить из клетки голубка.
Сыскал голубя долгоперистого,
Прилетел на Каменный остров,
И, прилетевши к белому камню,
Они с разлёта разбивали своими сердцами
Тот камень и тёмную клеточку…
Но, не имея сил, заплакав, оттуда полетели
К корабельной пристани, где, сидя и думаючи, отложили,
Пока случится на острове от моря погода, —
Тогда лететь на выручку к голубку…
Оттуда, простившись, разлетелись —
Первый в Париж, а второй в Прагу…
Аллегории Мировича нетрудно расшифровать, они просты и прозрачны. Поэтому поневоле напрашивается ещё одна версия: почему – в Париж? в Прагу?
1968
КОММЕНТАРИИ
Об авторах
КАРЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (1823—1885), историк, публицист, прозаик. Из старинной дворянской семьи. Окончил историко-филологический факультет петербургского Главного педагогического института (1844). В 1845—1850 годах учительствовал в Тульской, затем в Калужской гимназиях. С 1850 года – правитель канцелярии попечителя учебного округа в Вильне, с 1854 года – коллежский советник, с 1856 года – член-сотрудник Виленского музея древностей и Виленской археологической комиссии. В 1857 году вышел в отставку. Занимался общественной деятельностью. Первые публикации – перевод с древнегреческого комедий Аристофана «Облака» и «Лисистрата» (1845). Карнович – автор многочисленных публицистических статей, очерков на юридические, статистические, исторические, литературно-критические темы, исторических хроник и монографий, исторической беллетристики. Написанные им исторические повести и романы по жанру примыкают к беллетризированной монографии и основаны на строгом следовании фактам. К ним относятся: «Самозваные дети» (1878), «Любовь и корона» (1879), «На высоте и на доле» (1879), «Мальтийские рыцари в России» (1880), «Придворное кружево» (1884).
Роман «Любовь и корона» печатается по изданию: Карнович Е. П. Собрание сочинений в 10-ти книгах. М., А. А. Петрович, 1909, кн. 5-6.
ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1828—1890), прозаик, публицист. Представитель старинного дворянского рода. Учился в московском Дворянском институте и на юридическом факультете Петербургского университета. В 1850—1857 годах служил чиновником по особым поручениям министерства народного просвещения. По выходе в отставку вёл активную общественную деятельность: был депутатом харьковского комитета по крестьянскому делу, членом училищного совета, губернским гласным и членом губернской земской управы в Харькове, почётным мировым судьёй, присяжным поверенным (1868), с 1869 года – помощник главного редактора «Правительственного Вестника», а с 1881 – главный редактор и член совета главного управления по делам печати. Печататься начал в 1846 году (стихотворение «Славянская весна»). Переводил драмы и поэтические произведения Шекспира, Байрона, Лонгфелло, Шиллера, Мицкевича. Автор выдержавших несколько изданий стихотворных «Украинских сказок». Читательскую известность Данилевский получил благодаря романам «Беглые в Новороссии» (1862) и «Воля», «Беглые воротились» (1863), вышедшим под псевдонимом А. Скавронский. После написания романов «Новые места» (1867) и «Девятый вал» (1874) перешёл почти исключительно к исторической тематике: «Потёмкин на Дунае» (1878), «Мирович» (1879), «На Индию при Петре» (1880), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожжённая Москва» (1886), «Чёрный год» (1889) и др.
Текст романа «Мирович» печатается по изданию: Г. П. Данилевский Мирович. – М., Правда, 1985.
СОСНОРА ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, родился в 1936 году в г. Алупка. Участник ленинградской блокады. В 1955—1958 годах служил в армии вычислителем артиллерийских и миномётных частей. В 1958—1963 годах учился в Ленинградском университете. Член Союза писателей с 1963 г. Первая книга стихотворений вышла в 1962 году. Читал лекции в Венсенском университете (Париж, 1970, 1979), в разных университетах США в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы. Переведён на большинство европейских языков. Живёт в С. – Петербурге.
Текст повести «Две маски» печатается по изданию: Соснора В. А. Властители и судьбы: Литературные варианты исторических событий. – Л.: Советский писатель, 1986.