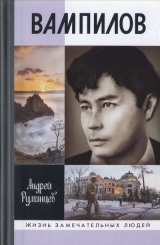
Текст книги "Вампилов"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Но у Саши это неравнодушие было иным, чем у других, особенным. Его чтение книг уже тогда можно было назвать «писательским». Например, в наших разговорах он никогда не спрашивал: «Помните такой-то роман, повесть, рассказ?» – имея в виду содержание произведения. Он обращался к нам:
– А помните, ка́к Нюнин в чеховской «Свадьбе» представляет Харлампия Спиридоновича Дымбу?
Мы силились вспомнить – и пожимали плечами.
– Кажется, греком…
– «Иностранец греческого звания по кондитерской части!» – сочно произносил Саша.
Если он вспоминал сцену из романа, повести, а пуще того – из пьесы, то довольно точно воспроизводил, что сказал герой и чем он в это время был занят. Он запоминал не только ситуации, но и жест, фразу героя, а это, по-моему, особенность профессиональная, писательская.
Позже я думал иногда над вопросом: почему Саша с самого начала студенческой жизни стал лидером среди нас? Ведь сам он ничего не делал для того, чтобы выделиться, утвердить свое главенство, да и мы ни шутя, ни всерьез, ни явно, ни тайно не выбирали себе вожака, а между тем его лидерство было несомненным. Оно сложилось быстро и как бы само собой и принималось нами с внутренней радостью. Выражалось оно прежде всего в том, что к мнению Саши прислушивались, его дружбой дорожили. Почему? Попытаюсь найти ответ.
В нем не было той резкости, угловатости, которые кажутся естественными и извинительными в молодости. Я не помню ни одного спора с его участием, который бы сопровождался криком, ни одного расхождения во мнениях, которое бы закончилось стычкой. Он не любил высоких тонов, запальчивой категоричности. Говорил мягко, спокойно, и если иногда обижал какого-нибудь заядлого спорщика, то именно тем, что высказывал свои доводы саркастически едко и, не в пример тому, лаконично.
Впервые от него я услышал обращения: «матушка», «братец». Он и в нашем кругу говорил: «Матушка просила…» или «Братец посоветовал…» Эти слова не казались приторными, от них веяло нежным, домашним, детским.
Много позже, узнав о дружбе Вампилова с Николаем Рубцовым, я подумал, что, может быть, от Саши пришло сердечное «матушка» в стихи поэта, который, как известно, остался сиротой в раннем детстве и мог – от одного вампиловского слова – пронзительно ощутить сыновнюю любовь:
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Речь Вампилова трудно воспроизвести. Хорошо помнятся многие разговоры студенческих и более поздних лет – их содержание, – но иные из них я не берусь передать дословно. Если Саша рассказывал что-то, то стремился найти точные, часто юмористически окрашенные выражения. Казалось, что шутливое, а то и острое словцо гнездится у него на кончике языка. Например, при знакомстве с девушкой на ее вопрос, учится он или работает, Саша мог ответить:
– Работаю. В цирке цыганом.
В мужской компании на удивленный вопрос одного приятеля:
– Слушайте, а чего это он женился на женщине, которая старше его на семнадцать лет? – ответил:
– Может быть, у него в детстве не было бабушки…
До сих пор помнятся многие его фразы, звучавшие в разговорах, а затем перешедшие в записную книжку: «Слова, настоянные на спирту»; «Бледный от ревности»; «Лицо помятое, как будто кто-то выспался на нем»; «Весной даже от обувной фабрики пахнет конфетами»; «“Какой вы нахал”, – сказала она с уважением»; «Душой я страстный, но тело у меня вялое»; «С похмелья. Развертывает утром газету: “Взглянуть, что делается в трезвом мире”».
Он и в будничной беседе продолжал словесное творчество, с удовольствием повторял удачную фразу, с ходу изменял неудачную. Умел помочь собеседнику, толкующему о своем долго, туманно, витиевато, выразить ускользающую мысль коротко и ясно. Мог сбить неуместный пафос рассказчика одним лукаво произнесенным словом. Очень хорошо подхватывал чужую мысль и заканчивал ее в своем ироническом ключе. Однажды мы сидели в комнате однокурсницы, и хозяйка пожаловалась, что уже пятый год учится фотографировать – и все без толку. Я, смеясь, сказал:
– Только женщина может столько лет осваивать несложное дело…
– …и, наконец, заявить, что оно непостижимо, – закончил Саша.
В нашей болтовне часто шли в ход фразы классиков, вроде чеховских: «Что такое слезы человеческие? Малодушная психиатрия, и больше ничего!» или «Человек вы почтенный, а с женщинами держите себя так, как какой-нибудь Джэк». А уже как продолжение этих шуток – собственное вампиловское творчество: «Я впечатлительный – я жениться могу»; «Впал в бесскандальное элегическое настроение»; «Шел с пьяной грацией».
Какие еще качества выделяли его? В нем было необыкновенно развито чувство товарищества. Он не жалел для друзей ничего: ни душевных сил, ни времени, ни средств. «Сам погибай, а товарища выручай» – по этой русской пословице он поступил и в последние минуты своей жизни.
У него, например, было правило: всюду, где приходилось платить деньги – в столовой, в кинотеатре, у входа на танцплощадку, – он рассчитывался только сам. Ты мог сделать это лишь тогда, когда у Саши не оказывалось денег. И голодным ты ходил только в том случае, когда в кармане Вампилова, как и у тебя, не оставалось ни гроша.
Но важнее было другое – тонкость и деликатность, которые Вампилов вносил в отношения товарищества. Мне трудно подтвердить это каким-то особенным, убедительным примером из нашей тогдашней жизни. То, о чем я говорю, пропитывало и речь, и поступки, и все поведение Александра.
В учебе ребята нашей группы, в том числе и Вампилов, особого рвения не проявляли. Стипендию, правда, все студенческие годы получал каждый. Это значит, что провала или посредственной оценки на экзаменах мы избегали (с «тройками» тогда стипендию не давали). Но стремления к высоким оценкам, к успехам пусть не во всех, но хотя бы в отдельных университетских дисциплинах, никто не выказывал. Отчасти это объяснялось, наверное, тем, что лекций, которые вызывали бы особый интерес, оживленные толки и обсуждения в студенческой среде, не читалось. Разумеется, были преподаватели, любящие свой предмет. Но не возникало между нами и большинством наших наставников особой душевной привязанности. И сейчас, когда я читаю в статьях о Вампилове утверждения, что кто-то из университетских преподавателей сразу приметил в студенческой массе «паренька с живыми азиатскими глазами», «тонкими артистическими пальцами» или что его страсть к книгам и театру «умело подогревалась» дальновидными профессорами, то мысленно говорю авторам: не лукавьте, выдавая за истину ваши домыслы. Наоборот, можно только удивляться, что в те времена мало кто из педагогов университета интересовался творчеством студента, который в течение трех лет, начиная с третьего курса, постоянно публиковал в вузовской многотиражке оригинальные рассказы.
Конечно, наставники наши читали их, возможно, даже отмечали для себя, в уме, что автор не без способностей, но никто не проявил желания и не нашел времени, чтобы поговорить с ним; исключение – Василий Прокопьевич Трушкин, опекавший начинающих авторов в литературном объединении.
А обыденные отношения с педагогами – что ж, они были добрыми, иногда, на строгий административный взгляд, даже непозволительно дружескими. К примеру, старший преподаватель С., который вел курс «литературное редактирование», аттестовал нас в конце года так: побеседовал со всеми разом, поставил каждому желанный зачет и тепло попрощался.
Бывали и курьезные случаи. На экзамен по истории КПСС мы пришли в неважной форме: так уж совпало, что накануне вечером отметили в общежитии чей-то день рождения. Саше выпал билет, согласно которому он должен был рассказать о десяти «сталинских ударах», повергших фашистскую Германию в прах. Дело было уже после XX съезда партии, ореол «вождя народов» померк, но – странное дело – миф о полководческом даре вождя продолжал жить, во всяком случае, в вузовских учебных программах. И по воспетому Сашей «стечению обстоятельств» рассказывать мифическую историю разработки «гениальным стратегом» известных военных операций выпало ему, сыну «врага народа»!
Вампилов непочтительно, даже в саркастических выражениях, излагал свои мысли по поводу сталинских военных талантов. Он вяло водил указкой по карте; один из «ударов», если судить по жесту нетвердой руки, был нанесен совсем в удивительном месте, чуть ли не в районе Норильска. Преподаватель, в вытертом, прохудившемся галстуке и с красным носом, тоже недомогал в это утро, поэтому слушал рассеянно, блуждая беспокойным взглядом по столу, полу, окнам; мысли его витали далеко от этой комнаты. Вампилов получил хорошую оценку.
Однокурсник Владимир Мутин рассказал другую историю:
«А помнишь, как Саня сдавал немецкий? Пришел на экзамен, выучив одну фразу: “Гиб мир драй”. “Что вы хотите?” – задает преподаватель вопрос. “Гиб мир драй: дайте мне тройку…” – “Битте”, – отвечает экзаменатор и просит зачетку, смеясь вместе со студентом».
Конечно, не только из курьезов складывалась наша студенческая жизнь. Было стремление узнать новое, разобраться, понять… Мне кажется, мы не стремились быть поближе к своим Наставникам еще и потому, что многого ожидали от общения друг с другом. Такие разные, мы уже могли что-то дать друг другу или, в конце концов, сообща добыть то, что обогащало душу.
И странным образом соединила нас судьба: все ребята в нашем кружке были совершенно равнодушны к общественным должностям, к «постам», к которым рвались студенческие функционеры. Примеры идейного словоблудия, лицемерия в общественном поведении давали, конечно, старшие.
Вспоминаются образчики наших университетских воспитателей. В многотиражке вышла страница, подготовленная членами литературного объединения. Если в глубине души наш брат, стихотворец, и рассчитывал на чье-то внимание, то разве что только однокурсниц. Но никак не ректора. А именно он, кандидат физико-математических наук, разразился в следующем номере большущей статьей, в которой по-отечески отстегал безусых лириков (я перечитал ее в подшивке, как давний, полузабытый анекдот).
Посмотрите-ка: одному, оказывается, всего дороже «веселый ритм и музыка полей и тихой ночью лунное сиянье». «Ни слова не сказано, – возмутился папа-физик, – о народе, о труде, о борьбе за построение коммунизма». Второй, понимаете ли, «целый мир любить готов». «Целый мир без всяких оговорок, – вышел из себя ректор, – а ведь в мире наряду со светлой частью имеется и темная, есть империализм».
Где-то на втором году учебы, в сентябре, наш курс, как обычно, работал в колхозе. Курс – это две учебные группы, полсотни человек. Выдумщиков хватало: выступали в сельском клубе с наскоро подготовленными концертами, выпускали шутливую стенгазету, украшали барак, где жили, смешными лозунгами. И тут в деревню нагрянула университетская комиссия, надзиратели над нашим «морально-политическим духом». Смурные гости записали что-то в блокноты и отбыли. По возвращении в город на первом же комсомольском собрании мы услышали гневные речи преподавателей и студенческих функционеров. Декан факультета, неряшливо одетый человек, взвизгивая, кричал с трибуны, что студент Н. (украшавший стенгазету призывами типа: «Дальше от начальства, ближе к кухне!») «поет с голоса реакционного американского публициста Рестона».
Это была какая-то вакханалия фарисейства и тупости. Но сегодняшний читатель может убедиться по записным книжкам Вампилова: он уже тогда фиксировал образ времени без ретуши и суд над ним вершил без боязни. Прочтите: «У дураков всегда больше принципов»; «Чрезмерная святость, как и фанатизм, всегда ведут к изуверствам»; «Слова “любить”, “люблю” звучали в его устах страшно неестественно»; «Разгул слабоумия». А какая зрелость ума, духовная свобода видны в такой записи: «Опричнина, коммунисты, фашисты, лейбористы, маккартисты – все это временные категории. Дураки, умные, любимые, нелюбимые – категории вечные».
Отношение Александра к тогдашней комсомольской бюрократии точно передал Игорь Петров: «Началось это на первом курсе, когда после избрания комсорга он очень серьезно предложил включить в план работы комсомольской группы коллективный выход… в планетарий. В первый раз, да на первом курсе, когда еще сильна была инерция школьного комсомола, это предложение приняли нормально и включили его в план. Правда, пожелание рядового комсомольца группа так и не осуществила. Однако каждый год при составлении очередного плана Вампилов первым поднимал руку и тихим, невинным голосом предлагал этот самый злополучный “коллективный выход в планетарий”. То, что это издевка, все прекрасно понимали».
Но вне университета у Саши и его приятелей начиналась другая жизнь. Все же время на наше поколение свалилось благодатное: после крещенской стужи диктата, однообразия мнений, запретов на всё и вся – возвращенные имена в отечественном искусстве и вновь открываемые величины в культуре зарубежной, ожидание больших перемен, радужные надежды…
* * *
Особое место в этой весенней жизни занимало чтение.
Осенью «оттепельного» 1956 года вышел двухтомник Есенина. Вампилов и его друзья полдня прели, зажатые тугой толпой покупателей, в книжном магазине на улице Ленина, – и каждый обзавелся драгоценным изданием. Через год кто-то по счастливой случайности приобрел томик Павла Васильева, его читали и сообща, и в одиночку, передавая из рук в руки. После набивших оскомину стихотворных прописей его поэзия – буйная по краскам, плотски жаркая и душная – пьянила, как хмель:
Да то не сказка ль, что по длинной
Дороге в травах, на огонь,
Играя, в шубе индюшиной,
Без гармониста шла гармонь?
Что ель шептала: «Я невеста»,
Что пух кабан от пьяных сал,
Что статный дуб сорвался с места
И до рассвета проплясал!
В те же дни будущие филологи открыли для себя Бориса Корнилова, Исаака Бабеля, Андрея Платонова, Артема Веселого, Ильфа и Петрова… Книги лежали в общежитии студентов под подушками, на тумбочках, в фанерных ящиках под каждой кроватью. Саша приходил в комнату однокурсников почти каждый день, садился на койку, читал вслух «Одесские рассказы» или «Золотого теленка». И уже среди прежних, знакомых тирад, то и дело звучащих по поводу и без повода, вперемежку с чеховскими или гоголевскими, изрекались новые: «Пусть вас не волнует этих глупостей…»; «Он думает об выпить хорошую стопку водки…»; «Бензин ваш – идеи наши…»
Борис Кислов принес книжку, вышедшую в большой серии «Библиотеки поэта» – у автора было уменьшительное, детское имя: «Саша Черный». Читали опять же вслух, обсуждали. Казалось внове, что сатирическое жало стихов, изящных и едких, направлялось не против политических врагов или сил, мешавших общественному развитию, а против обыкновенного, тихого, заплесневелого быта, который живуч при любых формах жизни. Поискали и нашли книги других сатириков, чьи имена стали носиться в воздухе. Вампилову очень нравились эпиграммы Александра Архангельского, наиболее эффектные из них он помнил наизусть и при случае декламировал.
Я выбрал для дипломной работы Есенина – кого же еще! Потребовалось знакомство с писателями его времени, с его окружением. Взял пропуск в спецфонд университетской библиотеки и прочел – о ужас! – статью Бухарина о поэте, «Роман без вранья» Мариенгофа, стихи Клюева, Клычкова, Ширяевца, Наседкина, а к ним строфы того же Мариенгофа, Шершеневича, Кусикова, мрачные книжонки Крученых о есенинской судьбе и творчестве. Когда выписал книги Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, был потрясен, что собрание сочинений последнего состояло из двадцати с лишним томов. В темной, задымленной курилке библиотеки делился с Сашей своими открытиями; пытался вынести ему – хотя бы на пару часов – «Роман без вранья»: Вампилов очень интересовался этой книгой, заклейменной Горьким.
Набрасывались и на зарубежных авторов, чьи книги появились на прилавках магазинов. Открывались Хемингуэй, Ремарк, Сент-Экзюпери, Кафка и многие другие… у каждого были свои кумиры. Тогда впервые прочел Вампилов О. Генри, ставшего его любимым писателем. Сидя на железной койке в нашей убогой студенческой комнате, он элегантно произносил строки, особенно понравившиеся ему: «Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза»; «Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка». Это терпкое вино фразы составляло одно из блаженств Вампилова. Он и из Бабеля с большим удовольствием повторял не смешную тарабарщину еврейских диалогов: «Что сказать тете Хане за облаву? – Скажи: Беня знает за облаву…», а необыкновенные метафоры автора: «Несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре» или «Пьяницы валялись на дворе, как сломанная мебель…» Уже позже, в публикации из записных книжек Вампилова, прочел я его признание: «Меня удивил Бабель. Яростный, ослепительный стиль».
Еще долго, да всю жизнь, будем мы нести восхищение и благодарное чувство к чародеям слова. В столетний юбилей О. Генри Вампилов не удержался, написал для читателей молодежной газеты о своем любимом авторе – излил душу.
Давняя и неослабевающая привязанность была у него к русской классике. Душа его лежала к тем гениям, которые выразили «трагическую подоснову мира». В поэзии, например, его внимание останавливали стихи, отмеченные глубоким, мучительным чувством. Читая их наизусть, он любил выделять неожиданный, но оправданный эпитет, необычную метафору, а особенно – лукавую или язвительную шутку, вроде лермонтовской: «Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил». Плакатные краски, общественные призывы, если они не несли искреннюю боль, не трогали его. Акварель, тихое, исповедальное слово, горящая под пеплом страсть – вот что было ближе ему.
До третьего курса Саша писал стихи. Несколько из них сохранилось и теперь опубликовано. Оставив в стороне их несовершенства, мы можем убедиться, что молодые чувства и размышления выражались Вампиловым негромким словом, с благородной сдержанностью и душевной чистотой:
Что неприветливо, широкий дол, шумишь?
Не можешь мне простить разлуки?
Что не хранят, чего не помнят люди,
То, вечный, ты и помнишь, и хранишь.
Я навсегда в твоих лугах бескрайних,
Я навсегда в твоих лугах густых.
И после всех дорог судьбы —
Случайных,
Извилистых, запутанных, крутых —
Последняя дорога мне прямая —
Сюда, чтобы спокойно умереть…
Как-то на квартире молодого иркутского поэта, к которому мы с Саней наведались, разгорелся спор о тогдашних литературных «звездах». Хозяин утверждал, что стихи модных в те дни поэтов нравятся людям смелостью содержания и новизной формы. Вампилов не согласился. Весьма спокойно и коротко он сказал, что деклараций в этих стихах достаточно, а сложностей жизни не видно. Что касается неполной, ассонирующей рифмы, которую сейчас чаще всего выдают за поэтическую новизну, то после есенинского «Пугачева», стихов экспериментаторов 1920-х годов это не новизна, а повторение пройденного. Вскоре Саня шутя сочинил пародийное стихотворение «в современном духе», из которого я запомнил одно четверостишие (фамилия поэта П. Реутского, с которым наша компания дружески сошлась, упомянута здесь без всякой задней мысли, просто из озорства):
Есть поэт в Иркутске,
Петя Реутский,
Я его чегой-то не пойму.
Говорят, что жил когда-то Каутский,
Ну, да это мы простим ему.
Сегодня интересно прочитать рецензию Вампилова на книгу стихов Анатолия Преловского «Просека» – этот небольшой отзыв был опубликован в газете «Советская молодежь» в апреле 1959 года. Оценка сборника студентом четвертого курса дана вполне благожелательная, но Вампилов не был бы Вампиловым, если бы не ввернул какого-нибудь иронического замечания, выражающего его вкус. «В последнем стихотворении, – нарушил он ход своего одобрительного монолога, – второй раз в сборнике употребляется слово “взахлеб”, которое в книжке стихов может, пожалуй, употребиться только раз, да и то в большой поэтической запальчивости».
О том, что год после окончания школы не прошел для Вампилова даром, а был наполнен чтением книг, которые оказались в домашней библиотеке и полюбились ему в старших классах, свидетельствовали не только «есенинские вечера» в первые студенческие дни, но и его суждения, не так уж часто звучавшие в устах ребят нашего возраста. Виталий Зоркин припомнил разговор, который произошел с участием Вампилова и одной нашей однокурсницы:
«Мать Моцарта, – сказал Саша, – писала сыну: “Ты сочиняешь столько мелодий. Как ты это делаешь? Откуда ты их берешь? Ты что – садишься и начинаешь писать?” Моцарт отвечал ей: “Нет, мама, чаще всего они возникают, когда я еду в карете. Я начинаю насвистывать. И мне нравится то, что я насвистываю. Тогда я это записываю и обнаруживаю, что это новая музыка”. Он насвистывает в карете! И всё! Каково, а?
Таня рассмеялась, грациозно покачала красивой головкой, как умела делать она одна в нашей группе, кошачьим жестом погладила Сашу по плечу и сказала кокетливо:
– Нам всем остается только насвистывать!
– Да, – сказал Саша, – за малым дело стало – уметь не свистеть, а насвистывать…»
В интересных воспоминаниях Виталия Зоркина немало таких эпизодов, относящихся к первым годам учебы в университете. Они показывают, что Вампилов уже тогда пытался постичь мир художественного творчества, понять его глубинные законы. Хочется выписать еще несколько строк из книги нашего сокурсника «Не уйти от памяти».
Виталий прочитал своему товарищу собственные стихи: «Одно называлось “Тени”. Он похвалил. По поводу другого сделал два замечания. Что меня поразило – совсем не в духе: “это хорошо, а это плохо”. Он начал как-то удивительно тонко:
– Природа любит некоторых людей, и они отвечают ей тем же.
– Почему некоторых?
– А ты никогда не слыхал, как в деревне старики говорят: “Я почувствовал весну”.
– Что у них – лисий нюх?
– Вот-вот, именно лисий. И такому человеку надобно быть поэтом.
Я поэтом быть не собирался, но хорошо понял, что это камешек в мой огород. И заговорил, как всегда сбивчиво и торопливо, что, мол, я не Тургенев и не Фет, природу описывать не умею, а пишу “под настроение” и для друзей. Саша сказал:
– У Пришвина я встретил интересную мысль. Он считает, что за всякой картиной природы таится невидимый человек. Вот хотя бы известный “Мостик” Левитана. Когда мы глядим на картину, нам кажется, словно по этому мостику только что прошел человек и осветил собой этот неяркий, ничем сам по себе не примечательный пейзаж. Вот так надо писать. Но это нелегко».
В другой раз, по свидетельству автора, вампиловский монолог получил продолжение. «Поэт должен уметь удивляться, – заметил Саша. – Еще Пушкин сказал, что интересно следить за мыслью великого человека. А вот если б собрать высказывания классиков о своем труде. Я бы назвал такую книгу – “Муки слова”. Кто-то верно заметил, что писатель распят между Наблюдением и Созиданием. А поскольку он не может без того и другого, то в глазах людей он выглядит человеком странным – то нелюдимым, когда пишет, то слишком веселым, когда с тоски вдруг возьмет да напьется. И времени писателю отпущено мало, из океана времени – всего одно мгновение. Не успел расправить плечи, вдохнуть всей грудью – глядь, тебя поджидает смерть, а там и незабвенная Лета».
К таким речам не готовятся – они вызревают подспудно, и для людей, которые хотели бы посвятить себя творчеству, мысли о нем естественны и неотступны. Поэтому, думаю, читатель не без интереса воспримет еще одно рассуждение Александра, приведенное Зоркиным:
«– А для меня понятия – писатель и личность – тождественны! – сказал Вампилов. – Вот смотри: Толстой. Открываю наугад, – он действительно открыл толстую книгу где-то на середине, – и читаю. Вот – смотри: “В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: ‘Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?’ Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев – мы ищем и видим только душу самого художника”.
Это он имел в виду Мопассана, но то же самое мог сказать и про себя».
* * *
От Саши всегда исходили творческие токи. То он «подстрекал» (его слово) совместно сочинить какой-нибудь опус, то предлагал поставить любимый водевиль, то звал изобразить «в натуре» известную картину художника, чтобы запечатлеть ее на фотографии. И все эти затеи подхватывались, и на них не жалелось времени, в отличие от подготовки к очередному скучному семинару.
Например, репетиции чеховской «Свадьбы». Не было надежды сшить костюмы, изготовить декорации, да что там, не было надежды вообще сыграть спектакль. А между тем оставались после лекций группой, человек десять-пятнадцать, искали пустую аудиторию и лицедействовали целыми часами. Саня был за режиссера, одновременно репетировал роль Апломбова, но в течение вечера, пожалуй, каждый успевал побывать и постановщиком, и чуть ли не любым персонажем водевиля, фантазируя, как он видит вот эту роль и вот эту сцену. «И с тех пор, – с ностальгией писал позже Владимир Мутин, – до пятого, выпускного, курса “играли” мы этот спектакль, выдергивая и в разговорах, и в спорах чеховские реплики: “В Греции все есть… Я не Спиноза какой-нибудь. Я человек положительный и с характером… Вы мне зубов не заговаривайте! Я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный!.. Атмосферы мне, атмосферы… Я с вами, папаша, вполне согласный… Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Одним словом, позвольте вам выйти вон!”».
Арнольд Харитонов, учившийся на курс младше нас, припомнил, как в студенческий драмкружок, в котором он занимался, пришел Вампилов с предложением – «поставить на сцене отрывок из романа Ильфа и Петрова “Золотой теленок” – “Дети лейтенанта Шмидта”. “Я написал инсценировку”, – небрежно сказал он и вынул из кармана листки с машинописным текстом, который нам, далеким от такого уровня цивилизации, сам по себе казался заслуживающим уважения. Мы согласились, хотя это был неосторожный, а скорее даже опрометчивый поступок: до смотра (студенческой художественной самодеятельности. – А. Р.) оставались считаные дни, да и до сессии не так много…
Наконец, настал день смотра… Мы вышли на сцену и начали изображать все, что нарепетировали. Публика смотрела на нас недоуменно и… молча. В зале повисла неловкая тишина, а мы все больше лезли из кожи вон, чтобы рассмешить зрителей и, видимо, все больше… фальшивили. Блистательный текст Ильфа и Петрова сам по себе не сыграл, а мы на это надеялись, все остальное, видимо, было просто нелепым, особенно я в своем клоунском рыжем парике и штопаных клешах. Да и Юра Николайчук с завязками от кальсон и манишкой. Надо еще добавить, что при гробовом, как писали в старых романах, молчании зала мы сами по привычке давились от хохота.
Так и доиграли. Публика вежливо проводила нас жидкими аплодисментами… Не помню, чтобы мы расходились с тяжелыми сердцами. Может быть… Я же до сих пор иногда повторяю: “А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах”. И слышу в ответ иронический голос Сани: “Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, не касайтесь ее своими лапами”.
А что касается неудачного спектакля, то Вампилов, наверное, вслед за рассказчиком этой истории подвел тот же итог: “Крах детей лейтенанта Шмидта”».
На глазах друзей и для них, единственных читателей, сочинялись и совместные опусы. Ими заполнялись страницы рукописного журнала «Подснежник», основанного в нашей студенческой комнате. Один начинал рассказ, другой его заканчивал, кто-то набрасывал карикатуру, а кто-то – подпись к ней; часто, выудив из тумбочки автора его творение дожурнального периода, проводили заседание «кафедры НН-ведения», отбирая для своего издания поражающие воображение места из рукописи: «Он пошел в овчарню в смысле повеситься (из рассказа об отвергнутой любви); «Она набросилась на него, как волк на вкусную пишу» (из истории о любви счастливой).
Едва ли кто-то из нас раньше пытался «оживлять» сцены, изображенные на живописных полотнах известных художников. Это вампиловское изобретение. В деревне, где мы проводили «трудовой семестр» на втором курсе, пришло в голову воспроизвести, например, картину В. Перова «Охотники на привале». Репродукции под рукой не было, но в том-то и соль затеи – вспомнить в подробностях фон, позы охотников, их мимику. Саня изображал рассказчика, Володя Мутин – одного из слушателей, барина, особенно увлеченного очередной историей. Фотоаппарат, как всегда, был при Зоркине, снимок получился отличный.
На фото запечатлен и второй классический сюжет – васнецовские «Три богатыря», вживе появившиеся на колхозном лугу следующей осенью. С уборкой сена тогда затягивали, мальчишки, подвозившие к зароду копны, носились на лошадях во весь дух, но великовозрастным шалунам своих борзых коней на пять минут все же дали. Верхом сели Саня и два Бориса – Кислов и Леонтьев. Долго оттачивали позы, вздергивали поводья, чтобы вид у лошадей был под стать богатырям…
Правда, тут режиссура была проста, а вот в следующий раз Сане пришлось труднее: и народу для живой картинки потребовалось больше, и расставлять каждого, согласно роли, сложнее. Дело было летом после четвертого курса, на военных сборах, куда вывезли несколько сотен студентов. Вампилов и в такой массе выделялся: гитарист, остроумец, свойский парень. Не помню, как возник замысел: попалась ли Сане на глаза репродукция репинского полотна «Запорожцы» или, решив, так сказать, разыграть в лицах классический сюжет, он нашел эту репродукцию. Скорее всего, первое. Во всяком случае, без «картинки» такую многолюдную и разнообразную по живым позам и характерам героев сцену не воспроизведешь.
И удалось: отобрал типажи, свел всех, увлек игрой (сам изображал казака, сидящего рядом с полуобнаженным богатырем), попросил сфотографировать.
«А зачем, зачем?» – спросите вы. Да вот в том-то и штука, что просто так. Художественная натура…
На третьем курсе, опять же в деревне, был сделан снимок, впоследствии опубликованный. Вечерами в колхозном доме, где мы жили, зажигалась одна лампочка и по стенам, покрытым временной сухой штукатуркой, сновали тени. Дом свежей рубки после нашего отъезда предполагали оштукатурить по-настоящему, поэтому мы взяли за моду рисовать на стенах силуэты, профили. Дело простое: один встает поближе к белому экрану, другой обводит карандашом его тень. А от этого уже недалеко до выдумки – оставить на стене профили, как в известной композиции, запечатлевшей пятерых казненных декабристов. Я как раз отлучился домой, поэтому моего изображения не оказалось. А шестеро остальных вставали к стене в такой последовательности: Борис Леонтьев, Вадим Гребенцов, Игорь Петров, Борис Кислов, Виталий Зоркин и Александр Вампилов. Перед отъездом Виталий сфотографировал настенный рисунок.








