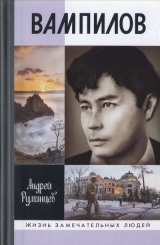
Текст книги "Вампилов"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Одевалась она, как все учителя того времени, просто и аккуратно. Чувствовалось: строго следила за собой, за своим внешним видом. Нашим девчонкам нравилась прическа Анастасии Прокопьевны – свои пышные, длинные и светлые волосы она закалывала сзади красивыми костяными шпильками. Мы до сих пор помним эту ее прическу, простую и привлекательную. В голубых глазах учительницы горел живой огонек, в жестах и движениях чувствовались энергия, сила, в обращении с нами, детьми, проявлялись материнская требовательность и теплота.
Анастасия Прокопьевна всегда доступно, понятно объясняла нам самые сложные математические темы. Знала материал, что называется, назубок. И это вызывало в нас, в сердцах ее учеников, самых разных по характеру и национальности – русских, бурят, украинцев, татар, поляков, евреев (а жили мы все дружно), чувство глубокого уважения и даже больше – преклонения перед ней.
Я, как и все мои школьные друзья, не помню случая, когда бы Анастасия Прокопьевна повышала на кого-нибудь голос, кричала – такого не бывало. Она никогда не унижала достоинство другого человека.
Нельзя сказать, что мы тогда были этакими кроткими существами. Попадались ребята и девчонки сорви-головы, озорники, склонные к дерзким шалостям и проделкам. Позже, после войны, когда я встретил Анастасию Прокопьевну, она охарактеризовала нас кратко: “Бойкие ребята были, веселые…”
Но мы не позволяли себе вольностей на уроках Анастасии Прокопьевны, слушали ее внимательно, с большим интересом. Словно придерживались народной мудрости: почитай учителя, как родителя. Не из-за страха какого-то, а потому что перед нами был умелый, внутренне организованный, талантливый учитель, человек чистой души. Этого человека отличали врожденная скромность, вежливость, правдивость, ему чужды были разболтанность, ложь, беспринципность. Она болела за каждого из нас, приходила на консультации по просьбе даже одного-двух учеников. Не было случая, чтобы она отказалась от этой дополнительной работы. Не считалась со временем, подолгу объясняла ребятам слабо усвоенный ими материал».
После года работы в Кутулике Валентин Никитич попросил районный отдел образования перевести его с супругой в бурятское село Ныгда, в неполную среднюю школу. Чуть позже в письме, о котором мы еще скажем, он так объяснил эту просьбу: «Я хотел работать в национальной школе, так как интересуюсь преподаванием русского языка в бурятской школе. За многие годы моей практики у меня накопился опыт, который не без успеха использую теперь в своей работе. Опыт мой в свое время был рассмотрен Наркомпросом Бурят-Монгольской республики и одобрен».
Но отдел образования решил по-своему. В Аларской школе уже давно зашкаливали страсти. 1930-е годы, отмеченные массовыми репрессиями, хорошо использовали для сведения счетов с честными людьми карьеристы, приспособленцы, бездари. Село Аларь не было исключением: педагоги школы враждовали друг с другом, используя доносы и сплетни. Кутуликские чиновники направили Валентина Никитича в его родное село исполняющим обязанности завуча школы, вероятно, надеясь, что он утихомирит земляков.
Анастасия Прокопьевна была на сносях. В Алари семья поселилась в школьной квартире. Валентин Никитич, как говорится, разрывался на части: надо было везти жену за 30 километров в родильный дом городка Черемхово, найти няньку для малолетних детей, браться за доклад, который ему поручили сделать на традиционном августовском совещании учителей района.
Сопровождать супругу на машине до роддома пришлось в одну из ночей. Вернувшись из Черемхова, Валентин Никитич спешит дать жене отчет в коротких записках, посылаемых с оказией:
«Дорогая Тася! Живем по-старому. Взяли прислугу. Порекомендовала Горохова. Девица 17 лет, из деревни… 35 рублей в месяц, плюс кофта и юбка на всю зиму. Горохова очень рекомендует.
На всякий случай – не отказывайся совсем от сиделки, которая изъявила желание.
Работаю над докладом. Пурхаюсь, как обычно. Всегда поручают перед самым началом. Не могут заранее. Тема определенная, развернутая, но материалов нет. Высасываю, как всегда, из пальца.
Ну, как твои дела? Еще раз прошу тебя не нервничать, не беспокоиться.
Я уверен, все будет хорошо. И, вероятно, будет разбойник-сын, и боюсь, как бы он не был писателем, так как во сне я все вижу писателей.
Первый раз, когда мы с тобой собирались в ночь выезда, я во сне с самим Львом Николаевичем Толстым искал дробь, и нашли. Ему дали целый мешочек (10 кг), а мне полмешка. Второй раз в Черемхове, ночуя в доме знакомого татарина, я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, как бы писатель не родился…
Сны бывают часто наоборот, скорее всего будет просто балбес, каких много на свете. Лишь бы был здоровый – мог бы чувствовать всю соль жизни под солнцем.
Пиши, как что. Если нужно – плюну на доклад и выеду. Сообщи, нужно ли на лошади заехать на квартиру свою, когда поеду за тобой. Валентин».
Девятнадцатого августа у супругов Вампиловых родился сын.
«Дорогая Тася, не успел запечатать предыдущее письмо, как зашла старуха с телеграфа с телеграммой.
Молодец, Тася, все-таки родила сына. Мое предчувствие оправдалось… сын. Как бы не оправдал второе…
Очень рады, что все благополучно, нормальная температура и прочее.
Здоров ли мальчик? Не замухрышка ли? Интересно, какая из акушерок дежурила, обошлась ли без помощи врача? Не беспокойся ни о чем. Валентин.
Не назвать ли его Львом или Алексеем? У меня, знаешь, вещие сны»[6].
Ни Львом, ни Алексеем родители своего сына все же не назвали. Наверное, в памяти Валентина Никитича еще свежи были пушкинские юбилейные торжества в Кутулике, в которых он принимал такое горячее участие, и потому он предложил Тасе назвать новорожденного Александром. И само письмо отца, и имя, данное малышу, оказались вещими…
Ну а школа, в которой Валентин Никитич когда-то преподавал, теперь напоминала клокочущий ненавистью котел. Как работалось ему здесь в те пять месяцев, что оставались до ареста, мы узнаем из приведенного ниже письма. А пока хотим сказать несколько слов о том, как заботился он о своих детях от первого брака.
Дочь Валентина Никитича и Марии Ефимовны Сержена, которой в 1937 году было девять лет, рассказывала:
– Мы, дети… из той и другой семьи… мы ведь росли вместе. В Алари и папа, и мы жили на два дома. Папа купил коня, телегу, сани, и мы разъезжали между двумя домами. Папа был страстный охотник и рыбак. Если он убивал косулю, то делил мясо на две равные части – для той и другой семьи. И с рыбным уловом поступал так же. А как нас, всех внуков, любила бабушка, папина мама! Сохранилась фотография годовалого Саши. На ножках у него маленькие унты – их сшила бабушка, Пелагея Манзыровна. Она обшивала нас, восьмерых своих внуков, вязала для нас шапочки, варежки, носочки. Как хранительница большого семейства хлопотала то в нашем доме, то у Анастасии Прокопьевны…
В кругу близких, в домашних заботах Валентину Никитичу можно было ненадолго забыться. Но в школе, он чувствовал, тучи сгущались: кто-то в открытую связывал его имя с теми сельскими «врагами народа», которых уже арестовали, кто-то пренебрегал его советами или распоряжениями как завуча. 23 декабря 1937 года, предчувствуя беду, он отправляет письмо в Иркутский областной отдел народного образования и областной комитет профсоюза учителей[7]. Это письмо (с незначительными сокращениями) и пояснения Сержены Валентиновны к нему впервые напечатаны мной в иркутской газете «Восточное обозрение» в феврале 1991 года:
«Не только прошу, но и взываю внимательно прочитать настоящее письмо… Пишу в весьма плохом нервном состоянии, так как с часу на час жду ареста… Не самый арест, в конце концов, страшен, а страшно то, что меня, семнадцать лет честно проработавшего в советской школе, собираются сделать жертвой гнусной клеветы.
В начале нынешнего года[8] я перевелся из Кутуликской средней школы в Аларскую. Причем районные организации меня, что называется, почти насильно назначили “на один месяц” заведующим учебной частью.
Работать временно исполняющим должность заведующего учебной частью как следует я не мог, так как, во-первых, имел 38 недельных уроков и был руководителем одного класса, во-вторых, два раза болел за первую четверть, в-третьих, два раза ездил в районный центр с просьбой освободить от обязанностей завуча, в-четвертых, в коллективе школы создалась ненормальная обстановка для моей работы в результате самой грубой и беспринципной склоки, поднятой против меня преподавателем бурят-монгольского языка Д. В. Зурбановым.
Зурбанов, молодой человек, лет двадцати трех, как он говорит, сын бедняка, считается активистом в улусе, много пишет заметок в газеты, считается неплохим преподавателем своего предмета… До последнего времени Зурбанов пользовался некоторым авторитетом перед районными организациями, что объяснялось отчасти тем, что он на всех совещаниях, конференциях умел, так сказать, эффектно выступать, и отчасти тем, что он “разоблачал”… Большинство этих “разоблачений” Зурбанова шло задним числом; он начинал “разоблачать” кое-кого, когда положение этих последних определялось к худшему или когда портились взаимоотношения с последними.
Мое назначение в данную школу не входило в планы Зурбанова. Он сразу почувствовал, что мое присутствие в школе может помешать его “влиянию”, “авторитету”, короче, его демагогии, так как он знал, что я сумею вести самостоятельную линию. И вот с первых дней он сделал попытку командовать мной и кончил тем, что выдвинул против меня ряд гнусных клеветнических обвинений. Обвиняет меня в том, что я в 1920 году был в рядах группы аларских левых эсеров, в 1918 году принимал участие в известном контрреволюционном “салтыковском деле”.
Моя “эсеровщина” в следующем. В 1920 году, летом, я готовился поступать в Иркутский университет, репетировался у студента бывшего Петербургского психоневрологического института М. Забанова. Этот Забанов сколачивал группу левых эсеров, но входить в эту группу я отказался, что выразилось в том, что я категорически отказался подписать составленную Забановым так называемую “политическую платформу группы аларских левых эсеров” и вскоре с этим Забановым окончательно порвал. Он умер в 1928 или 29 году в Ленинграде…
В 1918 году в известном контрреволюционном “салтыковском деле” я действительно принимал активное участие, но только не на стороне Салтыкова, а на стороне народа вместе с большевиками С. Николаевым и Е. Манзановым… Это могут подтвердить все местные, могут подтвердить партийцы.
Вчера на нашем педсовещании говорили о наличии в Аларском аймаке контрреволюционной организации, проводящей вредительство в сельском хозяйстве. Зурбанов и Кº склонны обвинить меня во вредительстве в школе… Дней десять тому назад появились слухи о предстоящем моем аресте. Я не сомневаюсь, что слухи эти с провокационной целью пущены теми же Зурбановым и Кº.
Таким образом, в недалеком будущем меня ожидает в худшем случае арест, а в лучшем – переброска среди зимы с маленькими детьми (в том числе грудной) в другую школу. Повторяю, не самый арест страшен, страшно то, что я могу сделаться жертвой злостных происков такого человека, как Зурбанов.
Я не заслуживаю политической смерти, так как с самых молодых лет я был известного общественно-политического настроения. Мое кратковременное якшанье с Забановым было случайным. Я все семнадцать лет честно проработал в школе, работал так, как мог, за что пользовался любовью и признательностью своих учащихся.
Надеюсь, что советская общественность разберется в моем деле».
Сержена Валентиновна вспоминала в беседе со мной:
«Этот крик о помощи не был услышан. Папу арестовали… Дело происходило в Алари в январе 1938 года. Как раз моя старшая сестра Ирина оказалась у наших, в доме тети Таси. Вдруг появились трое из НКВД. Они сделали обыск. Вели его самым безобразным способом. Все вещи раскидали, фотокарточки разорвали на части. Папу посадили в сани и увезли. Видимо, ночь его держали в сельсовете. А назавтра я… я была ученицей начальных классов… своими глазами видела, как арестованных, в том числе и моего папу, посадили в открытую машину. Вернее, не посадили… Все арестованные стояли в кузове грузовика. Буквально впритык друг к другу. Не было места, чтобы втиснуть еще кого-то. Я смотрела… это был мой последний взгляд на отца».
Один удар судьбы в том месяце Анастасия Прокопьевна уже перенесла: незадолго до черного дня ей сообщили из Иркутска, что арестован отец, Прокопий Георгиевич. Она не смогла даже съездить к матери, утешить ее: с грудным малышом не отлучишься из дома. Обнадежить Александру Африкановну никто из детей тогда не мог. Репрессии против священников шли уже многие годы. На запросы дочерей в начале февраля в отделении НКВД ответили: «Осужден без права переписки». Как выяснится позже, через несколько десятилетий, Прокопий Георгиевич был расстрелян 28 февраля 1938 года.
* * *
После публикации в газете очерка о судьбе отца драматурга мне позвонили из областного управления КГБ:
– Мы отыскали в архиве «дело» Валентина Никитича Вампилова. Можете познакомиться.
С большим волнением открыл я выданную мне папку и начал читать страшные бумаги. Все представлял себе: какую бурю чувств испытал бы Саня, прикоснись он к документам, открывающим трагедию отца! И еще думал: десятилетия свидетельства эти лежат в Иркутске, а матушка Александра, его брат и сестра – все близкие Валентина Никитича, живущие рядом, – до сих пор не знают правды о последних днях мужа, отца, деда!
Но – по порядку. Арестовали Валентина Никитича 17 января 1938 года. Это сделал со своими подручными сотрудник Аларского райотдела НКВД Зинченко. Он же 22 февраля провел единственный допрос.
С первых же слов следователь вынес сельскому учителю обвинение:
«Вы являетесь участником панмонгольской контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации. Признаете это?»
Все последующие утверждения заплечных дел мастера были такими же дикими, абсурдными, идиотскими – назовите их сегодня как угодно, но в фантасмагориях этого человека они допускались как достоверные, логичные, разумные, и офицер Зинченко привычно и обкатанно записал свои измышления в протокол.
Оказывается, преподаватель русской литературы возглавлял в разветвленной подпольной организации одну из ее ячеек – вооруженную повстанческую группу; любитель пушкинских стихов, он готовился поджечь Кутуликскую среднюю школу; постановщик детских спектаклей, он натравливал друг на друга ребят русской и бурятской национальностей, заставлял их расклеивать контрреволюционные лозунги и носить фашистские знаки; завуч школы, он специально срывал занятия, чтобы заменить их беседами о «нойонско-ламском учении».
Кроме того, любимец ребят посещал тайные совещания заговорщиков, собирал оружие, вербовал новых повстанцев, вредил на «производстве», например, умышленно испортил 20 центнеров хлеба, принадлежавшего школе.
Трудно сказать, принудил ли Зинченко свою жертву подписать эту абракадабру (методы НКВД теперь известны) или просто подделал подпись допрашиваемого, – гадать об этом и не стоит. Во всяком случае, фамилия Валентина Никитича под текстом протокола написана так коряво, с разрывами букв, то крупных, то мелких, словно ее выводила рука человека малограмотного – или избитого до полусмерти.
«Тройку» областного управления НКВД, без устали работавшую в те страшные месяцы, протокол допроса вполне устроил. Уже 27 февраля она, повторив обвинения следователя, постановила: «Вампилова В. Н. расстрелять с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества». Он был в тот день 299 человеком, которого постигла эта участь. А еще несколько дней спустя папка пополнилась актом: «Приговор приведен в исполнение 9 марта 1938 года». Судя по документам, Валентин Никитич содержался в иркутской тюрьме; здесь, в областном центре, он и был расстрелян…
Во второй половине 1950-х годов, когда жертвы репрессий массово реабилитировались, родственникам Валентина Никитича выдали документ, что он был «осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и, находясь в местах заключения, умер 17 августа 1944 года от воспаления легких»[9].
Ложь просуществовала целых 35 лет. Только после нашей публикации представитель Иркутского управления КГБ побывал у Анастасии Прокопьевны и передал ей, ее детям и внукам официальный документ, рассказывающий правду о последних днях жизни и гибели Валентина Никитича. Это произошло лишь весной 1991 года…
А в тот жуткий январский день, когда трое молодчиков, перевернув в скромной учительской квартире всё вверх дном, разбросав по полу вещи, книги, до этого аккуратно стоявшие на полках, даже учебники и тетрадки восьмилетнего Миши, вывели очередного «врага народа» на улицу, толкнули на сани и увезли в сельсовет, ставший на время кутузкой, Анастасия Прокопьевна оцепенела от ужаса и людской жестокости. Как жить, если отныне у нее, находящейся в декретном отпуске и не получающей зарплаты, не будет и зарплаты мужниной, если она не сможет достать продуктов, заменить детям прохудившиеся одежду и обувь, если у нее не хватит сил справлять одной каждодневные дела по хозяйству – колоть дрова, носить воду из неблизкого колодца? И какие еще испытания принесет судьба жене «врага народа»?
Ошеломленные дети смотрели на нее, ничего не понимая, и это заставило взять себя в руки…
Уже на следующий день она отправила телеграмму в Иркутск матери: срочно приезжай! Из Кутулика примчалась сестра Ксения, привезла продукты и деньги. Откликнулись другие сестры, братья Иннокентий и Николай.
Летом Анастасия Прокопьевна с детьми перебралась в районный центр и уже 1 сентября вошла в класс учителем математики. Александр, которому тогда исполнился год, даже в конце свой короткой жизни то ли по незнанию, то ли по ведомым лишь ему одному причинам писал в анкетах: «Родился в поселке Кутулик…»
Глава вторая
«ВОЗВРАЩАЮСЬ СЮДА В СВОИХ МЫСЛЯХ…»
В 1960-х годах, уже закончив журналистскую работу в иркутской газете «Советская молодежь» и перейдя на писательские «вольные хлеба», Александр напечатал на ее страницах очерк «Прогулки по Кутулику». В нем Вампилов с ностальгической нежностью рассказал читателям о своем родном поселке.
«Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхово справа вы увидите гладкую, выжженную солнцем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги – березы, несколько их мелькнет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стороной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на пригорке старые избы с огородами, выше – новый забор с будкой посередине – стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен, за серым забором – сад, за ним – несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них своей белизной, – райком и Дом культуры, потом чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому хорошо видимая издалека.
Что дальше? Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще два-три заметных строения – каменные и побеленные – комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше – Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом, – Московский тракт.
Таков внешний вид Кутулика, и если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку лес, а в нем островками строения – больница, Заготскот, нефтебаза и станция, – портрет выйдет достаточно определенный, в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом. Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.
Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.
В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы. Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается редко и ненадолго. Вот и сейчас не был три года, а приехал на неделю…
Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?»
Жили Вампиловы в бараке, стоявшем рядом с несколькими домиками в школьном дворе. Вдоль соседней улицы, за огородами, тянулась речка Кутуличанка, за ней – узкая луговина, железнодорожная насыпь. Летними утрами над низинкой повисал парной туман, и стадо коров, вытянувшись цепочкой, исчезало за его белой трепещущей кисеей. Под окнами домов слонялись козы, обгладывая светло-зеленые тополечки, и маленький Саша, держась за руку старшего брата Миши, боязливо отгонял их прутом от тонких деревьев. Он и на речку, и на луг ходил мальцом только с Мишей, Галей или Володей – братья и сестра любили его и не отпускали от себя.
Можно представить, каково пришлось Анастасии Прокопьевне в лихие годы с четырьмя детьми и престарелой матерью! Сашина сестра Галя, которая была на шесть лет старше брата, вспоминала:
«Однажды – взрослых в доме не было – Шурка проснулся, плачет: “Кушать хочу!” А ничего нет совершенно! Пошла я к соседке, бабушке Ильиной, достала она мне из чугунка одну картошину, сваренную в “мундире”. По дороге домой я ее очищала и шкурки съедала, а картофелину – Шурику. Сразу перестал плакать!»
Уже в этих коротких строках есть ответ на вопрос: что же спасало такие семьи? Но чтобы ответ был чуть подробнее и нагляднее, приведу еще несколько свидетельств мальчишек и девчонок той поры. Сестра Сашиного одноклассника Славы Морозова Вика (их отец, первый директор кутуликской школы, тоже был репрессирован) писала:
«Жили мы тогда в домах на территории школы. Учительствовали в ней физик А. К. Шагалов, литератор А. М. Мамонтов, математик А. Копылова-Вампилова и моя мама, географ. Эти педагоги дружили семьями. А мы, их дети, росли вместе и тоже крепко дружили между собой.
Запомнились мне наши встречи у Шагаловых. У них был огород, где выращивали картошку. Все мы, и Вампиловы, и Мамонтовы, помогали Шагаловым ухаживать за картофелем. Зато после уборки урожая бабушка Шагаловых регулярно кормила нас, ребятишек, жареным картофелем, который казался нам необыкновенно вкусным. Как сейчас представляю я ту большую чугунную сковородку на середине стола и добрую бабушку Шагаловых. В этих застольях всегда участвовал и Саша Вампилов… А разве можно забыть дни, когда качали в ульях у Шагаловых мед! Этим лакомством нас тоже угощали хозяева. И простуду бабушка Шагаловых прогоняла у нас при помощи меда и жарко натопленной печки. Не раз пользовался таким методом лечения и Саша».
Галина Валентиновна добавила:
«Напротив нашего барака зеленел сад, в котором у Шагаловых располагалась пасека – десять ульев. Два из них Афанасий Кириллович подарил нам, научил Мишу управляться с пчелами. Ульи эти под самыми нашими окнами стояли.
Дали нам два картофельных участка: одно близко, в двух километрах, на другое за пятнадцать километров в Головинку приходилось топать. И корова у нас появилась – Зорька. Хотя все равно ходили раздетые-разутые. А морозы какие стояли – однажды вся картошка в подполье замерзла».
О том, что помогало таким бедолагам, как Вампиловы, выжить, точно сказал в одной из опубликованных бесед друг Александра Валентин Распутин, матушка которого, сибирская солдатка, бедовала в те годы с тремя малышами: «Люди в деревне жили, как одна семья, помогали друг другу переносить лихолетье. Я это знаю, это было на моих глазах. Деревня не просто считала своим долгом помочь человеку, который живет беднее, который попал в беду, это было естественным отношением друг к другу».
О первых своих земных открытиях Александр не мог не рассказать в упоминавшемся очерке:
«Отсюда (от дома Вампиловых. – А. Р.) была видна дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой, тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно…
Нет, что ни говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным, и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы здесь пахнут сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен».
Думается, что и родина отца, село Аларь, где Александр, безусловно, не раз бывал и где испытывал непроходящую боль, оставалась в его сердце всегда. Здесь, за околицей села, открывалась равнина, но не та, что привольно расстилается по берегам больших рек или составляет часть знаменитых западносибирских низменностей, а счастливо нашедшая приют между окрестными холмами и давшая возможность местным крестьянам затеять здесь пашню. От родового дома Валентина Никитича – осевшего от времени строения, летом затененного зеленью палисадника, – открывается вид на просторное поле. Далекий лес кажется застывшей на горизонте низкой, темной волной. Невольно подумаешь: не тут ли Александр придумал название своей первой одноактной пьесы: «Дом окнами в поле»?
И не свои ли детские чувства выразил он в рассказе «Солнце в аистовом гнезде»:
«Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям».
Сам автор этих строк в возрасте маленького Витьки, героя рассказа, тоже был полон и любопытства, и удивления, и жажды помочь всему живому вокруг. Не зря же его матушка, скромно рассказывая о сыне, выделила житейски важную для ребенка черту:
«Собирал по округе бездомных собак и кормил их. Всегда у нас во дворе кто-нибудь жил – то Буска, то Пират, то Лайка. Когда Пират пропал, Саня бродил по лесу три дня и звал его – может отзовется?»
Над судьбой Вампилова горько думаешь: столько страданий приносила жизнь семье, в которой он вырос! И не горе ли, терзавшее его близких, больно ранившее его самого, рождало болезненную отзывчивость юного сердца?
В одиннадцатилетнем возрасте он потерял старшего брата Володю. «Иногда ездили мы в Иркутск, к дяде Кеше, – писала Галина. – Как-то поехали с Володей, а он по дороге вдруг плохо себя почувствовал и присел на скамейку – не мог идти. С того раза и заболел, порок сердца обнаружили. В последнее лето всё на подоконнике сидел, и мама с ним. Проснулся однажды в половине шестого утра, говорит: “Мама, я сегодня умру. Ты не плачь, у тебя еще дети есть”. А в одиннадцать он умер. Очень мы его жалели. Удивительно добрый он был. Мы по очереди за хлебом ходили, получали по карточкам, и если случался довесок, его нам разрешалось съедать. Так Володя свой кусочек всегда маме приносил».
«В горькую минуту мы хоронили его, – как об общем ребячьем горе вспоминала Вика Морозова. – Цветов в ту пору не было. Мы наломали хвойных веток, сделали прощальные венки. Помогали Анастасии Прокопьевне выстоять в ее горе…»
Ниже мы приведем воспоминания многих людей, знавших Вампилова с детства. Сейчас подчеркнем лишь, что страдания матери, тревожные впечатления первых лет жизни, запомнившиеся ему разговорами старших о далекой войне, о бесчисленных утратах, о голоде, как и загадочные дали цветущей вокруг земли, – всё напитывало юную душу почти несовместимыми в другое время поэтической созерцательностью и неотступной печалью. Надеемся, что читатель поймет, как связан мир героев драматурга с миром его детства, а явно угадываемые родословные персонажей – с судьбами его земляков. И главное – как духовная биография Александра Валентиновича, начавшаяся в сибирской глубинке в военное лихолетье, определила нравственное звучание его пьес, ту щемящую доброту и любовь к людям, которыми дышит каждая страница Вампилова.
Вечерами, в сумерках, в школьной ограде начиналась особая жизнь – с мерцающей печуркой в уголке двора, с общими посиделками и разговорами. Об этом с щемящей памятью рассказал Александр Валентинович:
«Я вылез из кабины попутной машины возле школьного сада, прямо против своего бывшего дома… Через старые ворота я вошел в большой двор, по углам которого стояло четыре дома. Двор был пуст, только куры копошились в дальнем его углу и у крыльца с перилами мотоцикл мерцал на солнце бежевыми крыльями и тусклыми от пыли ободами. Этот двор назывался школьная ограда, а в домах, где в каждом было по два, по три крыльца и по стольку же квартир, всегда жили учителя, уборщицы и истопники.
Еще из машины я заметил, что огород у нашего дома разгорожен и растут в нем, как мне показалось, лишь пырей и крапива. Так оно и было. Но из машины я не заметил главного: двери и окна были заколочены. В доме никто не жил.
Я к нему подошел, на крайнем окне доска была оторвана, из щели потянуло на меня осенним, почти лесным запахом плесени. Я зашел с другой стороны, со стороны огорода, и остановился против своих окон.
Здесь по-прежнему стояла одна старая лиственница, и, помню я, от этого, от ее тени в одной из наших комнат всегда было немного темней. Лиственница жива, за нее все еще можно привязать бельевую веревку, можно забраться по ней на крышу и серы, наверное, еще можно наковырять.
А барак и в самом деле отслужил свое. Построен он из здоровых лиственничных бревен, но так давно, что не только бревна прогнили, но прогнила уже и тесовая обшивка, сделанная много позже. Правда, обшивка вся уже рассыпается и внизу и вверху, а бревна гнилые только внизу, у земли, а наверху они еще хоть куда, ядреные и годные, пожалуй, и для новой постройки.
Когда-то в этом бараке был пересыльный пункт, и здесь ночевали этапные по дороге в Александровский централ. Значит, в этом доме у них был один из последних ночлегов в пути.
Нет, никаких решеток и даже следов от них я никогда не видел. Видимо, был в свое время барак переоборудован, я помню его уже покрытым тесом и крашенным в цвет желтых березовых листьев. На моей памяти в нем всегда жили учителя.
Я представлял себе летний вечер, каким был здесь лет двадцать назад: открытые настежь окна, в доме движение и голоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки, подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе видимое глазами струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжанье пчел.








