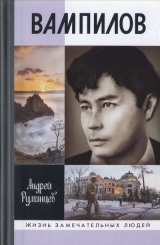
Текст книги "Вампилов"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
«В 1961 году в Москве действует около 70 церквей. Артисты (московские) за выступление в хорах получили 13 млн. рублей в год».
«Пожилой москвич:
– Мы какими были? Черный костюм, ботинки щучкой, бабочка пестренькая… Я ничего еще: с девками пить, гулять буду, но не полностью. Резюме, так сказать, уже не подведу».
Трубная площадь. Осень. Сырой, судорожный ветер. Дома старые, как деревья. Всё так и осталось с тех пор, как писалось: «В Москве, на Трубной площади…»:
«Чувствуется, как мост, белые дома на горе, сады – вся земля тихо скользит, удаляется от заката».
«Был вечер. Посинели сугробы. Мутный свет матовых фонарей с черных чугунных столбов падал на лица прохожих. Их лица были задумчивы, до жалости серьезны, вечерняя тоска остановилась в их глазах. Красные вывески магазинов, реклама кинотеатров, два прекрасно одетых пижона, женский смех, беготня. Я нырнул в полуподвал “Гастронома”, там почти никого не было. В серых половинках окна мелькали ноги прохожих. Я смотрел на них. Особенно бросилось в глаза удручающе согласованное движение проходящих пар. В них мне казалась извечная каменная поступь тоски».
«Слова, теплые, как постель тридцатилетней вдовы»…
«Старики, спекулирующие своим прошлым»…
«Она занималась легким образом жизни»…
Петр Дедов утверждал в воспоминаниях, что Вампилов посылал или относил в редакции журналов свои юмористические рассказы. Других подтверждений этого нет, как нет и результата. А вот ответ, будто бы полученный Сашей из одной редакции, если и сочинен мемуаристом, то – в «вампиловском духе»:
«Пишут: “Главная героиня рассказа, девушка Дарья…” А у меня в том рассказе собаку Дашкой зовут…» (заметим, что такого рассказа у Вампилова нет. – А. Р.).
Другой сокурсник Александра, вологжанин Владимир Аринин припомнил: Вампилов как-то сказал, что хотел бы «написать “нечто” о… современном авантюристе. Чем будет заниматься советский авантюрист? Наверно, он будет обманывать женщин, начальство на работе, дурачить приятелей и знакомых. В нем что-то должно быть от Джека Лондона или Хемингуэя – любовь к природе… И отрицание обычных норм, искусственной морали. Конечно, в нем много скверного и злого. Но все равно он интереснее большинства».
«Не берусь ничего утверждать, – продолжал Аринин, – но, кажется, в тех словах Вампилова уже тогда звучало что-то похожее на Зилова…»
Оба Сашиных приятеля по московской учебе не могли обойти его литературных пристрастий. Даже если оба автора испытали влияние поздних книг, статей, воспоминаний о Вампилове, нужно привести свидетельства того и другого журналиста.
Петр Дедов написал: «Я знал, что он пристрастен к драматургии, что любимый его писатель – Чехов, о котором Саша как-то высказался примерно так: “Чехов – насквозь драматург, даже в письмах. Когда читаешь Чехова, то не замечаешь напечатанных в книге слов: сама жизнь течет перед глазами”…»
Владимир Аринин припомнил историю, произошедшую в учебной группе: «Мне памятен наш разговор о Достоевском, состоявшийся по весьма печальному поводу. У нас с курса был отчислен один из слушателей за антисоветские взгляды… И над ним было устроено публичное судилище. Среди обвинений в его адрес было и такое: проповедовал мистические воззрения, почерпнутые из Достоевского.
Мы с Вампиловым были удручены этим судилищем. Но после собрания заговорили как раз о Достоевском. И Вампилов рассуждал примерно так: “А что Достоевский? Какие такие у него мистические воззрения? Какой он мистик? Нет, он – реалист. Величайший к тому же. Он реален, как сама жизнь. А многое, что говорится о нем, – искусственность. Правда, он сам дал к тому несколько поводов. Но фантастические сюжеты – это как раз и нужно в литературе. Ведь натуралистический реализм – бескрыл. А фантастический реализм – это вершина, к которой надо стремиться”».
И очень важные слова нашел автор воспоминаний, заключая свой очерк. В них – впечатление, которое осталось у него от общения с Вампиловым:
«У него была чистая, светлая, даже нежная душа. Я помню, как он нес подснежники для женщины, пряча их под пальто от холода. Кажется, он готов был замерзнуть сам, лишь бы не замерзли цветы…»
* * *
Возможно, невольный соглядатай подсмотрел, как Саша нес цветы для своей однокурсницы Галины Люкшиной. О их чувствах друг к другу много лет спустя она рассказала в опубликованных мемуарах.
В Вешняках собралось тогда три десятка молодых журналистов. Среди них было немало парней и девчат старше Вампилова, но, как подчеркнула Галина, «верховодил всегда почему-то самый младший – Саша»:
«Он купил карту Москвы, выбирал маршрут, предлагал, куда пойти, легко ориентировался в незнакомом городе. Ходили на выставки и в музеи, особенно любили театр… Выбирали театр, спектакль, режиссеров, актеров. Саша уже тогда разбирался в этом лучше всех нас, и мы доверяли его вкусам. Так, в “Современнике”, куда попасть было, пожалуй, труднее всего, посмотрели “Голого короля” и “Вечно живые”, в театре имени Вахтангова – “Иркутскую историю” Арбузова, в театре имени Маяковского (возможно, ошибаюсь, ведь столько лет прошло!) – “Медею”. Никак не могли попасть в Большой, но однажды повезло. Достали два билета на галерку…
В воскресенье, как правило, шли в Музей изобразительных искусств имени Пушкина или в Третьяковскую галерею. В Третьяковку ходили не раз и не два. В каждое посещение знакомились с одним или двумя художниками. Перед этим в библиотеке брали книги о них, покупали репродукции, а потом уже любовались шедеврами в залах Третьяковской галереи. Саша любил Репина, Врубеля, Айвазовского. После знакомства с Айвазовским он мечтал увидеть Черное море. О Врубеле он прочел все, что нашел в библиотеке, стал собирать репродукции с его полотен. И каждый раз, когда бывали в Третьяковке, обязательно заходили во врубелевский зал…
В музее на Волхонке мы долго бродили по залам первого этажа, потом поднялись на второй. И тут увидели полотна французских импрессионистов – Клода Моне, Анри Матисса, Камиля Писсарро. Мы переходили из одного зала в другой, нас завораживали их полотна, и в то же время многое было для нас неожиданностью. Мы вновь и вновь возвращались то к “Белым кувшинкам” Моне, то к “Девушкам в черном” Ренуара, то к “Голубым танцовщицам” Дега. Захотелось побольше узнать о художниках. В первом зале мы задержались еще и у небольших скульптур Родена “Поцелуй”, потом на “Вечной весне”, и, когда переводили глаза с одной скульптуры на другую, наши взгляды встретились. Саша подошел ко мне, взял за руку, нежно поцеловал ее. Уже тогда, в свои 24 года, он понял (как напишет через год в одном из своих писем из Иркутска): “В этом мире нет ничего искреннего, кроме любви”. Мы долго были под впечатлением этих скульптур, стояли, завороженные истинной красотой роденовских творений и чувствами, которые они вызывали у каждого, кто останавливал на них свой взгляд. Они покорили наши сердца, а, возможно, они были созвучны нашему душевному настрою…»
То, о чем рассказывает автор воспоминаний, оставило след и в творчестве драматурга. В апреле 1962 года слушатели курсов разъехались на практику. Александра направили в Минск, а Галину – в Киев. В майские праздники они встретились в украинской столице.
Как всегда, Вампилов записал в своей книжице киевские впечатления. Внимательный читатель отметит, что новые места, новые люди привлекали его, как писателя, пусть только обретающего литературный опыт. Он непременно увидит красоту пейзажа, необычный вид и поведение местных жителей, он скажет о своем настроении. Иными словами, перед нами всегда – интересная бытовая картинка, краткий психологический этюд. Вот как нарисовал он первые часы в новом для себя городе:
«Киев. Утро 29 апреля. Бульвар Шевченко. В Киев надо приезжать рано утром и бродить по нему до темноты. На бульваре я принял парад киевских тополей. Храм Пасха. Я иду по бульвару, солнце встает за моей спиной (изумруд росы на акациях), я иду, как воскресший Иисус Христос. Впереди меня скачет бронзовый Щорс.
На бульваре против храма старушки лупят крашеные яйца:
– Христос воскрес, – говорю я.
– Воистину воскрес, – рапортуют старушки».
«Целую неделю мы бегали по Киеву, беспечные и счастливые, – написала Г. Люкшина. – Но всякому веселью приходит конец. Из Минска позвонили, что едет московская инспекция…
Саша уехал, но мы уже думали о нашей следующей встрече – в Чернигове. Я попрошу в редакции командировку в Чернигов, а он – в Гомель, оттуда до Чернигова рукой подать». Об этом новом свидании автор рассказала так: «Но счастливые дни вновь пробежали, как один миг… Уезжал Саша в жаркий майский поддень. Автобусом опять до Гомеля, а потом в Минск. Мы прибежали на автостанцию за несколько минут до отправления. Пассажиры уже все были на местах. Саша показал водителю билет и вернулся ко мне. Я ревела, не могла сдержать слез. Это, очевидно, тронуло и пассажиров, и водителя. Они терпеливо ждали, пока Саша успокаивал меня. Потом поцеловал и вскочил на подножку. Я невольно шагнула вслед за ним. Автобус тронулся, подняв клубы пыли. Я осталась на пыльной улице одна.
Позже в пьесе “Старший сын” устами Сарафанова он вспомнит эту страничку своей жизни и горько произнесет: “Свое счастье я оставил там, в Чернигове. Боже мой! Как я мог!” И потом, в другой сцене, тот же Сарафанов скажет с горечью: “Нас перевели тогда в Гомель, она осталась в Чернигове, одна на пыльной улице… Да-да. Совсем одна”. Бусыгин: “Она осталась не одна, как видишь…” Сарафанов: “Да-да. Конечно… Но подожди. Я вспоминаю, вспоминаю…”
“Старший сын”… Откуда такое название для пьесы? Об этом знаем только я и Саша… Он упорно отстаивал его…
…В письме из Иркутска он опять же писал: “Милая! Мне снится пыльная улица в Чернигове, в мае, в полдень. Пыль с той улицы у меня в глазах. Ее не вытравить ни туманами, ни грозами. В жизни не хватит на это туманов и гроз”».
В воспоминаниях Г. Люкшиной нет упоминаний о том, что во время учебы на курсах Вампилов занимался литературным творчеством. П. Дедов заметил: «О своей литературной работе распространяться не любил, не припомню, чтобы что-то свое читал на литкружке…» В. Аринин упомянул об одном разговоре с Вампиловым: «Вот хочу попробовать написать пьесу, – сказал он как-то, немало удивив меня. – Вдруг получится…» Однако, как читатель узнает ниже, в конце 1962 года, то есть вскоре после окончания учебы, Александр примет участие в семинаре драматургов, пишущих для телевидения, и представит там одноактную пьесу «Сто рублей новыми деньгами» и, по воспоминаниям драматурга Алексея Симукова (правда, этот факт не подтвержден документально), – еще одну пьесу, «Воронью рощу». В июле, только что вернувшись из Москвы, опубликует в «родной» газете рассказ «Станция Тайшет». Значит, в столице он не только обдумывал новые сюжеты, но и продолжал писать. Не мог не писать, как в последние студенческие годы, как во время работы в молодежной газете.
Стоит привести одну запись из карманной книжицы, в отличие от многих других – довольно подробную. Это эскиз характера, заготовка для будущего произведения – назовите запись, как хотите. Ясно лишь, что постоянная творческая работа в Сашиной душе не затихала. И о том, что миниатюра набросана именно в московские дни – время первого знакомства Вампилова со столичными спектаклями, говорит ее заголовок: «В театре (Пустяки)»:
«О молодой женщине. Он ее называет: “Старушка”. Она молода. Но она не понимала, не решалась, боялась понять, что ей жаль своей оскорбленной и… молодости. Он ее любит. Она – нет. В театре и после капризничает. Он огорчен. Смотрели трагедию. Отчего, думала она, отчего так грустно? Почему у меня весь вечер такое жуткое настроение? И она не находила в себе смелости признаться в том, что ей жаль свою молодость. Дорогой молчит, плачет.
– Ну вот, ты у меня ребенок, честное слово, маленький, глупенький ребенок.
Она взглянула на него. Ее глаза сделались маленькими и злыми.
– Уйди, пожалуйста, – сказала она и отвернулась к окну.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал Порукин, – спи, спи. Но, честное слово, нельзя же быть такой впечатлительной. Я еще поработаю.
Он подошел к ней, нагнулся и хотел поцеловать ее, но она, не взглянув на него, загородилась рукой.
– Спи, спи, – пробормотал Порукин, еще больше огорчаясь, и (вдруг ссутулившись) вышел из комнаты. Тихо вздохнула дверь. “Отчего, отчего так грустно? Почему у меня весь вечер такое жуткое настроение?” – сонливо думала она. Она боялась понять то, что ей жаль свою молодость».
* * *
Вернувшись в редакцию, Александр занял новую должность – ответственного секретаря газеты. Это было в начале августа 1962 года. А уже в конце ноября он получил приглашение на всероссийский семинар начинающих драматургов в подмосковную Малеевку. Руководил группой, в которой оказался Вампилов, Николай Кладо, опытный драматург и театральный критик. Среди наставников был и Алексей Симуков, работавший в Министерстве культуры СССР и входивший в редколлегию журнала «Художественная самодеятельность». Тот и другой внимательно и заинтересованно отнеслись к молодому таланту.
Николай Кладо рассказывал о творческих занятиях в Малеевке:
«В жизни Вампилова это был первый семинар. Для меня – тридцать седьмой… Впрочем, кое-что было новым. На этот раз Союз писателей РСФСР внял просьбам Гостелерадио и поставил задачей привлечь молодых драматургов к работе на телевидении. Дело это было в то время еще новое, темное. Для телевидения это был тоже первый семинар драматургов… Александр Вампилов привез одноактную комедию, которая позднее получила название “Двадцать минут с ангелом”».
Занятия начались с конфликта. Поначалу Александр был определен в другую группу. Ее руководитель драматург Д. Щеглов, по словам Кладо, «не одобрил пьесы» А. Вампилова и паренька из города Горького, «а они – его программную речь». Как признавался Николай Николаевич, его коллега был «несколько консервативен, старомоден и педантично требовал следовать драматургической традиции». «Мятежники» попросились в группу Кладо и были включены в нее.
Их наставник писал, что, прочитав работы ребят, «столь же резко разошелся» со своим коллегой. Он почувствовал как раз «перспективность и свежий взгляд молодых бунтарей. Очень был рад, когда на заключительном заседании семинара приехавший к нам Л. Соболев (председатель правления Союза писателей РСФСР. – А. Р.) горячо поддержал именно этих авторов, выделив их за смелость, своеобразие и органичный юмор».
Вспоминая тот первый в жизни Вампилова семинар, Кладо попытался объяснить, почему, на его взгляд, первая же пьеса сибиряка вызвала сшибку мнений:
«Тут я, кажется, понял, почему Вампилов, изобретательный и своеобразно воспринимающий жизнь, проникающий в глубины, до тех пор как бы не материализовался в драматургии. Увы, и тут причины, сковывающие индивидуальность, были тоже общие.
На Вампилова было навешано столько “табу”, столько обязательных правил, что за ними легко было и не разглядеть его личности.
Дело в том, что драматургия театра долгое время считалась самой канонической формой драматургии. Режиссура ломала устоявшееся, преображая мир на сцене, а драматургия робко вливала жизнь в старые формы… Долгое время любыми путями утверждалась незыблемость системы Станиславского не только как метод воспитания актера, но и как эстетические его вкусы. МХАТ считался примером незыблемого канона для отбора пьес – схоже ли?
Представьте, как это отражалось на театральной жизни в других городах. “Что нам предлагают? Разве это похоже на спектакли МХАТа? О, нет. Это нельзя”. И Министерство культуры РСФСР было усердно бдительно. Если могут быть какие-то вольности в Москве, Ленинграде, то на периферии…
На семинаре у нас никто никого не учил. Научиться драматург может только сам. Задача – помочь ему раскрыть свое. Для этого раскрепостить, снять тормоза, гири, навешанные в обилии. На занятиях Вампилов увидел: можно то, что я хочу!..
Право на свою творческую манеру он получил еще там, в Малеевке, и неоднократно говорил, как был доволен, когда понял, что можно! Его острое видение мира, зоркость, наблюдательность и вместе с тем фантазия позволили повернуть явление, которое он видит, как оно может повернуться, заставить его заиграть другими красками и помочь открыть суть, явление, глубину… Он уверовал и в правомерность эксцентрики, и в возможность этого течения в искусстве. Это помогло ему вольно идти. Развивать свое! Мне думается, что главное, чем помог ему семинар в Малеевке, – это обрести уверенность в своем пути, в правоте на него».
Оставил подробные, теплые воспоминания о встрече с Вампиловым на давнем семинаре и Алексей Симуков:
«Приехал он на семинар с одноактной пьесой. Названия ее я не помню, потому что сразу его забраковал, предложив другое, которое прочно закрепилось за ней[15]. Пьеса мне сразу понравилась, хотя по сравнению с нынешней редакцией она сильно отличалась как размером, так и составом действующих лиц. Проще будет сказать, что в процессе дальнейшей работы она была начисто переписана Сашей, хотя основная ее мысль о том, что, оказывается, нелегко делать людям добро бескорыстно, просто по доброте души, уже тогда была ярко в ней заявлена.
Думаю, что решительной переделке пьесы в немалой степени способствовала моя попытка предложить ее журналу “Художественная самодеятельность”… Я потерпел тогда сокрушительное поражение, и ряд высказываний по поводу пьесы, имевших характер почти анекдотический, несомненно, лег в основу нового варианта. Самое смешное, что наибольшей несообразностью пьесы моим товарищам по редколлегии показалось основное ее положение – возможность бескорыстного добра без всякого за него ответного возмещения, то есть именно то, ради чего она была написана. Товарищи выступали горячо, убежденно, обвиняя автора в незнании жизни, в неправдоподобии выбранного сюжета, не замечая, какую невеселую картину своих собственных убеждений они при этом рисуют.
Встреча с драматургом Вампиловым была для меня неким открытием, связанным с моим отношением к так называемой философской пьесе. Мне казалось, что чем глубже философская суть драматического произведения, тем больше оно лишается своей театральной занимательности, переходя ближе к жанру драмы для чтения (исключение я делал только для Шекспира). Александр Вампилов предстал передо мною одним из очень немногих советских драматургов, легко, непринужденно, вполне для себя органично соединяющих философскую глубину своих пьес с ослепительно-яркой, чисто театральной формой, которой у нас принято почему-то слегка стыдиться…»
Хотя Симуков горячо поддержал автора пьесы, коллеги Алексея Дмитриевича по журналу «Художественная самодеятельность» не согласились с ним. Симуков в какой-то степени оправдывал их непонимание ситуации, описанной Вампиловым: «Финалом пьесы явилось мучительное раздумье двух дружков, – по-видимому, уже навсегда лишившее их покоя: что же все-таки имел в виду Лопатин[16], предлагая им деньги, если он не преследовал каких-то своих личных целей? Мысль эта, встревожившая ничем дотоле не омраченное миропонимание двух тунеядцев, должна была, очевидно, привести их к предположению, что за пределами уютного, обжитого ими мира, где происходит традиционный обмен ценностями – ты мне, я тебе – существует иной мир – бескорыстных человеческих отношений. Поверят ли в него два дружка, станут ли они ему сопричастны, автор не уточнял, но сама проблема была выражена в пьесе с предельной силой, с обезоруживающей простотой ситуации».
Замечания, высказанные в редакции журнала «Художественная самодеятельность» и на семинаре, помогли Вампилову в последующей работе над комедией. В ней вместо двух фарцовщиков Святуса и Сероштана (в самом первом варианте они носили фамилии Несудимов и Белоштан) действуют шофер Анчугин и экспедитор Угаров, вместо «хорошего человека» Патрика – агроном Хомутов, вместо домохозяйки Нинэль Филипповны – коридорная гостиницы «Тайга» Васюта. В пьесе появились новые герои – скрипач Базильский и молодожены – инженер Ступак и студентка Фаина. Комедия получила в соответствии с художественными задачами более точное образное название – «Двадцать минут с ангелом». Дело, конечно, не в том, что во втором варианте комедии автор достиг «большей социальной определенности», что в ней «за частным фактом проступает система взаимоотношений в обществе», как пишет, например, С. Комаров в комментарии к пьесе, опубликованной в книге «Александр Вампилов. Драматургическое наследие» (Иркутск, 2012). Заметим, что автор увидел пресловутую «социальность» и в первом варианте, причем объяснил ее в таких пространных и довольно темных выражениях: «Выбор Вампиловым в качестве персонажей двух фарцовщиков нейлоновыми носками не случаен. Вещи и деньги – их социальные ценности, носки опредмечивают идею движения, странничества россиян на данном историческом этапе, раз продукт фарцовки востребован и им можно жить. Кроме того, подчеркивается открытость российского пространства заграничному опыту, как и наличие жестких границ “своего” и “чужого” для начала 1960-х годов. В этом тоже – социальность зрения Вампилова-драматурга». На самом же деле, новый вариант пьесы с «исповедью» Хомутова, с отношением к его поступку не только двух героев, знакомых (хотя бы своим поведением) по первому варианту, но и новых персонажей с резко очерченной индивидуальностью, – все это обогатило нравственное содержание произведения, его художественный смысл.
Правда, такую доработку комедии автор сделал позже. А в прежнем варианте он предложил ее в иркутский альманах «Ангара». Ее приняли, набрали текст, но цензура выбросила пьесу из сверстанного второго номера за 1963 год. Сверхбдительные идеологические надсмотрщики тоже сочли сюжет комедии неправдоподобным, надуманным. Новый вариант ее был напечатан лишь в начале 1967 года в газете «Советская молодежь» и летом 1970 года – в альманахе «Ангара».
Вторая пьеса, о которой А. Симуков упоминает как о представленной автором в Малеевке, носила известное и поныне название «Воронья роща». Но только название; события, описанные в ней, не совпадают с теми, что происходят в публикуемом сегодня варианте этого произведения. Вот как передает прежний сюжет А. Симуков:
«Героем пьесы, о которой я до сих пор вспоминаю, был пожилой капитан речного буксира, остановившийся в той же гостинице, где происходит действие “Двадцати минут с ангелом”. Он попадает в водоворот совершенно непредвиденных событий, в их числе встреча с женщиной, которую он, в силу возникших обстоятельств, вынужден выдавать за свою жену, в то время как ее любовник выдает себя за ее брата… С таким завидным знанием жизни создавал драматург самые невероятные фарсовые ситуации для своего героя, бросая его из огня в полымя, заставляя нас в то же время влюбиться в него – такого смешного и одновременно трогательного… “Мольер!” – повторял я про себя, когда Саша читал мне эту пьесу. Где она, что с ней – не знаю…»
Позже Вампилов переработал и эту пьесу. Трудно судить по пересказу о художественной значимости первого варианта пьесы, но о своеобразии нравственного осмысления жизни, явленного автором в новом ее варианте, можно говорить определенно.
Начальник пароходства Баохин идет к другу юности, спившемуся сослуживцу Лохову с просьбой выступить в его защиту на важном совещании. В комнате юной Виктории, соседки Лохова, где нежданный гость ожидает отлучившегося давнего друга, с Баохиным случается сердечный приступ. Приезжают вызванные по телефону Викторией его молодая жена с любовником и сын от первой жены, врач. И тут в трагикомической ситуации главный герой, почти при смерти, понимает, что жил скверно, не по совести: первую жену с сыном выгнал ради супружества с молодой и неверной спутницей, сына не воспитывал, о лучшем друге не вспоминал, пока на потребовалась его помощь. В эти минуты «прозренья», выдворив из комнаты всех, кроме Юрия Лохова и Виктории, Баохин произносит необычные слова: «Спасибо… Тебе, Юра… И тебе, милая, благородная девушка… Спасибо, что вы здесь, со мной… Вы мне родные, вы мне и близкие… Вы мне и глаза закроете…»
Не напоминает ли этот монолог пронзительные слова Сарафанова из будущей комедии «Старший сын»:
«То, что случилось, – все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда…
Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов – все рядом. Макарская в стороне.
Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (Всем троим.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное…»
Выходит, что уже в начале 1960-х годов, только нащупывая писательскую стезю, Вампилов усвоил для себя нравственную доминанту своего творчества, о которой позже писали критики – «утверждать в человеке человеческое». Думается, не только неожиданные, почти фантастические коллизии, в которые попадают герои пьесы, но прежде всего некое озарение: в чем же подлинный смысл жизни? – заставляет с восхищением восклицать: «Мольер!»
Об этом «вампиловском коде» произведений драматурга, даже и ранних, Валентин Распутин выразился так:
«Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно подпадает под нелегкое нравственное испытание, своего рода исповедь – его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекался еще во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля, – в этом незаменимая, но удивительная сила и тихая страсть его таланта. И когда говорят о “театре Вампилова”, следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже еще и увеличивает, а не снижает».
Удивительно, что и сегодня, когда, казалось бы, наследие комедиографа можно изучить без спешки и рассмотреть его глубоко, в печати все еще появляется невнятица, вроде той, какую публикует автор комментариев в книге «Александр Вампилов. Драматургическое наследие»:
«“Воронья роща” фиксирует вписанность вампиловских персонажей в историю России, их прикрепленность к определенному поколению, а также важность измерения человека семейными ценностями… Социально-производственная пружина интриги, неотвратимость официального разбирательства, вовлеченность общественных структур в событийный ряд отличают сюжет “Вороньей рощи”».
* * *
Письма Александра, адресованные Г. Люкшиной и опубликованные ею, говорят о серьезности их отношений. Год, прошедший после учебы в Москве, был полон для Вампилова мучительных переживаний. Нужно знать характер Вампилова, его врожденную честность, душевную щедрость, чтобы представить его терзания в распадающейся семье. «Я так же во лжи и неприятностях. Самое хорошее – твои письма и то, что ты меня еще любишь…» – писал он Галине в Чебоксары, где она начала работать. И в следующих посланиях: «Я сижу сейчас в командировке в Чуне, на севере между Братском и Тайшетом… Сегодня вечер тихий, теплый, удивительный в октябре для этих мест. Над черной рекой Чуной дымные первобытные огни. Они пылают на носах лодок – здесь “лучат” рыбу. Пьяные браконьеры-гондольеры орут похабные свои баркаролы. Мне трудно здесь, на этом берегу, думать о том, что ты меня забудешь… И все-таки мы встретимся скоро. В этом году. Я не называю даты. Я не могу сказать, когда точно. В этом году…» «Скоро мы встретимся. Будем говорить и думать, как дальше. В Москве я пробуду два дня, сколько буду у тебя – не знаю. Знаю только, что мы все на этот раз решим. Вот-вот выпадет снег, который уже не растает. Я был на Байкале недавно, сейчас там мрачно. От секретарства выкручиваюсь. Скоро увидимся, я подам телеграмму, когда вылечу в Москву» (Александр собирался на семинар в Малеевку. – А. Р.).
О встрече в зимней столице автор воспоминаний рассказала:
«Окрыленный успехами на семинаре, он читал мне отдельные места своей одноактной пьесы, спрашивал совета, хотя тогда я была еще слабым советчиком. Настроение мое было несколько подпорчено письмом его мамы, Анастасии Прокопьевны, которое лежало открытым у него на столе, и я, что греха таить, заглянула в него. Там были строчки о том, что, если он все же решил быть вместе с девушкой с Волги, очевидно, она достойна этого, но надо еще раз подумать о серьезности своего шага. Анастасия Прокопьевна меня не видела, а Люсю, Сашину жену, знала хорошо. Это был просто материнский совет, но тогда мне показалось, что она не одобряет его поступка. Я переживала, что Люся в Иркутске рядом с Сашей и с ней, а я – далеко. Я была, как и Саша, ревнива, самолюбива, делить его не хотела ни с кем.
Стараясь, чтобы Саша не понял, что я ревную, я замкнулась, как бы ожидая удара. Саша заметил мое состояние, но не догадывался, чем оно вызвано. Сказать о том, что я заглянула в его письмо, я не могла, было мучительно стыдно. Так Саша никогда и не узнал об этом».
Приводя строки из воспоминаний о Вампилове, из его писем и летучих набросков, мы стараемся дать читателю представление о подлинной сложной жизни, которая захватывала его душу, приносила радости и печали. В письме, относящемся к началу 1963 года, рядом с признаниями и утешениями находим насмешливое сообщение: «Здесь я застал оживление в литературной лавочке, даже ажиотаж. В стране два города, где клеймили недавно абстракционистов: Москва и Иркутск. Ты читала в “Известиях”. Здесь было совещание на манер кремлевского, выявляли абстракционистов и формалистов. Я, как оказалось, формалист. Вот какие вещи!»
И нам важно, какое впечатление оставлял Александр у тех, кто знал его. Сравните их свидетельства – и вам понятнее и ближе окажется человек, чье творчество заинтересовало вас. По этой причине рассказ Г. Люкшиной заслуживает особого внимания:
«С ним всегда и везде было весело и легко, он не утомлял своим присутствием, не был назойлив или болтлив, хотя много рассказывал и шутил. И главное, он не мельтешил, не лебезил, не подлизывался даже тогда, когда случались маленькие ссоры. Все вставало на свои места само собой, без дополнительных усилий. Конечно же, решающей была его нежность, его прямо-таки почтительное отношение ко мне. Я больше капризничала, но он никогда не акцентировал на этом свое внимание и принимал как должное, памятуя слова классика: “Ты женщина, и этим ты права”. А меня все больше и больше беспокоило: удержу ли я его? Желающих заполучить молодого, талантливого, красивого драматурга становилось все больше и больше. Нравы московской литературной, театральной публики были мне известны. Я боялась их мертвой хватки, их правил игры. Они меня пугали. У нас с Сашей было много общего в воспитании, во взглядах на жизнь. Но я уже знала и видела, как талантливых провинциалов заставляли играть по другим правилам и тех, кто не поддавался, ломали.








