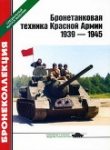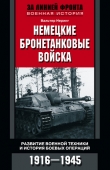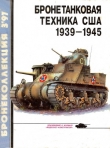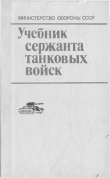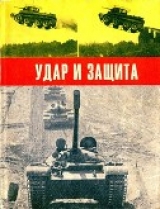
Текст книги "Удар и защита
(Сборник)"
Автор книги: Андрей Бескурников
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Противотанковое оружие
Враг всеми силами будет пытаться вывести из строя наступающие на него танки.
Одно из самых простых средств, которым танк может быть остановлен на поле боя, – противотанковая мина. При наезде на нее гусеницей срабатывает нажимной центральный взрыватель, вызывающий взрыв всей мины. Мина может разбить каток, повредить гусеницу, пробить днище танка.
Такую мину можно обнаружить по неаккуратно рассыпанной земле, нарушению дерна, бугру над ней. Пропустив ее между гусеницами, механик-водитель не вызовет взрыва. Более коварной является мина, из взрывателя которой выведен наружу тонкий стержень. Обычно его маскируют под кустарник. Наезд днищем на стержень приводит в действие взрыватель, и мина взрывается под танком, пробивая сравнительно слабую броню днища.
Противоднищевые мины, как и обычные противотанковые, устанавливаются на поверхности или заглубляются в грунт. Однако у бронированных машин уязвимо не только днище, но и борт. Зарубежные специалисты питаются приспособить мины и для противобортового действия. В этом случае «минная засада» устраивается на обочине дороги.
По существу, такого рода мина представляет собой кумулятивную гранату, которая выстреливается в момент наезда машины на специальное выносное устройство, установленное на проезжей части дороги. Например, в конструкции одной американской мины использована табельная реактивная граната от противотанкового ружья.
Несколько иначе устроена французская противобортовая мина. Металлический корпус в виде цилиндра (диаметр 190 мм, длина 270 мм) заполняется взрывчатым веществом с кумулятивной выемкой, в середине которой стальной сердечник. Как только машина разрывает протянутый через дорогу провод, мина, располагающаяся на треноге в стороне от дороги, взрывается. При этом сердечник заряда расплавляется, образуя струю жидкого металла. Она-то и получает высокую кинетическую энергию, которая способна вызвать сильные разрушения.
Сильные разрушения вызывают фугасы-заряды с большим количеством взрывчатого вещества. Они могут устанавливаться в грунте, на деревьях, в завалах.

Противотанковый фугас.
Для обезвреживания мин обычно применяются миноискатели. Но при наступлении танков, когда они совершают стремительные маневры под огнем противника, саперов использовать нельзя. С этой целью применяются танковые тралы, навешиваемые на часть танков, действующих в составе подразделения. Наехав на мину, катковый или дисковый трал своим весом вызывает ее взрыв, для него безвредный. По протраленным путям движутся остальные танки.
Любопытным, хотя и не оправдавшим себя, оружием является подвижная мина-торпеда, управляемая по проводам. Впервые против советских танков ее применили фашисты в 1943 году. Торпеда представляет собой маленькую модель гусеничной машины без башни. Провод, разматывающийся с барабана, подсоединяется к пульту управления.
Оператор может, используя складки местности и растительность, незаметно подвести торпеду к танку и взорвать ее под гусеницами или днищем.
Вражеская пехота имеет на своем вооружении противотанковые ружья или гранатометы. Обычно это ствол, открытый с обоих концов. Метательный заряд, находящийся в противотанковой гранате, действует по принципу реактивного двигателя.
Взрывной заряд кумулятивного типа. Он может пробивать броню значительной толщины.
Таким оружием удобно действовать там, где танк не имеет возможности маневра: в городе, в лесу, в горах. При действиях в поле расчет такого гранатомета танкисты могут обнаружить по облаку пыли, поднимаемому при выстреле пороховыми газами у заднего конца ствола, и уничтожить его пулеметным огнем.

Противотанковая мина.

Минный трал.
Конечно, чтобы исключить поражение расчетов огнем, противотанковое оружие стремятся сделать маневренным и неуязвимым.
В ФРГ, например, специально для борьбы с танками создан танк-истребитель («ягдпанцер»), Внешне он напоминает САУ времен второй мировой войны. Обладая высокой скоростью, бронированием, низким силуэтом, такой истребитель танков может скрытно подбираться к танкам и наносить им поражения огнем 90-мм орудия. От пехоты «ягдпанцер» может отбиваться пулеметами.
Конечно, в век ракет не забыли и об управляемых противотанковых ракетах. За рубежом их оснащают кумулятивными зарядами и наводят на цель радиосредствами или по проводам. Обладая высокой точностью стрельбы и бронепробиваемостью, ПТУРСы, как называют эти снаряды, имеют и недостатки. Дело в том, что управление таким снарядом возможно только на расстоянии визуального наблюдения за целью. Как только между снарядом и оператором встает облако дыма, пыли или танк укрывается в складках местности, ПТУРСы теряют свое преимущество. Против танков можно использовать и так называемые «пассивные средства борьбы». Это надолбы, «ежи», лесные завалы, рвы.
Все они служат для того, чтобы задержать продвижение танков, изменить маршруты их движения.
Надолбы всех типов – стальные, деревянные, гранитные, железобетонные – рассчитаны на то, что машина сядет на них днищем и гусеницы потеряют сцепление. Пни на старых порубках или специально вырубленных участках леса представляют собой те же надолбы. Разумеется, они явятся препятствием для танка, только если высота пня, как и надолбы, больше клиренса машины.
К препятствиям того же типа относится металлический барьер, рассчитанный на потерю сцепления гусениц и застревание машины.
Надолбы располагают полосами, так, чтобы танк не прошел между ними. Чтобы танк не мог выворотить надолбы, их зарывают в землю на достаточную глубину. Деревянные и стальные надолбы для увеличения их прочности наклоняют навстречу движению танка.
В отличие от надолб «ежи» не закапывают, а просто устанавливают на пути танков, связывая их между собой цепями. «Ежи» устанавливаются быстрее надолб и обычно применяются в населенных пунктах для заграждения улиц.
Для преодоления надолб в них делают проходы, подрывая или расстреливая их. В отдельных случаях удается провести танки по надолбам. Но для этого от водителя требуется большое искусство.
Лесные завалы устраивают на лесных дорогах, сваливая деревья и заграждая ими путь с таким расчетом, чтобы танк не мог преодолеть завал своим ходом. Чтобы затруднить разборку завала, стволы подпиливают не до конца (оставляют связь с пнем); иногда деревья скрепляют колючей проволокой.
Завал нужно либо уничтожить подрывом, либо растащить танками и бульдозерами. Для этого бревна зацепляют «кошкой» – тросом с крюками на конце. Завалы обычно минируют. Это следует помнить при растаскивании деревьев и иметь трос достаточной длины.



Противотанковые препятствия.
Не забывай, что противник будет использовать все, что может повредить танку. Противотанковые гранаты тоже могут вызвать отдельные повреждения, а огонь стрелкового оружия по смотровым приборам на некоторое время «ослепит» экипаж.
Именно поэтому девиз танкистов – первыми находить врага и смело уничтожать всеми средствами.
Даже если противник проникнет в мертвую (непростреливаемую) зону вокруг танка с поврежденной ходовой частью, экипаж в состоянии отбиться осколочными гранатами, которые имеются в боеукладке каждого танка.
Взрыв гранаты «Ф-1», выброшенной из люка, не поражает танк и экипаж, но уничтожает солдат противника около танка и на его броне.


ДОРОГИ ТАНКИСТОВ
К. Деветьяров
Баллада о советском танкисте
В городе Шахунье, на родине Героя Советского Союза командира танка Дмитрия Комарова, погибшего при форсировании реки Нарев, стоит бюст отважного танкиста.
Как-то у этого бюста произошел разговор четырех мальчишек: «Ребята, кто это Комаров?»
Один из них ответил: «Комаров? Танкист».
Другой добавил: «Герой», но первый авторитетно перебил его: «Эх, ты… Раз танкист, то, конечно, герой!»
Для этих мальчишек «танкист» и «герой» – понятия идентичные, дополняющие друг друга. А что знаешь ты о тех, кто водит боевые машины сейчас или водил их в годы войны?
Танкистом становятся не сразу. Конечно, ты уже понял: в этой военной профессии много романтики, будни боевой учебы ярки и вместе с тем сложны.
И если ты думаешь, что героем станешь сразу, как только укрепишь в черной петлице золотистую танковую эмблему, то ты серьезно заблуждаешься.
Про людей с такой профессией часто говорят: «Сердца в броне». Не старайся искать здесь сравнений, попытайся понять суть этого выражения.
Впервые эту историю мы услышали в Рудных горах. В маленькой пивной «У горного ручейка» за соседним с нашим столом сидели четверо.
– Это ты о русском танке? – спросил один. Мы прислушались Другой молча кивнул.
– Это правда. Я тоже слышал, – сказал третий. – Когда русские с тяжелыми боями шли сюда, он шел впереди танковой колонны, и вели его те самые русские парни. Они первыми ворвались на полигон и в концлагерь – дорога была знакомая… Когда фашисты увидели головную машину и узнали ребят на этом танке, эсэсовские свиньи умерли от страха!
Другие собеседники слыхали, что кто-то видел этот танк не то в Тюрингии, не то в Магдебурге, не то в Шверине. Одни как будто видели его днем, другие – ночью, третьи – ранним утром. Он шел, обходя населенные пункты, громыхая гусеницами, и на нем стоял молодой русский парень с совершенно седой головой и обожженным лицом.
То, что услышали мы тогда об этом танке в глухом селении в Рудных горах, было похоже на выдумку, героическую легенду. Но вот недавно случай привел нас в одну из советских воинских частей, расположенных в другом краю ГДР, далеко от Рудных гор.
Это было на занятиях в танковой части. В минуту отдыха в защищенной от ветра ложбине собрались танкисты, совсем еще молодые ребята.
– Товарищ старший лейтенант, правда ли, что в войну фашисты испытывали свои противотанковые средства на наших танках?
– Правда, – ответил офицер.
…Первые русские танки появились на тыловых немецких полигонах в конце лета сорок первого года. Их доставляли по специальному указанию командования. С вмятинами на корпусе, с обожженными боками они напоминали солдат, раненных в бою.
День и ночь на полигонах, в мастерских и лабораториях офицеры вермахта, инженеры, конструкторы, ученые ходили вокруг танков, взбирались на них, щупали, мерили, снимали отдельные части, заполняли результатами анализов, измерений и проверок толстые книги. День и ночь конструкторские бюро и лаборатории военных заводов «третьего рейха» работали над выполнением особого приказа фюрера: срочно, немедленно создать новые танки, более грозные, чем советские.
Пока в одних конструкторских бюро рейха ломали голову над созданием нового «арийского» танка, в других спешно искали эффективные методы борьбы с русскими танками: обычные противотанковые мины, мины электромагнитные, противотанковые гранаты, начиненные газами, бронебойные снаряды.
На одном из полигонов, раскинувшемся на территории в несколько десятков квадратных километров, это оружие испытывалось на советских танках.
Полигон, расположенный далеко от фронта, в глубоком тылу, время от времени превращался в участок фронта, где происходили настоящие танковые бои. С одной стороны в них участвовали гитлеровские солдаты и офицеры, которые проходили здесь боевую подготовку, с другой – захваченные советские танки и… пленные танкисты из расположенного неподалеку концлагеря.
Однажды на полигон под усиленным конвоем привели трех новеньких в полосатой лагерной форме, молодых, молчаливых и настороженных. Вдруг их суровые лица просветлели – они увидели советский танк «Т-34». Один из узников не удержался и осторожно, ласково погладил рукой холодный металл, словно после долгой разлуки встретил друга. Гитлеровский офицер заметил это и ухмыльнулся.
– Карошо. Квалитет! – сказал он. – Ми уважайт руски танки. Ви понял задач? – спросил офицер.
Пленные молча кивнули.
– Ви занимайт панцер и двигайт туда, – офицер указал рукой направление. – Нахдэм, потом, ви пово-ра-чиват рехтс, направо, проволока, вода, канава унд зо вайтер, и ви ходит назад на это место, – притопнул он ногой, там, где стоял, – а ми будем посмотреть. Нахдэм вы получайт свобода.
Русские переглянулись. Один из парней решительным рывком вскочил на танк и открыл люк. За ним – второй и третий. Несколько секунд они стояли, выпрямившись в полный рост, и смотрели на гитлеровцев сверху вниз, гордо и радостно, словно этот бронированный островок был кусочком родной земли во вражеском море.
– Шнель, шнель! Бистро! – крикнул снизу офицер.
Парни словно по команде вдохнули полной грудью полевой, смешанный с запахами металла и горючего воздух полигона и один за другим скрылись в машине. С лязгом хлопнула крышка люка. Внутри что-то застучало, танк зачихал, закашлял, окутался едким сизым дымом, дрогнул, повернулся направо, потом налево, словно потоптался на одном месте, и наконец медленно тронулся.
Офицеры на наблюдательных пунктах прильнули к биноклям, раскрыли записные книжки, приготовили карандаши, чтобы тщательно, по этапам зафиксировать то, что сейчас произойдет. В ожидании сигнала застыли у противотанковых орудий артиллеристы, которым предстояло расстрелять одинокий танк. Солдаты в тщательно замаскированных окопах готовили к бою противотанковые гранаты. На соседнем аэродроме в кабину «юнкерса» уже поднимался летчик…
Советские парни, сидевшие в безоружном танке, ничего этого не видели. Машина двигалась по полю сначала нерешительно, на малой скорости. Затем, словно разгадав коварный замысел гитлеровцев, за несколько метров до того места, когда в него должен был угодить первый снаряд, танк вдруг резко развернулся вправо и, быстро набрав скорость, пошел по дуге. На предельной скорости он объехал полигон, как бы проверяя, какие сюрпризы уготовили ему враги, и, замкнув круг, пошел по прямой туда, откуда начал свой путь.
Фашисты всполошились. Затрещали полевые телефоны. Что делать? Но, оказывается, зная характер русских, гитлеровцы предусмотрели подобный оборот своей затеи.
– Спокойно, – донеслось с командного пункта. – Действуйте по варианту два!
Первая граната разорвалась справа. Осколки и комья земли забарабанили по броне. Второе облако разрыва взметнулось впереди. Машина резко повернула влево, когда раздался еще один взрыв. Кольцо сужалось. Танк прибавил скорость.
Впереди среди кустов блеснула сталь орудия. Почти в упор в стальную грудь боевой машины хлестнула огненная струя. Но танк не остановился. Вырвавшись из облака дыма и пыли, на полном ходу он устремился к кустам, где было спрятано орудие. Мелькнули перекошенные ужасом лица артиллеристов. Это не было предусмотрено ни первым, ни вторым вариантами. Стальными гусеницами танк вдавил в землю орудие и прислугу и, не замедляя хода, понесся дальше.
Теперь уже всполошились и на командном пункте:
– Герр оберст, эти русские поступают не по плану…
– Вижу, – коротко бросил полковник.
– Но, герр оберст, позволю вам заметить, у нас жертвы.
– Знаю. Вы думаете, на фронте у вас не будет жертв? Здесь идет бой.
Полигон превратился в поле неравной, беспримерной битвы безоружного «Т-34» с многочисленным противником, вооруженным до зубов новейшими средствами борьбы против танков.
Над полем неравного боя появился «юнкерс». Его пилот еще не знал, что произошло на полигоне, и спокойно готовился нанести по танку решающий, уничтожающий удар. Он спикировал раз, другой. Мимо. Кончился боезапас. А неуязвимый «Т-34», оставляя за собой длинный шлейф дыма и пыли, уходил за пределы полигона и вскоре исчез из виду…
Старший лейтенант умолк.
– Это легенда? – спросили мы.
– Это правда, – ответил он.
– А откуда вы знаете об этом?
– Мне рассказывал эту историю один майор.
Мы разыскали этого майора. Он назвал фамилию полковника, который служит в Германии и многое знает. Полковник находился далеко. Мы поехали туда, говорили с ним, а затем с генералом.
– Откуда вы знаете эту историю?
– От наших солдат…
Мы все же решили продолжать поиски. Встречались со многими бывшими немецкими военными, начиная от унтеров и кончая генералами.
– Знаете ли вы, что на немецких полигонах новейшие образцы оружия испытывались на захваченных советских танках?
– Да.
– Известно ли вам, что во время этих испытаний использовались советские военнопленные?
Ответы были весьма уклончивые.
Тогда мы задали вопрос в другой форме:
– Допускаете ли вы, что во время этих испытаний использовались русские военнопленные?
– Да, – ответил бывший командир танкового батальона.
– Я не сомневаюсь в этом, – ответил бывший командир учебной роты на полигоне.
– Я уверен в этом, – ответил бывший немецкий генерал.

В гитлеровской Германии было много больших и известных полигонов – таких, как вюнсдорфский под Берлином, ордруфский под Эрфуртом. Было много и засекреченных. Где, на каком из них гитлеровцы устраивали учебные бои с русскими танкистами?
Молчат документы, молчат очевидцы и соучастники – еще не все преступления немецких фашистов расследованы, не все их виновники разоблачены.
Но есть другие свидетели – бывшие узники фашистских лагерей. Может быть, они что-нибудь знают о легендарном неравном бое советских танкистов на немецком полигоне? Может быть, кто-то из героических экипажей этих танков-смертников, увековеченных народной легендой, живет где-нибудь под Кустанаем и водит комбайн по целине?
О подвиге безымянных советских танкистов сложены легенды. Народ обессмертил их имена. И поэтому, когда молодые бойцы спрашивают своего командира, вырвались ли эти танкисты из фашистского плена и живы ли они сейчас, командир уверенно отвечает: «Да. Они живут».

Юрий Жуков
Армейской дорогой
О таких людях статьи писать труднее, чем книги. Попробуй-ка изложи на нескольких страничках путь, пройденный этим крестьянским сыном из деревни Большое Уварово Озерского района; от солдата до маршала бронетанковых войск. Рос босоногим мальчонкой, кликали его Мишкой, а нынче стоит в Большом Уварове посреди площади бронзовый бюст, как положено, в честь дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова.
Было это в одна тысяча девятьсот семнадцатом году в Петрограде, где он уже пять лет работал без жалованья, только за хозяйские харчи у одного питерского купца: числился в учениках. В то утро началась стрельба. Знакомые солдаты позвали: «Айда буржуев бить – ты парень крепкий», дали берданку, четыре патрона, и принял Михаил Катуков свое боевое крещение на Лиговке, когда вышибали юнкеров, засевших в гостинице «Северная».
Потом была гражданская война – ее он начинал в районе Царицына. Дальше воевал на Дону, на польском фронте – служил в 57-й стрелковой дивизии. Учился на курсах комсостава. Был помкомроты, комроты, комбатом, ну и так далее до больших должностей. Отечественную войну начал 22 июня 1941 года полковником, а кончил 9 мая 1945 года генерал-полковником танковых войск. Верховное Главнокомандование заприметило этого человека уже жестокой осенью сорок первого, когда он со своей четвертой танковой бригадой встал плечом к плечу с несколькими другими частями под Орлом на пути армии Гудериана и, хитрейшим образом маневрируя и действуя из засад, сбил с толку и обескуражил эту гитлеровскую лису: Гудериан решил, что перед ним мощное соединение, и замедлил продвижение к Москве. «Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить», – с горечью написал он после войны в своих мемуарах. А было в ту пору у Катукова лишь семь тяжелых танков «КВ» да двадцать две тридцатьчетверки.
Вот тогда-то и появился знаменитый приказ народного комиссара обороны «О переименовании 4-й танковой бригады в 1-ю гвардейскую танковую бригаду», и было сказано в нем, что эта танковая часть «отважными и умелыми боевыми действиями с 4.10 по 11.10 (1941 года), несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери. Две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров 4-й танковой бригады».

Так этот полковник стал командиром самой первой гвардейской танковой бригады, а кончил он войну уже в Берлине, имея под началом все ту же, ставшую легендарной бригаду, но теперь та бригада входила уже в состав 1-й гвардейской танковой армии, а всего было теперь у командарма Катукова уже тысяча современнейших танков, не считая прочей боевой техники.
Берлин… Да, пожалуй, именно Берлин был звездным часом Катукова, хотя были и до этого у него многие важные события в жизни, и были многие трудные и славные битвы, и поразительные военные успехи – и на Курской дуге, и на Украине, и в Польше, и в Германии. Об участии во взятии Берлина он с надеждой и верой думал с самого начала войны:
– с той самой тяжкой летней поры сорок первого, когда в ужасающе трудных боях под Малином его танкисты, располагавшие всего лишь тридцатью учебными машинами, отбивались от гитлеровцев, стреляя из винтовок, рубились саперными лопатками, дрались ломами и гаечными ключами;
– с той самой холодной дождливой осенней ночи того же сорок первого, когда он по пути с Юго-Западного фронта в столицу за новым назначением заехал в родную деревню – поклониться могиле матери.
Его адъютант так рассказывал тогда мне об этом: «Пришли в катуковскую избу. Встречает отец – седой такой крестьянин в очках, Ефим Епифанович. А утром сходили на могилу матери. Подошел Михаил Ефимович, снял фуражку и долго так стоял. Лицо потемнело, глаза какие-то стальные сделались. Помолчал и сказал: „Неужто и здесь воевать придется, в своей родной Московской области? Лучше умереть, чем допустить их сюда. Но ничего – остановим. Остановим и погоним до Берлина“».
Я познакомился с Катуковым несколько недель спустя, когда он уже воевал в нескольких десятках километров от Москвы. То были самые драматичные дни обороны столицы. Знакомство с людьми его танковой бригады было для меня большим творческим и просто человеческим счастьем – даже в самые непереносимые часы эти люди сохраняли веру в конечный успех и выглядели поразительно спокойно, хотя под этим внешним спокойствием угадывалась невероятная напряженность туго свернутой стальной пружины. Как они воевали! Кто из ветеранов-танкистов не помнит Дмитрия Лавриненко, который уничтожил поистине невероятное количество гитлеровских танков – пятьдесят две машины; Ивана Любушкина, Александра Бурду, Константина Самохина и многих-многих орлят из гнезда Катукова?
А сам комбриг? Даже тогда, когда уже казалось, что силы на пределе, он, давно позабывший о сне, с красными глазами, одетый в обожженную походными кострами солдатскую шинель, на петлицах которой были химическим карандашом нарисованы две звездочки, напоминавшие, что он уже гвардии генерал-майор, говорил мне тихим, немного надтреснутым голосом: «Ничего, в Берлине рассчитаемся…»
Лето 1942 года… Отчаянные, трудные битвы на Воронежском направлении. Голова идет кругом при чтении горьких штабных сводок. А Катуков, который тогда уже командовал 1-м танковым корпусом, размышляет над опытом наших первых больших танковых соединений и говорит мне: «Запомните хорошенько и зарубите на носу: Берлин будут брать штурмом танковые армии. Конечно, они будут действовать не одни. Самый тяжелый труд выпадет на долю нашей великомученицы– матушки-пехоты. Многое сделает и артиллерия. Еще больше – авиация. Но решающей силой будут танки, И они должны будут наносить массированные – именно массированные! – удары. Они пойдут по нескольку сот, может быть, по тысяче машин. Только так можно будет завоевать победу в этой проклятой войне…»
И еще вспоминается встреча: Курская дуга, сталь ударяется о сталь, земля изрыта и перекопана снарядами, бомбами и гусеницами танков до основания, небо меркнет от пыли, кругом отчетливо слышны дробь автоматов и выстрелы винтовок, а Катуков – теперь он командующий 1-й танковой армией – медлит отвести назад свой командный пункт, расположенный в леске у Обояни, он твердит, что силища танковых дивизий Гитлера вот-вот надломится и мы пойдем ломить стеною до самого Берлина. И вот уже действительно враг сломлен, и в прорыв устремляются плечом к плечу танковые армии Катукова и Ротмистрова…
И еще. Где-то в лесу, под Львовом, Катуков рассказывает мне, негодуя, о зверствах гитлеровцев и тут же добавляет: «Жив буду, обязательно постараюсь принять участие в штурме Берлина, где бы ни находилась к тому времени армия. Не удастся добиться передислокации армии – попрошусь командовать бригадой, полком, батальоном, хоть ротой, а в Берлине буду! Очень мне нужно до рейхсканцелярии Гитлера добраться, есть о чем с ним поговорить…»
И вот уже 1-я – ставшая опять-таки гвардейской! – танковая армия выходит, как говорится, на последнюю прямую. Вместе со сталинградскими дивизиями 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова, вместе с матушкой-пехотой, как ласково именует ее Катуков, она выполняет роль могучего тарана, который проламывает последние линии обороны гитлеровцев. Настроение у гвардейцев приподнятое, они по-хорошему взволнованы.
Передо мною письмецо, которое Михаил Ефимович написал мне 14 апреля 1945 года – до начала штурма Зееловских высот остаются считанные часы, и каким молодым задором дышат эти строки:
«…В наших последних походах – на запад и на север – воевать было, конечно, веселее, чем под Обоянью, к тому же и опыта было больше, чем тогда, да и техникой нас Советская власть не обидела. Закончили мы сей этап в Гдыне, и очень быстро, – повернув на восток от Кольберга. Навалили на дорогах такие груды утильсырья из гитлеровских танков, пушек, автомобилей и всего прочего, что весело вспоминать, – повсюду на шоссе на десятки километров такой компот. Много пленных. Среди них наши старые знакомые по Курской дуге – эсэсовцы, только теперь у них вид совсем другой…
Вчера маршал Жуков вручил мне вторую Золотую Звезду, сказал: надо отработать в ближайшей операции. Будем стараться на благо нашей Родины – дадим Гитлеру последний пинок высокой квалификации и в указанном темпе…».

И вот еще одно письмо Катукова, написанное сразу по окончании последнего боя. Письмо совершенно иного, взволнованного и, я бы сказал, философского настроя: ведь это конец войны.
«Пишу из притихшего Берлина. Мы докончили наконец гитлеровцев, Берлин еще позавидует Орлу, Севастополю и многим другим городам, разрушенным вермахтом, – он выглядит страшнее, чем они. Этого можно было бы избежать, если бы не безумство Гитлера, который заставлял своих людей бороться до последнего человека, хотя это сопротивление было абсолютно бессмысленно…
Но пусть во всем этом разбираются теперь сами немцы и пусть извлекают свои уроки – им есть о чем подумать. Мы же свое дело сделали».
Маршалы бронетанковых войск СССР
ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич
(1895–1947)
В период Великой Отечественной войны возглавлял бронетанковые и механизированные войска Советской Армии,
РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич
Главный маршал (род. 1901)
Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор, генеральный инспектор Министерства обороны СССР.
РЫБАЛКО Павел Семенович
(1894–1948)
Дважды Герой Советского Союза. Во время войны командовал 3-й гвардейской танковой армией.
КАТУКОВ Михаил Ефимович
(род. 1900)
Дважды Герой Советского Союза. Во время войны командовал 1-й гвардейской танковой армией.
ПОЛУБОЯРОВ Павел Павлович (род. 1901)
Герой Советского Союза. Начальник танковых войск страны в послевоенный период, военный инспектор Министерства обороны СССР.
БОГДАНОВ Семен Ильич
(1894–1960)
Дважды Герой Советского Союза. Во время войны командовал 2-й гвардейской танковой армией.
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович
(род. 1906)
Герой Советского Союза. Начальник танковых войск страны.