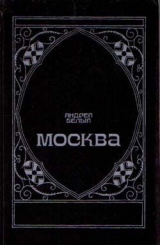
Текст книги "Маски"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Разговором подергались
Чтобы нарушить молчание, тягостное, Никанор стакан с чаем – холодным, прокисшим, лимонным, – вдруг выбросил вверх:
– За здоровье хозяюшки, Элеоноры Леоновны!
Тут встрепенулся профессор:
– Да, ты, брат, – тащи меня к ней!
– Ну-с, – она-с!
Волосатый из кресла запрыгал кадык, а не Тителев: в кресло вцепясь крючковатыми пальцами, он точно умер.
И – бацнула входная дверь; и – казалось, что кто-то на месте бежит, притопатывая хлопотливо, но в дверь не вбегая:
Легка на помине!
И Тителев бросился в дверь крючковатыми пальцами; в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами.
А Серафима покрылась мурашками: вскрикнулось.
– Что? – Никанор.
Голосок, как звонок, задилинькал в передней:
– Ау?
Серафима забегала: свечку зажгла, став в пороге со свечкою; ротик – кричмя.
– Серафима Сергеевна?
– Я!
И в коричневых мраках просунулась личиком, из ореола свечного, сквозного и желтого чуть выясняясь зелененьким платьицем.
Элеонора Леоновна в юбочке с отсверком, в очень цветистенькой кофточке, нежно попахивая «убиганом», схватила малютку за руки с такой быстротою, как будто хватаемая была мышкой, а не человечиком.
– Ну?
– И вы – тут?
– И я – рада!
– Вам рада я!
А Серафиме на это «и вы» от спины к пояснице – опять муравейчики: мысли чужие какие-то; ручки в костяшках («Как лед», – промелькнуло) в холодненьких пальчиках, стиснула ручку.
Но гневно сверкнули глаза:
– Вы меня проведите к себе: я – боюсь!
И походкой своей, лунатической, кошьей, она, – узкотазая, маленькая, – наклоненной головкой, ушком наставляясь на лай голосов, себе в носик глаза закосивши и в нос Серафиме стрельнув завитыми дымками, —
– везде с перекурами, —
– за Серафимой прошла.
Электричество щелкнуло:
– Вот.
И стояла, загладивши пальчиками волосинки цветистого платья, следя, как дымки по ним бегали:
– Нравится?
У Серафимы неискренно вырвалось:
– Что за прекрасная комната!
Бирюзовая празелень фона: диванчика, креселец; крапины розово-серые в кремово-желтом и в бледно-лимонном Хотя и жеманно!
– Должна принести благодарность.
– Ну, ну, – с суховатым прищуром; и сухенько затараторила: вовсе «партийная» дамочка, сладко попахивающая.
И Серафима поморщилась: в серо-кисельную скатерть:
– Обои сиреневые…
– Прелесть что!
– И – не прелесть!
– Сама выбирала…
– Вкус ваш!
А – что дальше? Ничто?
Нет, – «Глафира Лафитова».
– Ну, – что она?
Выручала «Глафира Лафитова» раз уж пятнадцать: когда сказать нечего, то – появлялась она.
На «Глафиру» в шестнадцатый раз Серафима – ни звука.
– Ну вот: и – прекрасно!
И с тем же икливеньким, сдержанным выкриком Элеонора дала ей понять, что словами надергалась досыта с ней; Серафима, лицо отвердивши, все сносливо вынесла; гневный вздох подавив, перерезала нить разговора склонением личика в руку, поставленную острым локтем на скатерть кисельного цвета; опять эта скатерть?
Леоночка, за руку взяв Серафиму, ее для чего-то вела в коридорик; расхлопнула дверь:
– Вот – тут вот: вот – уборная…
Думалось: лучше, поднявши юбчонку, скрести себе ногу за ловлею блох, чем чесаться психически.
– Вот – выключатель: вода – не спускается.
И – как невинно взглянула:
– И – поговорили.
Взглянула, как издали, блеском своих изумрудов, – не глаз: и стояла с открывшимся ротиком, будто уйдя в тридесятое царство свое за лазурными цветиками, бросив тени густые свои в Серафиму, которая думала: как ей не стыдно, невинностью лгать и русальные глазки простраивать!
Сделалось совестно: и – помогала головкой угрюмо.
Когда б понимала, то, —
– вероятно бы, —
– с ожесточенным, с пылающим личиком ринулась бы на нее: обхватить, обогреть, уложить, как больного ребенка, в постельку; и – песенки ей колыбельные петь!
– Ну?
И обе, затиснувши ротики, бровки зажавши, протопали в лай голосов.
Плоскогрудая девочка с книксеном
Тут же профессор увидел: —
– робея, дурнея и переминаясь в пороге, из двери просунулась робкая девочка в платьице с розовым отсверком, с рыжими пятнами, с черненьким крапом; и – с книксеном.
Книксен не сделав, стояла с открывшимся ротиком, платье свое теребя.
Зарябило в глазах: точно рой черных мушек в глаза ему кинулся, с платья снимаясь.
Во что-то нацелясь, он сдернул очки, потянувшися носом разведывать воздух.
– Жена моя, – скалясь, как тигр, руки выбросил Тителев, – Элеонора!
И в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами. Шаркнул профессор, теряяся:
– Рад!
А Леоночка, лобиком бросив свою завитую головку, бодаясь головкой, отпрянула в тень, потому что профессор спиною вдавился между Серафимой и братом.
Как будто в бега друг от друга пустились: спинами!
Тотчас, взяв в руки себя, —
– Рада!
– Рад! —
– Руки сжавши друг другу, присев друг пред другом на кончиках кресел друг друга разглядывали.
И профессор с лукавою шуткой провеял на Тителева белым усом.
– Я вот-с… Говорю себе: ясное дело, – супруга твоя еще маленькая… Кашку кушает!…
А Леонорочка, ставши живулькою розовой, взором на нем откровенно занежилась; будто весеннее солнце блеснуло в глаза, а не этот косматый старик, на нее поглядевший с лукавою лаской; как дерево зыбкое, вдаль уплывая вершиной за ветром, корнями привязано к твердой земле, – так она свой порыв передерживала: в ноги пасть; и на мужа косилась украдкой, разглядывая удлиненный затылок, – и узкий, и волчий: волчиная стать, волчьи уши, прижатые к черепу: —
– знала она, что – овца: в волчьей шкуре; и стало ей жалко его.
А профессор – медведица!
Стала живулькою розовой, чуть не спросив.
– А что Митенька?
Передержала себя: это быль; но быль – пыль!
И припомнилось ей, —
– как —
– схватяся за львиные лапочки кресла, вскочив, чтоб бежать, будто – орангутанг, не «отец», рассыпался профессор в любезностях!
Бегством все трое пустились в переднюю, где он кота с перепыху надел на себя вместо шапки, «отец» – с перекошенной, злою гримасою; он – с перетерянным плачем: сквозь смех.
Так последняя и роковая их встреча, – единственная, – отпечаталась в памяти!
У Серафимы же вырвалось:
– А!
Встрясом плечи.
– Вы что? – Никанор.
– Нет, что с нею? – склонясь к Никанору. – Откуда болезненная экзальтация эта?
– Так чч-то, – Леонора Леоновна к брату, Ивану, всегда относилась с горячей сердечностью, – строго одернул ее Никанор.
Но прищурясь, он борзеньким носиком быстро поерзал меж ними: как будто в обоих – свое, недосказанное, переглядное слово.
Встав в тень, Серафима опять поманила кивочком:
– Зачем она так беспокоит его?
– То есть – как?
– Ну, – не знаю.
А взгляд Леоноры как бы говорил:
«Много, много воды утекло».
И тонула в глазах своих собственных, густо синя папироской и выставив ручку, точеную, точно слоновая кость.
Серафима подумала:
«Что за претензии?»
Эти претензии воспринимала она, как порыв – неестественный.
Брат, Никанор, не ответивши ей, перестегивая пиджачок, подсел к брату, Ивану:
– Как, что?
– Как тебе – эдак, так – Леонора Леоновна?
– Мы… да какая-то, да-с, дергоумная барышня, – скрылся от брата усами.
– Она уже – эдак.
– Как?
– Дама!…
– Забавная барышня-с…
Твердо упорил, задумавшись явно; и, явно, – над ней.
Вдруг стараясь занять разговором ее, – но таким, каким дряхлые старцы стараются, став еще более дряхлыми, выставить в шутку шестнадцатилетних девчонок пяти-шестилетними пупсами – рявкнул он:
– Котиков любите-с?
Вновь, точно дерево, в ветер рванувшееся, Леонорочка, пальцы ломая, – к нему; и опять, точно дерево, корнями привязанное, оглянулась на мужа: сидел, уцепившися пальцами в кресло, не слыша, не видя стальными глазами; жесть – губы зажатые; в лоб же морщина влепилась, вцепяся, как хвост скорпиона.
– Нет, не по пути с ними нам! – Серафима настаивала в Никанорово ухо.
Поморщился:
– Элеонора Леоновна, Терентий Титыч – друзья!
Но подумалось: недруг и тот до поры – тот же друг и морщинки от лобика рожками в угол наставились.
Тителев встал, ей блеснул:
– Добрый вечер, – критический критик… Да я забегу еще.
Не отзываясь на шутку, без всякого повода вышла из тени она; свою выгнула голову; руки – на грудь, отступя припадая на ногу, – насупилась хмуро.
Он – вышел.
И мир, как разбойник
Профессор вышарчивал взад и вперед; точно он, не, имея пристанища, странствуя, видел градацию дальних ландшафтов; вдруг – замер он; руки свои уронил; носом – в пол, в потолок, чтобы выслушать отзвук в себе —
– синей мысли, —
– о первой их встрече.
Да – первая ли?
Вот что выслушал: —
– перед золотеньким столиком чашечку чая, фарфор, розан бледный, поставил лакей перед ним, ему виден кусок кабинета, открытый в гостиную, – кубово-черного, очень гнетущего тона, такого же, – как фон обой этой комнаты! Красные кресла жгли глаз своим пламенем адским оттуда; и были такого же колера, – как эти красные пятна
А девочка эта сидела, – так точно– с таким же раскрывшимся ротиком.
Выслушав это, он руки с улыбкой седою развел пред Леоночкой; торжествовал над молчаньем своей бородою, – безротой и доброй
____________________
Вдруг усом вильнул; и – слова, плоды дум, точно сладкие яблоки, стал бородой отрясать.
– Все идет, говоря рационально, – по предначертанью. Улегся усами; прошелся он:
– Царствует – царь… Безначальные – мы. Руки сжал: носом – в пол:
– Что же, – будем готовы.
И глаз в блеск порочных, агатовых глаз, расширяющихся в изумруды невинные, —
– глаз —
– просинел.
Из агатовых глаз – в голубые глаза Серафимы он ринулся; и Серафима сказала – глазами в глаза:
– Я – готова: на все.
Но он, вынув свой глаз из нее; повенчав ее взоры с Леночкиными, он читал ее мысли; но сделал рукою ее от себя отстраняющий знак:
– Вы – останетесь здесь: не пойдете.
И руку, как с пальмовой ветвью, приподнял – к Леоночке:
– Мы с ней – пройдем!
И казалось, что в ней соблеснулися звезды; и звездный поток, – тот, который'глубокою осенью сыплется из синеродов над скупой землей —
– Леониды, —
– посыпался!
Он же в ответ ей на блеск:
– Были львицею: станете – девочкой.
И Никанору, бросавшемуся, руки выбросил:
– Я – к вам: вернусь; будет – радость!
– Да что вы, профессор?
– Куда собираешься ты?
Он ответил загадкой:
– Туда, где вас нет…
И прошелся; и – видели: борется с чем-то.
– Мы – косные: бодрствовать – трудно… И мир – как разбойник.
Из глаз он выбросил солнечный диск:
– И разбойника братом хотел бы назвать я.
Тут став повелительным, он указал на порог – Леоноре Леоновне:
– Ну-с, вы – готовы?
И дернулась; вертиголовкою, расчетверясь меж собою,
профессором, парочкой дико ее пожиравших глазами людей, – Серафимою и Никанором, – глаза, не мигающие опуская в носочки, как будто ее наказали – вперед наклоненной головкой,
– как тихий лунатик, —
– прошла!
И за нею он вышел.
И больше его Никанор в старом мире не видел, когда они встретились, —
– все —
– было —
– новое!
Крылышки бабочки
Вслед Серафима – бежком: в наворачиванье обстоятельств; подняв свою ручку и ей, как щитом, защищался, напоминала головкою отрока быстрого.
Бросила:
– Там – в мою комнату… Там – в моей комнате… можете… вы…
И – задохлась она: из глаз – жар; во рту – скорбь.
– Ну, – пошел разворох разворота!
В диван головою, а плечи ходили; зубами кусала платочек; не плачем, а ревом своим подавясь, занемела; и – ком истерический в горле.
– Чего это вы? – Никанор. – Брат, Иван, объясняется с Элеонорой Леоновнои; он, вероятно, мотивы имеет свои.
Но мотивы такие – болезнь.
– Рецидив.
Посмотрела; и – что-то коровье во взгляде ее.
____________________
Леонора Леоновна, крадучись, переюркнула под стены; на край бирюзового пуфика села; уставилась глазками в розово-серые крапины, глазок не смея поднять.
Он же, крадучись тоже и вставши на цыпочки, пальцы зажатые приподымал умоляюще; и приворковывал, как старый голубь:
– Да вы…
– Не волнуйтесь!
– Прошу вас…
Как чайная роза, раскрылось лицо:
– Да вы… выслушайте!…
Леонорочка с пуфика переползла на диванчик: поближе к нему; и согнув под себя свои ножки, накрыла юбчонкою их.
Он боялся рукою коснуться плеча: точно он не хотел обмять крылышек бабочке:
– Я, говоря рационально, узнал вас.
Глаза ее, как драгоценные камни лампады, сияли; закрылась руками; а он, нагибаясь, пытался увидеть сквозь пальцы в них спрятанный глаз:
– Вы – Лизаша Мандро.
И увидел не глаз, а слезинку, которая в пальцы скатилась:
– Ну, ну-с: ничего себе…
– То ли бывает?
– Проходим-то все мы – под облаком.
Пав на живот, как змея, на него поползла, пересучиваясь и толкаясь худыми, как палочки, ножками.
Он сел на корточки, выставив нос и ладони пред ней, как бы их подставляя под струйку, чтоб бросила личико в эти ладони, которые жгли, как огонь: переполнить слезами.
Он плечики пляшущие, точно пух белоснежный, наглаживал:
– Плачьте себе…
Воркотал, точно дедушка, внучке прощающий:
– Мы полагали не так, как нас, – выбросил руку свою, – положили: меня, вас… и…
– Вашего…
– Батюшку.
Он запинался.
Тут в воздухе взвивши и ручки, и ножки, а спинку чудовищнейше изогнув, опираясь качающимся животом о пружины диванчика, выявила акробатикою истерическое колесо.
И разбросалась с плачами.
Он же над нею зачитывал лекцию:
– Жизнь – давит нас; оттого мы и давим друг друга; жизнь – давка: в пожарах.
И встал, и прошелся, и сел:
– Дело ясное: эти побои его адресованы были не мне-с; и – не он наносил.
Носом цветик невидимый нюхал.
– События эдакие с точки зрения высших возможное тей – тени-с прохожего облака.
И топоточки под дверью расслышал: малюточка бегала: топами ножек выстукивала: пора спать!
– Не шумите-с: нас могут услышать, – понесся он к двери; и – высунул нос.
И – отдернулся: —
– сосредоточенно руки скрестив на груди, не трясясь, точно палочка платье повисло), в тенях еле выметилась Серафима, вперя огромные бельма.
Огромное, черное «же», – три морщины, – чертились: от лобика.
Чуть не упала; но – выстояла.
____________________
Леонора в слезах протянула ручонки; и не понимала, что с ней; смеялась и плакала:
– Можно?
И знала, что надо принять то, что вспыхнуло.
Он – неожиданно руки раскинувши: с рявком:
– Все можно-с!
Решение – акт; в ней – согласие:
– Можно вам все сказать: все-все-все?…
И на простертые руки упала головкой.
– О нем.
И он гладил головку, к груди прижимая.
Весенняя струйка лепечет у ног: —
– все-все-все: понесу расскажу!
Ставши струйкой, – она вылепетывала то, о чем рассказать не сумеет писатель.
____________________
За дверью едва Серафима расслышала:
– Пелль-Мелль-отель – говорите?
– Тридцатый номер?
И не удержалась: просунула голову.
– Есть!
И профессор отпрянул под лампочку, быстро записывая.
Но увидев малютку, он книжечкою записною – в нее, а свободной рукою с дивана Леоночку сдернувши, на Серафиму швырнул; повелительно рявкнул;
– Мой друг!
И – светящийся диск, а – не глаз!
– Прошу жаловать!
Руку, одну, Серафиме за спину, другую за спину Лизаше:
– Лизаша Мандро!
Друг о друга носами их тыкнул; и – выскочил в дверь.
____________________
Посмотрели друг другу в глаза: золотые, сияющие, – в изумрудные канули; ахнув, всплеснули руками:
«Лизаша, которая, и о которой!»
Смеяся и плача, упали в объятия.
А шуба медвежья прошла мимо двери: прошаркали ботики.
Глупая рыба – Вселенная
О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой, – несвободное, обремененное небо!
О, – то же звездение: праздное!
Тителев мерз на дворе, больше часу разглядывая, как ничто закачалось дрожащими и драгоценными стаями.
Звезды, —
– зернистые искры, метаемые, как икра,
как-то зря, —
– этой рыбой —
– вселенной!
Глаза прозвездило до… мозга.
И он полетел через двор, наклоняясь с напором, со стропотством: быстро, ступисто шагнул на подъезд; бахнул дверью передней тетеричкой: в дверь кабинетика.
А из гостиной к нему – шаг Мардария, вышедшего через люк из подполья.
И он застопорил крепким затылком, ушедшим в плечо; пережвакнул губами, зубами кусая плясавшую трубку; отсчитывая и пересчитывая синие каймы ковра; и вся быстрость. которую он развивал на бегу, улизнули в него; скосив глазик, посапывая и надувшися из-за усов, гладил бороду, громко упоря носком, ударяющим в пол.
А Мардарий, ему на плечо положив жиловатую лапищу, из-за плеча протянулся: усами оранжевыми:
– Ну?
– Что «ну»?
И Мардарий – глазами в глаза:
– Дело это.
Бесцветны стальные глаза: призакрылись; и – брысил ресницами; но наливалась височная синяя жила; и смыком морщин, точно рачьей клешнею, щипался.
И понял Мардарий: проваливалось дело это.
А «Титыч», —
– партийная кличка, —
– разглядывая корешки переплетов, смекал, точно мерки снимая: ушами, плечами и пальцами что-то учитывал он: —
– не казалось, что он выбивался из сил, когда он выбивался: мог спать, продолжая работу во сне; и скорее откусишь усы и тебе оторвет нос от перца, чем корень поймешь, тот, в который вперился он, перетирая сухие ладони, как будто готовясь себе операцию сделать.
– Мардаша, Мардаша, – и желтая, шерсткая вся борода разъерошилась:
– Стоп.
Свои пальцы зажал, будто он позвоночник, свой собственный, сламывал.
– Эк, дурака стоит дело: я – прост, как ворона!
Вдруг книжицу выщепнул; перевернувшися, крепким движеньем метнул через стол, точно диск, прямо в руки Мардарию:
– Дельная!…
– Вы – не читали?
– Прочтите…
А сам – вне себя; голова, – как раскопанная муравьиная куча: в ней выбеги мыслей единовременных – усатых, коленчатых и многолапых, туда и сюда!
– Куй железо!
Превратности смыслов, их бег друг сквозь друга, друг в друге, как в круге кругов, из которых куют сталь решений; но – замкнутый череп!
Круг – замкнут!
– Остыло железо!
И бросивши бороду, два острых локтя откидом спины в потолочный, седой, паутиной обметанный угол, – локтями на стол, головою – на руки: с громчайшим —
«Мардаша, нет выхода!» —
– пал!
Знал Мардарий, какие тяжелые трудности преодолел он, чтоб дело с профессором честно простроилось, как эти трудности скромно таил; и —
– в то время, —
– когда он – под бурей и натиском стоя с увертливой сметкой боролся, подкапываясь под партийных врагов: и обуздывал головотяпов товарищей.
Сколько любви!
Для Мардария «Титыч» был тем, чем для «Титыча» был Химияклич: ось, стержень, садящий своей бронированной ясностью: мозг человеческий.
Ахнул Мардарий: коли головою – на руки, так – мат ему!
____________________
Тителев приподымался на локте, весь – слух:
– Голоса!
Перекрикнулись ближе; фонарики.
С пальцем, подброшенным кверху, смелейше взмигнул; и – понесся в подъезд; в блеск бирюзеньких искорок, пересыпаемых в черном ничто драгоценно дрожащими стаями, – в крик, —
– Серафимы,
– Леоночки —
– бросился!
И – там визжало;
– Ушел!
– Нет!
– Пропал!
Все – исчезнут под вогнутой бездной – бесследно!
Там – в синенький переигрался зеленький блеск;
там —
из тихой звездиночки —
– розовые переигры!
– Бесследно исчез!
Кто?
Профессор Коробкин.
Глава девятая. «СТРОК ПЕЧАЛЬНЫХ НЕ СМЫВАЮ»
На них растет шерсть
Нагие тела, а на них растет шерсть: удивительней всяких кукушечьих гнезд росли слухи: бараны волков поедят; как пузырь дождевой, под разинутым ухом морочило:
– Жди не рябин, а дубин!
Рыло к рылу: ушами водило:
– А ты запирай ворота, мещанин; и – дровами закладывай!
И обдавало, как варом, когда облеплялись, как мухами, слухами; точно под горку колеса: – де долы встают; и де горы попадают; де у Орла изловили бобра; де живем на дому, а умрем на Дону, потому что река подошла подо все города.
– Эк?
– Сказали в Казани!
Де – даже царю в рыло – ворот вворотят; а бар-де
в мешок: и де Питер на щепки разрублен; солдат-де такой: нагишом палашом размахался; палит-де на Пензу; на всю, инвалид; а – без пороху; и от него стрекулист, приказанная строка, – стрекача!
От угла Абасасовой, что у базара, сказали, что скоро гусиные лапочки и языки соловьиные выданы будут в кормы.
Подтвердили у Фунзика, в лавочке:
– Бесповоротно!
Сказал, что Кавлов; Плеснюк повторил Милдоганиной; та – Колзецову; а тот – Будогандиной; ну, – Плеснюка и забрали, молвы той доискиваясь; у нее, у молвы, – ноги ланьи; она – не Маланья, которую можно потискать: за титьки.
Она – улетучилась.
И доискались, в участке, что это все – дядя, который поехал из Новгорода, а куда – неизвестно; вот этого дяди – известно какой: пристегни-ка, пришей на губу ему пуговицу!
Так, не слыша, – услышали; не видя, – видели: лапки гусиные и языки соловьиные, с перцем; в жестяночках пере-сылают-де немцы.
И пристав, несолоно евши, ушел; ему в спину из Твери над всею Москвой Харитон языком заболтал, – точно колокол – на колокольне Ивана Великого.
Не Харитона, а Прянцева, Прошу, хватали; открылись следы Верливерковской частной гимназии; Синемидиец – учитель словесности, выпив овечьего квасу, – напутал; обыскивали, отпустили, ушли.
Вырастали слова на словах, пучась в тучу: Анисим Онисьев, завода машиностроительного (бок забора под Ко-зиев, около Психопержицкой) под тучей сидел; так, – махорочный дым. Но завод был объявлен гнездилищем дяди, который поехал из Новгорода, а куда – неизвестно: известно куда: на завод; забастовку устраивал. Дядю искали, – не смыслов; они – в решете: много дыр, – вылезть негде; и ложкою не расхлебаешь их, аки солянку; вполне тарабарская грамота; буркулы, точно коровы на грамоту, пялили; и точно гуси на зарево, вытянув шеи, стояли; и пристава слушали:
– Вы обретайте, мещане, в борьбе свое право, чтоб вас, как удой, не подсекло: ворота поленьем закладывай, братцы!
И – то: разгромили Хатлипина мясо, Липанзина булочную, что с угла Селеленьева; крепкое слово торговец Шинтошин сказал, собирая мещан; Депрезоров, Илкавин, Орло-викова, Клититакина, Иван Кекадзе – составили патриотическое заявление, что мы, мол, в союз – «Михаила-архангела» – вступим!
Подвел Сидервишкин.
И – ужас что: самую что ни на есть «Марсельезу» пропели, по третьему классу пройдясь, – третьеклассники:
– Яков Каклев, Вака Баклев, Шура Уршев, Юра Бур-шев, Митя Витев, Витя Митев.
Фридрих Карл фон-Форнефорт, – пятиклассник, – их вел, знамя красное вывесив; —
– я —
– Липа Липина, Оля Окина, Нюра Нулина, Люба Булина, Гаша Башина, Саша Вашина, Глаша Гликина, Кина Икина —
– девочки – – выразили им сочувствие, даже готовность. И – сам Вардабайда-Топандин, артист, подписал на двери, под визитною карточкою: —
– «Объявляю себя анархистом!»
Чего же ждать!






