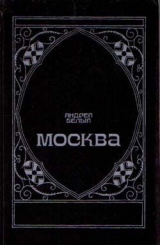
Текст книги "Маски"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Пролетел в коридор
Пролетел в коридор, притоптывая, но бесшумно; предметы держали, а пятка не шлепала; и он – застопорил, вытянув шею; он видел: —
– из зеркала —
– голубоватое поле стены, туалетик, гребеночки белые, щеточки белые.
На туалетике локтем какая-то – мал мала меньше, с невзрачненьким личиком, тяжеловатым, в хорошенькой шубке с коричневым мехом; обвисла ушастою шапочкой; муфта огромная, мехом свисая, лежит на коленях; в нее опустила с улыбкою ротик неправильный в тяжеловатом усилии высмыслить; сосредоточенно слушает, лобиком вцелясь в икливенький голос Леоночки; и сожалеет вперением в муфту. И вдруг она тихо загубила: и растворились черты в нежном цвете лица: как миндаль розоватый!
– Какая такая?
Рассыпались звездочками из прищуров глаза.
И – вся быстрость, которую он развивал, улизнули в него, притаились в плечах и в руках, подлетевших к подтяжкам, блистающим яркими пряжками:
– Экий миленок!
И – вытянув шею; и – видел Леоночку, ножки поджала она под себя на подушке зеленой, которая – в синих изляпинах карего коврика; ручкой берет цвета тертых каштанов она подпирала, следя за развислым дымком папиросы, который проклочился в воздухе; другою гладила желтый капотик, по тканям дымок папироски ведя.
Но – о чем? Но – про что?
И он выставил ухо: ему, как звоночек, икливенько задребезжал голосок:
– Я овцою паршивой стою перед вами!
Опять психопатия?
И незнакомка страдательно переложила с колена на стол руку с муфтой; глаза опустила, качая головкою; складки на лобике сделали «же»; и лицо, став квадратным, казалося старше.
Но чудно пропела грудным своим голосом:
– Вы, Леонора Леоновна, ходите, как в перепряжке; не к вам эта упряжка; зачем на себя вы клевещете.
Тут Владиславик, приползший опять, зацепился за юбку Леоночки и перебил своим «ааа» разговор; но Леоночка грубо его оттолкнула: «Да бросьте его: тоже – вот!» – Серафиме, как бы извиняясь за жест; вышел – грубый, не да-мочкин: бабьин!
– Несносный мальчишка. С ним – не оберешься хлопот: он – расстроил живот.
Незнакомка вторично, как арфою, – ей:
– Иноземцевы капли полезны ему.
– В социализме родителей нет!
И скривилися губы Терентия Титовича, потому что родителей нет: есть друзья; а – какая тут дружба: игрушку купила бы; «есть» в социализме друзья, а не эдакие гренаде-рики с личиком, напоминающим – скопчика!
А незнакомка внимала вперением в муфту лица с таким видом, что совестно ей, что она виновата; и вдруг – вверх соловку ушастую; виделись только белки закатившихся глаз от разгляда в себе Леонориных слов.
Леонорочка, ей с огонечком, звоночком:
– У нас, в социализме…
– Эк, – дернулся Тителев.
И – перекрикнула:
– Вы, Серафима Сергевна.
Так вот «она» кто? Их жилица? Такая «дитёныш»? Тверденька: морщиночки, как коготочки, на лбу.
А Леоночка ей:
– К счастью, я не знавала пустых этих нежностей: мать умерла у меня; гувернантка моя докучала достаточно все ж половым извращением под формой нежности к детям… Совалась во все… И носила два цвета: фисташковый, серый; ходила с опухшей щекою; и все вспоминала Штурцваге какого-то.
Тителев – глазом —
– топазом, —
– как ярким кинжалом, сквозь шерсткую, бразилианскую бороду сердце свое просадил: и – кинжал перевертывал в сердце.
– Петровка проклятая!
Топанье пятки отчетливо пол сотрясало.
____________________
Леонора Леоновна и Серафима Сергеевна вздрогнули; и – Серафима Сергеевна стала испуганной ланью: глаза – вкруговерт.
А Леоночкин глаз стал зеленый.
И – видели —
– голубоватый отлив куртки-спенсера из теневого ничто – появился; и – брюками дымного цвета шагнул; ярко-красный жилет прокричал, —
– и —
– все это утопало: в тень!
____________________
Пролетел мимо них в кабинет, хлопнув дверью.
И слышался шаг: как кузнец, ударяющий молотом в кузне, вышлепывал в синие каймы ковра, их отсчитывая равномерно и быстро.
Вдруг, вставши, глядел, как слепой, в дико-сизые стены своим кадыком волосатым и желтым.
И – в дикое кресло упал.
С собой справился он
С собой справился; и – притопатывая, но не шлепая пяткою, в спальню влетел, став в пороге; и руки подпрыгнули к кубовым ярким подтяжкам; и – смык смышлеватых бровей.
И —
– Терентий —
– с прищурами —
– Тителев!
– Ах!
Точно сжиг на щеке!
С невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой, – к нему.
– Мне приятно…
И личико стало котеночком.
Добрым, задзекавшим смехом, ее упреждая и даже как будто конфузясь ее, подлетел, щелкнул туфлей, ломаясь под муфту, и руке: отблистать тюбетейкой.
– Смелехонек, – думала…
– Точно для виду сробел.
Глазки стали, как искорки:
– Мы уж знакомы…
– Надеюсь…
И – екнуло:
– Вот он какой?
И с задором, как будто к нему приступая, она потопталась на месте, смешная и маленькая, как синичка.
Леоночка ей указала на кресло: с ужимкой, желающей выразить:
– О, преклоните почтенные ваши седины; вам этот ребяческий вид – не к лицу…
И – под дым: на подушку.
А Тителев в кресло склонился, рукой захвативши колено, серебряной пряжкой и с ним носком проярчев; и от столика свесилась мягко ладонь:
– Вы ведь переезжаете к нам?
И невидную глазу улыбку разгляда, которой она отмечала разгляд ее жестов, скорее узнал, чем увидел; портной кроит глазом натасканным:
– Белочка, – вспыхнуло в нем.
И – лукавое, польское что-то явилось в баске, – с перевизгом, как с хвостиком:
– Видно, на воздухе много бываете вы?
– Чистый воздух полезен! – она объяснила.
И розовым носиком, очень задорным, потупилась, думая: от доброты этой, деланной, веяло бойким напором и стопотством; и чтобы – что-нибудь, как-нибудь:
– Время у вас отняла?
– Квас не дорог: изюминка!
– Бросьте, – она перебила.
И – в смехе зазубила; и – отвернулась; и – в муфточку; а цвет лица, – как миндаль розоватый.
– Здоровье профессора?
У Леоноры – зачем опасок, а в зубах – дроботок?
– Благодарствуйте…
– Ну, а Глафира?
И стало смешно, что они друг за другом подглядывают. В черно-серое кресло светлейше вдаваясь, вдруг он сиверко мелким раздробчивым смехом рассыпался.
– Вкрадчивый, – ёкнуло, – точно подушку подкладывает; а склонись на нее, – оглоушит.
Леоночка задребезжала с подушки.
– Не нравится ей? – коготочком царапнулся лоб Серафимы; и взявши книжонку, глазами испуганно к Элеонорочке:
– Ибсен?[96]96
Ибсен Генрик (1826 – 1906) – великий норвежский драматург, творчество которого постоянно было в поле зрения А. Белого.
[Закрыть]
С Терентием Титовичем – что такое?
Как солнечный зайчик, он выскочил в голубоватое поле стены; головою – под зеркало, в зеркало бросив глаза жестяные; и тер жестковато сухие ладошки: —
– опять некрофагия: Ибсен, грызение прошлого!…
– Что это?
– Сольнес…
Он – знает: «кто» Сольнес: «Петровка»!
Леоночка видела: —
– точно рапирой стальною он ткнулся глазами из зеркала; тотчас: мигнула из зеркала ей тюбетейка зеленая – золотцем: перевернулся: – – невинно и дружески…
– Ну, – я пошла?
Серафима пошла с невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой, мехастою муфточкой носик укрывши, – к Леоночке, видясь не личиком, а меховою ушастою шапкой.
– Я вас провожу, – к ней Леоночка.
Тителев вслед бросил взгляд.
Обернулась; и —
– «ах», —
– точно сжиг на щеке!
В двери скрылась.
За нею Леоночка, явно двояся глазами меж ним и носочками, с вниз наклоненной головкой прошла.
____________________
Обе остолбенели в передней: подвязанный фартуком бабушки Агнии, напоминающим белый капотик, прилежно себе улыбаясь в усы, Никанор грациозно водил половою, огромною щеткой, склонив набок голову, напоминая седую, морщавую и бородатую… Гретхен.
– Вы что тут? – Леоночка.
Он же очковыми стеклами точно трубил Серафиме о том, что его положение здесь трудноватое.
– Собственно, я – ничего: не мое это дело: так чч-то!
Фартук, сброшенный в нос.
– Расправляйтесь-ка!
Вылетел!
Тут Серафима задох подавила.
Мышонком —
– испуганно —
– в двери!
Бежком побежала
И – «ффр»: шелестнула юбчонка…
Ее захватя, – муфту вверх, пред собою, как щит, – в куралесицу быстро неслась; и развив золотой волосят в фонаре просиял; а мехастая муфта покрылась звездинками.
– Вот он какой?
Громкорогий позвал за забором.
Казалась всердцах.
Представлялся «Терентием Тителевым», домовитым хозяином; тонкая штука; и – трудная; и – с перемудрами!
Точно в сердцах, когда сердцем кого понимала!
И бурной походкой прошла: от восторга, что все, что ни есть, раскидает навстречу.
Зачем не писала давно Николаше?
– И все в ней кипело: сплошным состраданием; как ей писать; когда нечего думать о будущем.
И – рот суров; и, как рожки, морщинки; на лбу яркий блеск волосят пырснул бурей: —
– как лебеди, переливаясь в темноты, алмазно взвились из темнот завывающих: точно несется навстречу до ужаса узнанный; и —
– решено, суждено!
– Что?
Представилось: дома письмо Николаши – из Торчина, с фронта; она разрывает его; он ей пишет, что он возвращается; и предлагает ей —
– руку и сердце?
– А!
____________________
Жизнь будет трудная; жить с мужиками седыми, – втроем; без мамуси она не жила; не сумеет она!… —
– Вытаращивая свое черное око, прошел черноусый в шинели, при шпаге; и – дама; – белеет боа, как змеей; веет белыми перьями…
– Нет!
С Леонорою трудности – будут: она – человек раздражительный; то, что сказал на ушко Никанор, ей ломает ось жизни; трагедия – будет.
За сердце схватилась.
И – беглые взгляды; и – руки; она походила на отрока быстрого, когда бежком побежала в танцующий блеск и хрустела серебряным бархатцем; —
– фрр! —
– в кружевные винты ей блиставшие в непереносное счастье и – в космосы света, —
– подняв свою муфту, как щит на руке, защищался им от предчувствия.
Свертом, направо: к мамусе!
Серебряная Домна Львовна
Быстрехонько, не раздеваясь, в шубчонке, в шляпенке, – под цветик, под скворушку, – в пестрый диванчик: головкой.
– Мамуся!
– Что, ласанька?
И небольшого росточку серебряная Домна Львовна зашлепала к ней.
– Нет, мамуся, – скажите: как быть?
Села, ручки зажав меж коленок, дыханье тая и прислушиваясь, как старушка, молчала дыханьем: подтянутым ртом и очками.
Головкой ей в грудь: в платье каре-кофейное, с лапками белыми; и подбородком легла на головку малютки старушка, руками ее охватив; и прижала к пылавшему сердцу.
И ей Серафима отрывисто: с пылом:
– Была фельдшерицею…
– Стала сиделкой…
– А думала, – докторшей буду!
Старушка вдавилась в диванчик веселых цветов; и глядели в обои: веселого цвета.
– Дитя мое, – благословляю тебя: труден путь, да велик; обо мне и не думай; я – здесь: с Мелитишей моей; Николашу ты любишь…
И – носом дышала; и после молчания:
– Истина – в этом пути: он – прямой.
И проснувшийся скворчик: «чирик!»
– Ну, а платят – солиднее: дров прикупить, вам на платье, посуду какую…
– Правда и солнце! – сказала, в снега принахмурилась. И грязные космы всклочились.
Дама в ротонде прошла.
И лицо, —
– как раскал – добела – интеллекта, огромного волей.
Чувств – нет!
____________________
Ледоперые стекла, сквозь ясное облако. – пурпурные лампочки; пурпурно-снежные пятна ложатся на снеге.
Он – мудрый, а все же – больной.
Кто, какой!
Николаша? Профессор? Иль… – кто же?
Профессору – нет: не понравятся стены.
Скорее бы «это»? —
– И «это» —
– скрипучие ботики: шуба; усы хрусталями; огнец, – а не нос.
Снеговые вьюны рассыпалися; ясная пляска алмазных стрекоз и серебряных листьев ей пырснула в веко: кипела под веком.
– Так вот он какой?
Николаша?
Который из двух, или… трех, или…
– Путаюсь я!
Из глаз – жар; во рту – скорбь: от узрения всех обстоятельств; но в блеск электрический; блеск электрический: блеск золотых волосят.
А мехастая муфта, —
– направо —
– налево, —
– по воздуху!
Не думала: жизнь отдает без остатка: так все, совершенное ей, от нее отпадало, как сладкое яблоко с дерева; пользовалась не она, а – другие.
И – нет: —
– не любила она сердобольничать!
Нет же, —
– любила пылать!
И – согласием лобик разгладился:
– Буду сиделкою!
Тихо!
Старушка глаза опустила в пестрявенький коврик; блеснули очки очень строго; в дыханье – покой; а из глаз – золотистые слезы; и бабочка зимняя бархатцем карим порхала под лампою.
Нет!
Уверяла себя, что верна Николаше.
С мамусей прощаясь, мамусе она говорила какие-то трезвости, ластясь прищуром на все.
Домна Львовна вязала чулок:
– То-то будут жалеть на дворе; ты – любимочка ведь у собачек, мальчишек…
И —
– знала: —
– у «гулек»!.
____________________
– Мелькунья!
Старушка, качаясь, на кухню пошла, проводив Серафиму; а ложкой махала она Мелитише:
– Да, – мал малышеныш…
– Любуется, барыня, – солнышком, небом, котенком.
– Самую малость показывает, – Домна Львовна грозила ей ложкой своей, – от великого, что в ней творится!
– Уж, – иий… – Мелитиша отмахивалась. – Ее знаю: слова – пятачки; рассужденья – рубли…
– А сердечко – червонец, – ей ложкою в лоб Домна Львовна.
– Дарит свою милость; – прихныкивала Мелитиша, – а – как-с? Без огляду!
И бабочка каряя бархатцем —
– перемелькнула —
– под лампою.
____________________
Бурею ринулась в бурю.
В глазах – совершенство; во рту – милость миру; и белые веи на щечке огонь раздували; на муфту – звездинки.
Звездинка лизнула под носиком.
Снежные гущи посыпали пуще; и – нет – не видать; лишь блеснули и сгинули искры из искр – не глаза!
Да серебряной лютней морочила пырснь.
Саламандровый Барс
Выключатели щелкали; планиметрические коридоры бледнели; и блеск электрических лампочек злился.
Профессор —
– седатый, усатый, бровастый, брадастый —
– бродил коридорами.
Ждал Серафиму, вздираясь усами на блеск электрических лампочек.
Плечи прижались к ушам: одно выше другого; с лопаткою сросся большой головой; с поясницей – ногами; качался лопатками вместе с качанием лба; серебрел бородою; оглаживал бороду, с черных морщин отрясая блиставшие мысли.
А издали виделась комната: склянки, пробирки, анализы, записки; там – Плечепляткин; студент.
И оттуда дежурная фартучком белым мигнула; и – скрылась.
Туда оттопатывала.
Точно давно не имея пристанища, странствовал он, разлетаясь халатом, с которого оранжеватые, белые и терракото-карие пятна на кубовом и голубом разбросались.
Он думал о том, что открылось ему, как другому, и что, Как другому, себе самому пересказывал; глаз разгорался, как дальний костер из-за дыма.
А там —
– из палаты в палату, —
– став в пары, халаты прошли, предводимые Тер-Препопанцем, врачом, ординатором, дядькою, профиль Тиглавата-Палассера долу клонившим.
И – кто-то оттуда шептал; и – показывал:
– Он – стоголовою, брат, головою мозгует.
– Губою губернии пишет!
____________________
Он помнил, пропятяся носом, – что именно?
– Каппу, звезду? – нос, как муха, выюркивал.
– Математическую, – чорт, механику?
Нос уронил в земной пуп: вырастает из центра на точке поверхности!
– Сколько же было открытий?
– Одно?
– Или – два?
Он с отшибленной памятью, паветром схваченный, жил.
– Или ж, – нос закатил он в зенит, – наша память не оттиск сознания, а – результат, познавательный-с!
Нос говорил, как конец с бесконечностью, жары выпыхивая.
В бесконечности планиметрических стен саламандрою пестрой на фоне каемочки синей выблещивал.
Вдруг:
– Поздравляю вас!
Кто?
Пертопаткин.
– А что?
– Уезжаете?
– Это еще – в корне взять…
– Ах, оставьте, пожалуйста: следует, знаете ли, павианам иным показать, извините, пожалуйста, нечто под нос, и вы – мужественно показали; от всех – вам спасибо!
Кондратий Петрович вспотевшими пальцами руку горячую тискал; но кто-то взорал в отдалении:
– Не скальпируйте меня!
– Полюбуйтесь же, что происходит под игом тирана.
И – нет Пертопаткина: блеск электрических лампочек: шаг – громко щелкает.
____________________
Помнишь не то, что случалось, а то, что – случилось бы, носом, как цветик невидимый, нюхал.
Ресницы прищурил на блеск электрической лампочки; луч золотой, встав в ресницы его, распустил ясный хвост, как павлин; глаз открыл; и – павлин улетел из ресниц.
– Дело ясное, – он показал себе точечку в воздухе, – памятно то, чего не было
Целился носом на точечку.
– Воспоминание-с воспламененное в совесть сознания, – повесть!
И точечку взял двумя пальцами; точно пылинку, разглядывал.
– В корне взять: вспомнить – во всем измениться, чтоб косную память утратить!
| И точечку бросил, закинувши нос; точки – не было: перекрещение воображаемых линий она!
На скрещении двух коридоров стоял с разрезалкою, точно с зажженною свечкой, плеснувши полой, на которой малиновые, темно-карие, синие и терракотовые перетеры, серея износом, всплеснулись, когда перед воображаемой точкою, ставшей профессором, в точке, такой же, всплеснув желто-серым халатом, Хампауэр Иван, с костылей своих свесился:
– Очень жалею я вас, потому что меня, – и тут руку с гнилою картошкой, которую грыз, с костыля в потолок, – вы лишаетесь!
Желтую спину подставил; вскомчил седину, костыли гулко тукали за поворотом.
Профессор же носом, которым кончалось лицо, показал с сожаленьем, добрело лицо, утопающее в бороде, успокоен-но доброй, серебряной, мягко спадающей в кубовые, в желто-красные пятна; казался седой саламандрою; крупный, стенающий воздухом, нос защищался усами.
И вдруг, точно барсы, усы полетели прыжками, почуя добычу.
«Открытие», – вспыхнули щеки огнем, отчего борода побледневшая бросилась в бледную зелень.
«Открытие – сделано», – барсы-усы залетали.
Открытие —
– «сделано» —
– «мной!»
«Не одно-с, – убеждал он себя же скачками своей бороды, – два открытия сделаны мной: Серафима открылась! И – «Каппа», звезда!»
И пошел, торопясь коридором, искать Серафиму – в отбытую дверь своей комнаты; из глубины коридора затыкались в пеструю спину – два пальца; слова раздавались о том, что губою губернии пишет и что – стоголовой башкою мозгует.
Мелькнули халаты пяти ассистентов: за пузом Пэпэша.
Как морда разбитого сфинкса
Вошел.
И увидел – предметы стояли сплошной перебранкою: стол проливался потоками слез, а не скатертью; кресло закормило рожу; мурмолка сидела под столиком красною жабой. Профессор боялся восстанья предметов и стен, из которых застенныи сумбур нападал; Серафима ему укрощала предметы; казалось, вокруг нее воздух зыбеет улыбками; а без нее стол слезился; и кресло гримасничало.
Серафима – открытие, вышедшее из удара оглоблей, над ним разразившегося, потому что события жизни, которые бьют, как оглоблею, – благодения.
И – залетал разрезалкою: жало вонзил в свое прошлое, – в то, от которого он выздоравливает.
Залетал его нос за концом разрезалки:
– Да-с, жало вонзил!
Руку он уронил, распрямился; и – замер:
Припомнить, – опомниться, вырваться: с корнем исторгнуть!
И – руку вознес: как бы с пальмовой ветвью торжественный ход вытопатывал:
– Память – восторги живого ума.
Его лоб нарастал, точно снежная шапка; в сплошных мускулистых морщинах ходили огромные, лобные кости, волнуя седины свои; имел вид, как в венке из ковыли.
Тут – свечку увидел; и – вспыхом жегнуло; морщины, скрестясь, как мечи, поднялись; и повисли – угрозою; он пепелил свое прошлое, точно зажженной свечою, бумагу; наткнулся на свечку; поправил заплату квадратную.
Сел, положив на груди свои руки; покрыл бородою; и – замер; как умер, – от дум: —
– если только —
– не ткнули зажженной свечою его во сне им увиденном?
Страшным отсверком выблеснули сквозь усы его зубы.
Видел во сне: —
– из дыр вылезал на него очень тощий, кровавый, седой мексиканец, весь в перьях, с козлиного, узко пропяченною бородой, над которой всосалися щеки; и пламенником, размахнувшись в жестокое время, – огонь всадил: в глаз!
И – взвизжал.
И – все сделалось красным затопом, расправившим землю.
– Слепцы – прозревают, а зрячие – слепнут, – взблеснулся он глазом.
Так «Каппа», – звезда, —
– опускалась кометой в глаза! Ослепительный глаз, ослепляющий глаз, но слепой, вобрав блески, ушел за пределы миров, как комета, взорвавшая орбиту солнца, свернувшая с оси систему вселенной И ставшая даже не точкой, а – местом ее в черной бездне. Чернела заплата, как глаз, ставший углем, который, в алмаз переплавленный —
– чиркнул: —
– по жизни!
И жизнь, как стекло, перерезалась: надвое!
Да, эфиопское что-то в лице; голова, точно морда разбитого сфинкса; щека – расколупина, нос – глядит дырами.
Встал, – заходил: в повороте выбрасывал руку – направо и вверх, как весло; и потом опускал, как весло, глубоко, как веслом, ей загребывая свое прошлое; и на Загребе, с подскоком, повертывался – на прошлое.
Жил прозябанием – в мороке серо-зеленых обой; вырывался в поля; старый, серо-зеленый туман, – как обои, – в полях настигал.
Не улыбка, а отсвет улыбки явился в лице, потому что припомнилось, как —
– в котелке, в черноватой крылатке, под желтою тучей бежит он из серо-зеленого поля; а кто-то, седой, догоняет: в зеленом, прокрапленном желчью, – его —
– как себя!
Страшным отсверком выблеснули сквозь усы его зубы; и – выблеснуло стародавнее, – то, чего не было в жизни!
Открытие – дома, в – бумагах, рассунутых в томики! Надо спешить в Табачихинский! Надо – скорей, поскорей, – в них изрыться!
И – к двери: в дверях —
– Серафиму!
____________________
Они как бы замерли, не замечая друг друга; и вдруг – бородою, как облаком, он к ней навстречу вскочил за рукою летевшей, расширяясь полою, как пестрым павлиньим хвостом.
И – ударил серебряным громом ей в уши:
– Я – сделал открытие!
– Вы?
– И – забыл!
Бородою – вразлет; тормошами – враздрай.
– Скажите мне, – где оно?
Ноги и руки разъехались; стал буквой «ха»; глаз – с лицо; а лицо расширялось в исполненную выражения, просиявшую плоть:
– У кого?
____________________
В двери пузом вдавился Пэпэш, передрагивая, точно лошадь, сгоняющая оводов, красной кожею:
– Тише, пожалуйста: здесь – не кофейня-с!
Тогда, отступая, две руки на груди в кулаки зажимая и выбросив голову, мрачной Эриннией, точно щипцами, затиснула вдруг Серафима в морщинах тяжелого лобика взгляды Пэпэша.
И – лобиком в бод!
Два шажочка, с притопом, как в танце, – на согнутых
твердо коленях; в позицию – встав, помотала головкою: —
– и —
– Николай Николаевич прочь ушлепал.






