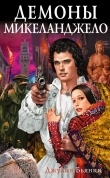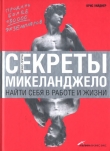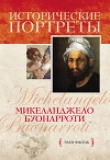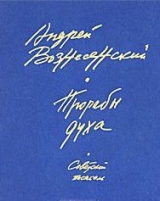
Текст книги "Прорабы духа "
Автор книги: Андрей Вознесенский
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары…
Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:
Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил…
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.
Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.
Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство празднества, скрябинский прелюдный фейерверк.
Лампы задули, сдвинули стулья…
Масок и ряженых движется улей…
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей…
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя…
Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже– 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.
Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные – в крестиках – бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.
И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары…
Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевелового куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».
* * *
Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили.
«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные… И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна – природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый «интересный человек». С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то лестную исключительность,между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность».
Позже он повторил это в своей речи на пленуме правления СП в Минске в 1936 году.
Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна – природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию – скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.
Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории – желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.
Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом – как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!
Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды…
Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все биография его чудотворства.
А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. Это мета мастера. «Где как обугленные груши на ветках тысячи грачей» – это «Начальная пора». А гениальная графика военных лет:
И летят грачей девятки,
Черные девятки треф.
И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных ракит, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического пейзажа. И свили свои переделкинские гнезда там.
Ставил ли он мне голос?
Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он – и все остальные.
Сам же он чтил Заболоцкого. Будучи членом правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравию». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.
Трудно было не попасть в его силовое поле.
Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.
Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».
Я просиял.
Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой – решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».
Для меня же «Гойя» звучало – «война».
* * *
В эвакуации мы жили за Уралом.
Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.
Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается – худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.
Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала – «со спасеньицем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.
Потом мы шли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».
Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя – Гойя.
Гойя – так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя – так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя – так выли волки за деревней, Гойя – так причитала соседка, получив похоронку, Гойя…
Эта музыка памяти записалась в стихи, первые моистихи.
* * *
Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне.
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей…
Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.
Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.
Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.
В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.
В его переписке тех лет с грузинской школьницей Чукой, дочкой Ладо Гудиашвили, просвечивает влюбленность, близость и доверие к ее миру. До сих пор в мастерской Гудиашвили под стеклом, как реликвия в музее, поблескивает золотая кофейная чашечка, которой касались губы поэта.
Он любил эти увешанные холстами залы с багратионовским паркетом, где высокий белоголовый художник, невесомый, как сноп света, бродил от картины к картине. Холсты освещались, когда он подходил.
Он скользил по ним, как улыбка.
Выполненный им в молнийной графике лик Пастернака на стене приобретал грузинские черты.
Грузинскую культуру я получил из его рук. Первым поэтом, с которым он познакомил меня, был Симон Иванович Чиковани. Это случилось еще на Лаврушинском. Меня поразил тайный огонь в этом тихом человеке со впалыми щеками над будничным двубортным пиджаком. Борис Леонидович восторженно гудел об его импрессионизме впрочем, импрессионизм для него обозначал свое, им самим обозначенное понятие – туда входили и Шопен и Верлен. Я глядел на двух влюбленных друг в друга артистов. Разговор между ними был порой непонятен мне – то была речь посвященных, служителей высокого ордена. Я присутствовал при таинстве, где грузинские имена и термины казались символами недоступного мне обряда.
Потом он попросил меня читать стихи. Ах, эти наивные рифмы детства…
На звон трамваев, одурев,
облокотились облака.
«Одурев» – было явно из пастернаковского арсенала, но ему понравилось не это, а то, что облака – облокотились. В детских строчках он различил за звуковым – зрительное. Симон Иванович сжимал тонкие бледные губы и, причмокивая языком, задержался на строке, в которой мелькнула девушка и где
…к облакам
мольбою вскинутый балкон.
Таково было мое первое публичное обсуждение. Тогда впервые кто-то третий присутствовал при его беседах со мною.
Верный дружбе с Паоло и Тицианом, он и меня приобщил к переводам. Для меня первым переводимым поэтом был Иосиф Нонешвили. И Грузия руками Нонешвили положила в день похорон цветы на гроб Пастернака.
Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.
Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.
* * *
Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» – все вещи этого цикла.
– Вы долго ждете? – я ехал из другого района – такси не было – вот «пикапчик» подвез – расскажу о себе – вы знаете я в Переделкине рано – весна ранняя бурная странная – деревья еще не имеют листьев а уже расцвели – соловьи начали – это кажется банально – но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать – и вот несколько набросков – правда это еще слишком сухо – как карандашом твердым – но потом надо переписать заново – и Гете – было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных – идет, идет кровь потом деревенеет – закупорка – кх-кх – и оборвется – таких мест восемь в «Фаусте» – и вдруг летом все открылось – единым потоком – как раньше когда «Сестра моя – жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» – ночью вставал – ощущение силы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать – пошли стихи – правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта – а другие говорят это как лекарство – ну вы не волнуйтесь – я вам почитаю – слушайте —
А вот телефонный разговор через неделю:
– Мне мысль пришла – может быть в переводе Пастернак лучше звучит – второстепенное уничтожается переводом – «Сестра моя – жизнь» первый крик – вдруг как будто сорвало крышу – заговорили камни – вещи приобрели символичность – тогда не все понимали сущность этих стихов – теперь вещи называются своими именами – так вот о переводах – раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика – переводы не удавались – они были плохие – в переводах не нужна сила форм – легкость нужна – чтобы донести смысл – содержание – почему слабым считался перевод Холодковского – потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи – мой перевод естественный – как прекрасно издан «Фауст» – обычно книги кричат – я клей! – я бумага! – я нитка! – а здесь все идеально – прекрасные иллюстрации Гончарова – вам ее подарю – надпись уже готова – как ваш проект? – пришло письмо от Завадского – хочет «Фауста» ставить —
– Теперь честно скажите – «Разлука» хуже других? – нет? – я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо – ну да в «Спекторском» то же самое – ведь революция та же была – вот тут Стасик – он приехал с женой – у него бессонница и что-то с желудком – а «Сказка» вам не напоминает Чуковского крокодила? —
– Хочу написать стихи о русских провинциальных городах – типа навязчивого мотива «города» и «баллад» – свет из окна на снег – встают и так далее – рифмы такие де ла рю – октябрю – получится очень хорошо – сейчас много пишу – вчерне все – потом буду отделывать – так как в самые времена подъема – поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —
Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.
* * *
Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.
Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:
И как сплавляют по реке плоты…
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Он исправил: «…неустанно столетья поплывут из темноты…»
Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, – он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.
Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты городского пейзажа.
Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой…
Сваха павой проплыла,
Поводя боками…
На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась – свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите – старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: «Пересекши глубь двора…»
Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг… только сон…» Теперь это кажется невероятным.
* * *
В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.
Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.
Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, – Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гете изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.
Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.
Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал…
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.
Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.
Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?..
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.
По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель – или как его там? – «Царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».
Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра…
Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.
И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.
Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» – не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он – Фауст, когда – фантаст»…
Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди
И вереницей беспрерывной
Теснились песни на груди,—
недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.
Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.
«Вот и все», – очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.
* * *
В Веймаре, на родине Гете, находящийся на возвышенности крупный объем гетевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу – большого к малому.
Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой колибри…
Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.
Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, – большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас – Ваш Б. Пастернак».
Ровно десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.
* * *
Последние годы он много болел.
Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать…»
Он написал мне из Боткинской: «Я – в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству… Так все это мне близко…»
Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения…»
Какой стыд охватил меня за свое здоровое сердце, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..
Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие угодья
к березам и дубам…
Я знал его в течение четырнадцати лет.
Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.
* * *
В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской – охрой, сепией, белилами, сангиной, – его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где
Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще – школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху
Мастерская отца…
Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова – ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя – жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает – жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.
Мне четырнадцать лет…
Где столетняя пыль на Диане
и холсты…
В классах яблоку негде упасть…
Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца»…
Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.
Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учился. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду в его мастерской и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..
«Как ваш проект?» – записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.
Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд.
И волны. И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.
Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодел, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось – «Правила хорошего тона».
Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листами лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый…
Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уж о Багрицком и Сельвинском.
Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.
В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, – все знают, казалось, – все могут
Кричавших кругом лебедей вожаки.
И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.
Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?
Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» – то есть «весь Ренуар», – к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.
Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака – «с самим собой, самим собой».
Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех:
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках…
Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:
Это – слезы в стручках и лопатках…
Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.
Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.
Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, Чистопрудных проходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить – «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».
В московские особняки
Врывается весна нахрапом…
Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все – подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.
В отличие от северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом, – московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.
Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой г о рнице
И на Василии Блаженном.
Мэтром его был Андрей Белый – москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло…
Весна! Не отлучайтесь