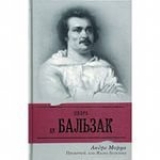
Текст книги "Прометей, или Жизнь Бальзака"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Бальзак – Лоре Сюрвиль:
"Теперь, когда я, как мне кажется, получил верное представление о своих силах, я глубоко сожалею, что так долго растрачивал блестки своего ума на такого рода нелепости; чувствую, что в голове у меня кое-что есть, и, если бы я был уверен в прочности своего положения, другими словами, если бы меня не связывали различные обязательства, если бы у меня был кусок хлеба и крыша над головою да какая-нибудь Армида в придачу, я бы принялся за настоящую книгу; но для этого надо удалиться от света, а я всякую минуту возвращаюсь туда".
Подобно многим молодым людям, Бальзака буквально раздирали самые противоположные влияния. Он вращался в компании циничных журналистов, которые смеялись надо всем, особенно над высокими чувствами, и продавали свое перо маленьким газетенкам – таким, как "Кормчий", "Корсар", жадным до слухов и эпиграмм и занимавшимся не то сатирой, не то шантажом; эти молодые люди также кропали на скорую руку мелодрамы и водевили для актрис, не отличавшихся чрезмерной добродетелью. В их кругу Оноре снова встретил "знаменитого" Огюста Ле Пуатвена, Этьена Араго, младшего брата прославленного астронома carbonaro [карбонария (ит.)], похвалявшегося тем, что он входит в состав Голубой венты – тайного общества республиканцев, а также Ораса Рессона, двадцатичетырехлетнего юношу, отец которого, как и Бернар-Франсуа Бальзак, без труда переходил от роялизма к якобинству и обратно. Рессон был в дружбе с художником Эженом Делакруа, говорившим о нем: "Он лгун и человек самонадеянный... Шалопай этот был самым отчаянным хвастуном из всех, каких я встречал". Анри Монье рассказывает, что однажды он сидел в кафе "Минерва" вместе с Рессоном; внезапно тот встал из-за стола и воскликнул: "Пойдемте отсюда! Вот и несносный Сент-Обен уже явился!" При этих словах Монье увидел молодого человека, походившего не то на монаха, не то на крестьянина. Это был Бальзак. Если приведенный эпизод достоверен, Рессон был, видимо, не только лгун и самонадеянный фат, но и неблагодарный, недоброжелательный человек.
Все эти молодые люди сотрудничали с уже добившимися некоторой известности драматическими писателями. Бальзак, рассчитывавший, что театр принесет ему состояние, написал мрачную мелодраму "Негр"; театр Гетэ отклонил пьесу, хотя отметил некоторые ее достоинства. Бальзак и сам понимал, что попусту растрачивает свои силы. С той поры, как Оноре благодаря Лоре де Берни испытал глубокое чувство, он мечтал написать настоящий роман о любви. Поверенная его чувств, бабушка Саламбье, еще в 1822 году с трогательной неуклюжестью подбадривала его:
"Милый Оноре, торопись избавиться от своей окаянной меланхолия... Постарайся не писать больше такие мрачные книги, рассказывай лучше о любви и делай это с приятностью... Ручаюсь тебе за успех, к тому же и сам исцелишься".
Славная старушка была права. В романе "Последняя фея, или Новая волшебная лампа" ее внук пробовал противопоставить буржуазной осмотрительности поэзию романтического. К несчастью, он все еще не способен был избавиться от подражания готовым образцам; у него получилась какая-то смесь из водевилей Скриба и романов Матюрена, книга вышла прескверная. Оноре де Бальзаку, стоявшему на голову выше Огюста ле Пуатвена и Ораса Рессона, никак не удавалось отделаться от их компании и от их методов работы.
Но, продолжая сотрудничать с этими беззастенчивыми литературными шакалами, он страдал. Его чувствительную натуру ранила жестокость окружающего мира. Он ощущал в себе силы для великих свершений. В романах, которые он писал только ради денег, порой попадались глубокие и верные наблюдения: о всеобщей растленности, о коррупции, ставшей язвою века, о торжестве порока. У отца Оноре позаимствовал некую систему взглядов отнюдь не такую уж глупую – о соотношении физического и нравственного облика человека. В 1822 году юный Бальзак по совету доктора Наккара купил, а затем переплел (то был для него немалый расход!) сочинения Лафатера. Этот швейцарский писатель, которым так восторгался Гете, написал большой труд "Физиогномика" (искусство узнавать характер людей по их наружности); труд этот "отличался тонкими и блестящими наблюдениями", в нем были рассмотрены шесть тысяч человеческих типов, их внешний облик и душевные свойства.
Книга эта стала для Бальзака своего рода Библией. "Люди умные, дипломаты, женщины – все те, кто принадлежит к числу немногих, но ревностных последователей двух этих знаменитых людей (Лафатера и Галля), часто имели случай наблюдать множество и других явных признаков, по которым можно проникнуть в человеческую мысль; привычные жесты, почерк, звук голоса, манеры и прочее не раз помогали влюбленной женщине, ловкому дипломату, искусному правителю и государю (Наполеону) по достоинству оценить тех, с кем они имели "дело", – пишет Бальзак в своей "Физиологии брака". Здесь в зачатке уже возникают контуры будущего исследования, охватывающего все слои общества. Бальзак, последователь Бюффона и Жоффруа Сент-Илера, выказывал живейшую склонность к такого рода исчерпывающей классификации. Ведь куда интереснее было бы претворять в романы столь грандиозные идеи, вместо того чтобы подражать сочинениям Виктора Дюканжа или Пиго-Лебрена! Чем больше читал Оноре, тем больше он думал об этом. Но не хватало времени, его подстегивала нужда, и настоящее произведение, за которое ему следовало приняться, виделось лишь смутно, как в тумане, ускользало от него.
Порою он мечтал написать несколько диалогов в манере Платона, с тем чтобы изложить в них систему своих взглядов; однако "Современный Федон" так никогда и не был написан. Зато сохранился позднейший набросок "Неведомые мученики", опубликованный в 1843 году; по нему можно составить себе некоторое представление о тех беседах, которые вел Бальзак в 1824 году, сидя со своими просвещенными друзьями в кафе "Вольтер" рядом с театром Одеон. Главный персонаж, Рафаэль, напоминает самого Бальзака: пышущее здоровьем лицо, черные волосы, живой взгляд". Его собеседники: ирландец Теофиль Осмонд, фанатичный приверженец Балланша; немец Тшерн, вольнолюбивый поэт с белокурыми локонами; доктор Физидор, двадцатисемилетний уроженец Турени, молодой медик, увлекающийся френологией; доктор Фантасма, семидесятитрехлетний житель Дижона, ученик Месмера, и математик Гроднинский, химик и изобретатель. Эти ученые мужи играют в домино за столиком, который завсегдатаи кафе прозвали "стол философов".
"Дубль шесть! Я начинаю игру!" – восклицает доктор Фантасма. И, продолжая партию в домино, партнеры ведут беседу, которая знакомит нас с мыслями молодого Бальзака. Физидор, рупор автора, рассказывает, что некий старый врач, посвятивший себя изучению оккультных наук, сделал ему необычайное признание: "Я хотел бы открыть вам одну тайну. Вот она: мысль могущественнее тела; она его пожирает, поглощает, разрушает".
Мысль способна убивать. Наши философы по очереди рассказывают о трагических мистификациях, когда неведомые жертвы умирают от воображаемых отравлений, погибают от несуществующих у них недугов или сходят с ума, терзаемые какой-либо мыслью. Ибо мысль материальна. Мертвецы могут являться живым потому, что мысль живет дольше, нежели тело. Верьте в оккультные науки!" Алхимики вовсе и не думали все превращать в золото, они мечтали об открытиях гораздо более важных. Они старались найти все определяющую молекулу; стремились обнаружить истоки движения в бесконечно малых частицах; жаждали раскрыть тайны жизни Вселенной... "Это магизм, который не следует смешивать с магией, ибо он представляет собою науку наук".
Таким образом, раскрываются чисто нравственные преступления, которые закон не карает. Человек-изверг Может довести свою жертву до безумия, до гибели, причиняя ей душевные муки, от которых изнемогают в недрах семьи под покровом глубочайшей тайны кроткие создания; их преследуют люди с жестокой душою, терзая язвительными речами. Подобные беседы обогащали юного романиста новыми и необычайными сюжетами.
Он читал множество книг на эту тему. В ту пору медики делились на три школы: виталисты учили, что человек наделен "жизненной силой", другими словами – душой; сторонники химико-механической школы отвергали всякие философские доктрины и рассматривали только органы человека, их действие и реакции; последователи эклектической школы проповедовали эмпиризм. Некий виталист, доктор Вирей, исповедовал доктрину, довольно близкую взглядам молодого Бальзака: долголетия можно достичь, экономя жизненные силы; умственный труд истощает их не меньше, чем разгульная жизнь; ведя целомудренный образ жизни, можно накопить запас энергии, а сконцентрировав ее в своих мыслях, можно добиться физического эффекта. К этим положениям Бальзак прибавил заветную мысль, которой был просто одержим: человек с помощью воли способен воздействовать на свою собственную жизненную силу и даже направлять ее действие за пределы себя самого. На этом зиждутся целебные свойства магнетизма; как и его мать, Оноре лечил наложением рук.
Наконец, в ту пору существовал в Бальзаке еще и третий человек, почти никому не ведомый. Гораздо больше, чем молодых людей из компании Рессона, он ценил своего друга Жана Томасси, которого впервые встретил на юридическом факультете или даже несколько раньше. Католик и легитимист, Томасси был так же далек от неверия и либерализма Бернара-Франсуа, как и от цинизма писак, собиравшихся в кухмистерской Фликото. "Ему только одно остается, – писал Сотле, – постричься в монахи. Между нами, я думаю, что он тем и кончит". Томасси не уважал ни толстяка Сотле, ни наглеца Ле Пуатвена, но ему нравилось щедрое великодушие Бальзака, он угадывал в нем высокий ум. Их политические взгляды, казалось, были совершенно противоположны. Оноре, как и его отец, был монархист По убеждениям, оппортунист по необходимости, бонапартист по влечению восторженной натуры, вольтерьянец по духу. В одном из его романов – "Жан-Луи" – даже усмотрели "бунтарский дух" и сочувствие Революции. На деле же, если он и презирал современное ему общество, то вовсе не жаждал его уничтожить. Как знать, будет ли другое общество лучше.
Сначала он был атеистом, но после чтения трудов Сведенборга и Сен-Мартена начал склоняться к воззрениям иллюминатов. Индийские мудрецы, отшельники из Фив с детства занимали его воображение. Он старался представить себе безграничное блаженство мистического экстаза, душевный покой, приносимый полным смирением, счастье божественной любви. Он не был примерным католиком и верил скорее в вечное и бесстрастное Начало, которое не мешает естественному ходу вещей, чем во всемогущее Провидение. И все же тяга к мистицизму была той лазейкой, сквозь которую в его сознание мог проникнуть христианский спиритуализм. Человек – не ангел и не зверь, но, изживая в себе зверя, он может приблизиться к ангелу, иначе говоря, спасти лучшую часть своего "я" – душу живую – и приблизиться таким образом к "глубочайшим безднам, таящимся в беспредельности".
Был ли он приверженцем учения Сен-Мартена? Некоторые отвечают на этот вопрос утвердительно, но это не так, ибо Сен-Мартен не предусматривал приобщения к таинствам, а в наброске "Трактата о молитве" Бальзак выражает желание сказать тем, кто скорбит душою:
"Как сладостно было мне приобщиться сих тайн, как легко было идти по этой стезе, едва я преодолел первые препятствия, какие восхитительные плоды освежали мое пересохшее небо... Я прошу тех, кто станет читать эту книгу, исполниться душевного покоя, дабы им открылся смысл Слова".
В этих строках мы узнаем неясный и возвышенный слог Сен-Мартена. Шатобриан после встречи с Сен-Мартеном высмеял "этого небесного философа", который вещал "на манер архангела". Духовидец вызвал раздражение у католика Шатобриана; Бальзак надеялся найти в Сен-Мартене проводника, указующего путь к тому, что он называл религией Иоанна Богослова, мистической церковью. Оноре был обязан Сен-Мартену и Сведенборгу одной из сторон своего мировоззрения.
В 1823 году Бальзак рассказал Томасси о том, что он задумал написать "Трактат о молитве". Томасси вскоре уехал из столицы в Бурж, где стал секретарем префекта; он уговаривал друга отказаться от этого плана: "Вы даже не представляете, до какой степени окреп бы ваш талант, если бы его питали идеи нравственные и религиозные... Но не вздумайте создавать такое произведение, как "Трактат о молитве", под игом смятенных чувств". Томасси опасался – и с полным основанием – того эротико-мистического тона, которым Оноре описывал свои мирские страсти.
Жан Томасси – Бальзаку, 7 января 1824 года:
"Расскажите мне подробнее о вашем "Трактате о молитве". Чтобы создать такой труд, недостаточно обладать возвышенной душою и богатым воображением; для этого необходима еще привычка к религиозной обрядности, необходимо длительное общение с Богом, необходимо, наконец, проникнуться спиритуализмом, исполненным экзальтации и умиления... Если вы никогда не испытывали душевного трепета, внезапно заслышав торжественные звуки органа, если не приходили в глубокое волнение, внимая молодому священнику, призывающему Бога Авраама благословить союз новобрачных, столь же юных, как и сам служитель церкви... то отложите в сторону свой "Трактат о молитве". Даже Руссо потерпел неудачу в подобном начинании, ибо он был чужд тех религиозных привычек, о которых я говорил. Одно дело написать десять или даже тридцать строк в минуту просветления; совсем другое поддерживать подобное состояние души на протяжении всего труда".
"Трактат о молитве" все еще оставался замыслом, а тем временем Бальзак опубликовал брошюру о "Праве первородства" и "Беспристрастную историю иезуитов", проникнутую необыкновенной ортодоксальностью. Книжечка о "Праве первородства" была написана не без блеска. Автор напоминал, что возделывать виноградники и выращивать леса – дело непростое, требующее терпения и времени, а потому собственность на них должна быть надолго закреплена; он указывал на опасности, связанные с разделом земельных владений между многочисленными наследниками, получающими при этом равную долю, ибо это "умножает честолюбивые устремления в стране, которая в отличие от Англии не может предоставить молодежи широких возможностей для применения своих сил". Однако брошюра была, без сомнения, заказана Рессоном, сторонником оппозиции, которая стремилась приписать правительству гораздо более реакционные и мрачные намерения, чем это было в действительности. А наши волчата были готовы на все, лишь бы заработать малую толику "живых денег", как выражался Бальзак, всегда предпочитавший звонкую монету векселям книгопродавцев, которые постоянно приходилось учитывать и по которым нечасто удавалось получить в срок.
"– Дети мои, – сказал Фино, – либеральной партии необходимо оживить свою полемику, ведь ей сейчас не за что бранить правительство, и вы понимаете, в каком затруднительном положении оказалась оппозиция. Кто из вас согласен написать брошюру о необходимости восстановить право первородства, чтобы можно было поднять шум против тайных замыслов двора? За работу хорошо заплатят.
– Я! – отозвался Гектор Мерлен. – Это соответствует моим убеждениям.
– Твоя партия, пожалуй, скажет, что ты порочишь ее, – возразил Фино. Фелисьен, возьмись-ка ты за это дело. Дорна издаст брошюру, мы сохраним все в тайне.
– А сколько дадут? – спросил Верну.
– Шестьсот франков. Ты подпишешься: "Граф К..."
[Бальзак, "Утраченные иллюзии"].
Бальзак талантливо играл роль адвоката дьявола, и, кто знает, не себя ли он имел в виду, когда писал этот отрывок? Он с такой легкостью влезал в шкуру противника! Разумеется, он не решился послать свою брошюру о "Праве первородства" родителям, но отправил ее без подписи Сюрвилям. Бернар-Франсуа в день получения брошюры гостил у зятя. Он прочел ее, возмутился ретроградными взглядами автора и тотчас же сел строчить опровержение. Лора, догадавшаяся, что брошюра написана Оноре, немало позабавилась. "Эта словесная дуэль между отцом и сыном, которые разили друг друга перьями, казалась ей необыкновенно смешной", – пишет Аригон в своей книге о первых литературных шагах Бальзака.
Двадцать четвертого июня 1824 года семейство Бальзаков, имевшее в ту пору свободные деньги, приобрело у кузена Шарля Саламбье за десять тысяч франков дом в Вильпаризи, который оно прежде арендовало. Бернару-Франсуа улыбалась мысль вновь переехать в это селение; там он был куда более заметной персоной, чем в Париже, где, по его словам, "матерые волки сталкивались и грызлись в отвратительной грязи". Полагая, что жизнь на свежем воздухе и простые удовольствия способствуют долголетию, он и в семьдесят восемь лет был не прочь поразвлечься с деревенскими девицами. Госпожа Бальзак надеялась, что Оноре вместе со всеми переедет в Вильпаризи. Но он отказался и снял для себя небольшую квартирку на шестом этаже в доме номер два по улице Турнон. "Он намерен там работать", защищала брата добрая Лора. Но мамашу не так-то легко было провести. Она полагала, что Оноре хочет без помех принимать у себя госпожу де Берни.
Госпожа Бальзак – Лоре Сюрвиль, 29 августа 1824 года:
"Я снова хочу поговорить с тобой о дезертирстве Оноре. Как и вы, я охотно воскликну: "Браво!", если он и в самом деле остался в столице для того, чтобы работать и уразуметь наконец, чего ему следует держаться; но боюсь, он затеял все это для того, чтобы под благовидным предлогом без стеснения предаваться страсти, которая его губит. Он удрал отсюда вместе с нею; она провела целых три дня в Париже, я так и не могла повидать Оноре, хотя он знал, что я приехала в столицу ради него. Думаю, они вместе сняли эту квартиру, и он выдает ее там за свою родственницу. Он, верно, потому и избегал встречи со мной, что не хотел говорить, где остановился; все эти соображения заставляют меня считать, что Оноре просто ищет полной свободы, вот и все. Дай-то Бог, чтобы я ошибалась и чтобы у него наконец открылись глаза!..
"Дама с околицы" замучила меня визитами и знаками внимания. Сами понимаете, как мне это лестно. Она постоянно делает вид, будто проезжала мимо. Приходится хитрить! Не дальше как сегодня она заглянула к нам, чтобы пригласить меня к обеду, но я отказалась под благовидным предлогом".
По словам госпожи Бальзак, родители неизменно позволяли Оноре пользоваться их кошельком.
Госпожа Бальзак – Лоре Сюрвиль, 4 сентября 1824 года:
"Только недавно я предложила Оноре заплатить все его долги, если это будет способствовать взлету его таланта и поможет написать наконец книгу, которую ему не стыдно будет признать своей. Но он отказался – очевидно, не захотел принять на себя хоть какие-то обязательства. Я предлагала посылать ему провизию: большего нам делать не следует в его же собственных интересах. Но он и этого не пожелал. За все наше внимание он платит тем, что ведет себя совершенно бесцеремонно, не уважая даже родительского дома. Несмотря на то, что мы старались делать вид, будто ничего не замечаем, он поставил нас, повторяю, поставил нас в такое положение, когда уже больше невозможно сомневаться! Нам неловко перед окружающими. Когда я прохожу вместе с нею по улице селения, то, хотя, как всегда, держусь с достоинством и даже сурово смотрю на встречных, многие все же хихикают нам вслед".
Пусть только Лора, выслушав эти упреки по адресу Оноре, не думает, что госпожа Бальзак сердится на сына. Материнские объятия и кошелек всегда открыты для него. Если он выкажет свой талант, это будет огромной радостью для его родителей. Если бы он смотрел на свою любовную связь, как должно, то есть как на источник удовольствия, и не превращал ее в помеху своим трудам, они бы радовались, видя, что он занят делом и чего-то добивается; ему давно уже пора взяться за ум.
"С тех пор как Оноре перебрался в Париж, наша дама частенько туда наведывается. Она проводит там по два дня кряду, вот почему я боюсь, что опасения мои были справедливы и, покинув родительский дом, он лишь искал для себя полной свободы".
Госпожа Бальзак с горечью отнеслась к тому, что женщина, которая была на год старше ее самой и успела уже стать бабушкой, похитила у нее сына. Что касается Лоры де Берни, то она признается, что влюблена в Оноре больше чем когда-либо.
Госпожа де Берни – Бальзаку:
"Отчего так получается, дорогой, что, обретая огромное счастье в нашей любви, мы испытываем столько огорчений по вине окружающих?.. О да, я люблю тебя! Ты мне нужен больше, чем воздух птице, чем вода рыбе, чем солнце земле, чем тело душе. Повторяя простые слова: "Милый, я люблю, я обожаю тебя", я хотела бы чаровать твой слух, как чарует его весенняя песня пташки, я просила бы тебя прижать к сердцу свою милую и совершить вместе с ней чудесную прогулку; мне хотелось бы уверить тебя, что наступят погожие летние дни; но в этой радости мне отказано, боюсь, что мое письмо может навлечь на моего дорогого, моего любимого неприятности, вызвать дурные толки, и все удовольствие будет этим испорчено. Ты даешь мне так много, но твоя милая способна это почувствовать и оценить, как никто другой. О почему не дано мне принять множество обличий, чтобы и самой давать тебе все, что я хотела бы, и так, как я хотела бы! Но, милый друг, если мое тело, моя душа, все мое существо, которое украсила ныне самая возвышенная любовь, дарует тебе радость, я бесконечно счастлива, ибо всецело принадлежу тебе!"
Если госпожа де Берни в начале этой связи держала себя по-матерински нежно и чуть насмешливо, то теперь, четыре года спустя, она страстно привязалась к молодому человеку, чей незаурядный талант она почувствовала первой. Она страдала, видя, что он убивает все свое время на жалкие поделки, которые ему заказывает Рессон, литературный маклер, ловко эксплуатировавший этот неиссякаемый источник вдохновения. Бальзак был не просто журналист, он был поистине блестящий журналист. Чуть не всякий день он отправлялся либо в кафе "Вольтер", либо в кафе "Минерва", возле Комеди-Франсез, где встречался со своими приятелями. Рессон, умевший гораздо лучше, чем Оноре, соблазнять книгопродавцев, предлагал Бальзаку работу над всевозможными "кодексами"; в ту пору жанр этот был в моде, и можно назвать множество забавных, циничных или игривых его образцов: "Гражданский кодекс", "Кодекс честных людей", "Кодекс коммивояжера", "Кодекс литератора и журналиста", "Любовный кодекс". Бальзак, умевший работать, как никто, был способен написать брошюру в несколько ночей. Пользуясь трудами Лафатера, он мог сочинить, скажем, "Кодекс щеголя", легкомысленный, блестящий и в то же время остроумный.
"Кодекс честных людей" появился сперва без подписи, а затем за подписью Рессона. Но создан он был главным образом Бальзаком, и сам Рессон это признал. Трактат сей можно, пожалуй, назвать бальзаковским и вместе с тем свифтовским. Цель его – предостеречь честных людей от опасностей, грозящих их любезным денежкам, за которыми на каждом шагу охотятся парижские "ирокезы". Автор не слишком возмущается ворами. Всякий социальный порядок зиждется на ворах: без них жизнь была бы такой же тусклой, как комедия без Криспена и Фигаро. "К чему бы это повело? Как стали бы жить жандармы, судейские чиновники, полицейские, слесари, привратники, тюремщики, адвокаты?" К тому же ведь все воруют. Поставщик, снабжающий армию провиантом (а Бальзак хорошо знал людей этого сорта), который должен прокормить тридцать тысяч человек, вносит в списки "мертвые души", сбывает затхлую муку и подпорченную провизию – иначе говоря, ворует; иной сжигает завещание; этот запутывает отчеты по опеке; тот придумывает "тонтину".
И Бальзак, опираясь на опыт, который он приобрел, общаясь с судейской братией, со знанием дела разоблачает всевозможные уловки адвокатов и нотариусов – они искусно стряпают всякие кабальные контракты, фальшивые закладные. Автор дает честным людям благоразумные советы:
"Запомним, как первую заповедь, что самая худая мировая сделка лучше самой доброй тяжбы... Если же вас все-таки вынудят судиться, откажитесь от разорительных прошений и никому не нужных требований... Ублажайте клерка и не занимайтесь его патроном; не скупитесь на трюфели и хорошее вино, помните, что, потратив триста франков, вы сбережете тысячу экю".
Книжечка была пропитана циническим сарказмом.
"Как правило, светский человек, получивший хорошее воспитание, может пожертвовать своей безукоризненной честностью лишь ради крупных сумм, которые сулят ему надежное богатство".
Эта небольшая брошюра по-своему важна. То была настоящая записная книжка писателя со множеством набросков. Здесь нетрудно обнаружить в зародыше будущие романы, где большую роль станет играть закон и всевозможные судебные кляузы; вместе с тем художник пока еще с насмешливой снисходительностью относится даже к худшим из своих моделей.
Когда мода на "кодексы" миновала и на смену им пришли различные "физиологии", Бальзак сделал первый набросок "Физиологии брака". Отец уже давно излагал ему свои экстравагантные взгляды на плотскую любовь и на евгенику. Старый друг Оноре – Вилле-Ла-Фэ – много рассказывал юноше о женщинах, об их хитростях, о супружеской дипломатии. Орас Рессон и Филарет Шаль дали ему прочесть книгу Стендаля "О любви", и он пришел в восторг. Семейная жизнь его собственных родителей позволила ему сделать немало наблюдений об адюльтере и связанных с ним опасностях. Необыкновенная любовь госпожи Бальзак к младшему сыну Анри, этому чужаку, которого она ввела в семью, не признававшую его своим, в отрочестве заставляла Оноре немало страдать. Суровые уроки преподала ему жизнь четы Берни, четы Сюрвилей, четы Монзэглей. Словом, уже в ранней молодости Бальзак достаточно нагляделся на семейные неурядицы и подумывал о том, чтобы все это описать. Он долго искал название будущей книги: "Супружеский кодекс", "Искусство сохранить верность жены", "Искусство уберечь жену"; наконец он остановился на заголовке "Физиология брака". Тон этого произведения подсказал Бальзаку один из его любимых писателей – Лоренс Стерн, "советовавший, – по определению Бардеша, – смотреть на брак как на известный недуг, который время от времени проявляется в физиологическом акте". Хотя "Физиология брака" вышла в свет гораздо позднее, уже в 1824-1825 годах был написан первый ее вариант; возможно, в работе над ним деятельно участвовал и Бернар-Франсуа, ибо сохранился экземпляр этого произведения, который Оноре велел переплести вместе с брошюрой своего отца "История бешенства".
Для такого рода второстепенных работ Бальзаку приходилось очень много читать, он рылся в книгах, изучал иностранных авторов. Он выказывал энергию, достойную Наполеона. Однако ему уже исполнилось двадцать пять лет, а успех все не приходил. Романы Ораса де Сент-Обена? В их ценность он не верил; он и писал-то их с усмешкой, а порою даже немного стыдясь. Почему? Да потому, что чувствовал: он способен совсем на иное; он ощущал себя философом, мыслителем. Оноре приобрел известную сноровку, овладел некоторыми приемами мастерства и теперь мечтал о чем-то большем. Какой-нибудь Рессон или Ле Пуатвен могут довольствоваться ролью литературных поденщиков, готовых взяться за любую поделку. Но он... Все заставляло его стремиться к великому, и все неумолимо отбрасывало его к ничтожному.
"Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, – и прозябал в ничтожестве... Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживаясь к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд!.. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность; многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары" [Бальзак, "Шагреневая кожа"].
Между тем надо было жить. Теперь он обитал один на улице Турнон. Пуповина была перерезана. Иногда мать тайком платила за его жилье. Известно, что в 1824 году Оноре долго болел. Он слишком много работал. И по-прежнему мечтал прославить имя Бальзак. Однако он все еще писал под псевдонимами, ибо сам не верил в ценность того, что создавал. В начале его литературной карьеры родители ждали чуда. Неизменно благожелательный и бодро настроенный, Бернар-Франсуа, как и раньше, писал родственникам: "Оноре работает без передышки, он занят изящной словесностью, из-под его пера выходят славные и весьма интересные произведения, их хорошо раскупают". Но сам автор судил себя гораздо строже; он до такой степени себе опротивел, что иногда подумывал о самоубийстве. Так по крайней мере рассказывает Этьен Араго. Вот как передает эту сцену Аригон.
"Однажды вечером, проходя по какому-то мосту через Сену, Этьен Араго заметил Бальзака: тот стоял неподвижно, облокотившись на парапет, и глядел на воду.
– Что вы тут делаете, любезный друг? Уж не подражаете ли персонажу из "Мизантропа"? Плюете в воду и любуетесь расходящимися кругами?
– Я смотрю на Сену, – отвечал Бальзак, – и спрашиваю себя, не следует ли мне улечься спать, завернувшись в ее влажные простыни...
Услышав такой ответ, Этьен Араго остолбенел.
– Что за мысль! – вскричал он. – Самоубийство? Да вы с ума сошли! Вот что, пойдемте-ка со мной. Вы ужинали? Поужинаем вместе".
Маловероятно, что веселый юноша, чья голова была битком набита планами, счастливый любовник и в самом деле собирался наложить на себя руки... Но неужели ему было суждено всю свою жизнь – а она, как известно, коротка и неповторима – выполнять поденную работу для книгопродавцев?
VIII. ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК... В СОБСТВЕННОМ ВООБРАЖЕНИИ
Никогда не следует судить тех, кого
любишь. Настоящая привязанность слепа.
Бальзак
Шел 1825 год. Бальзак, живший на улице Турнон, почти ежедневно виделся с госпожой де Берни: она продала свой дом в Вильпаризи и поселилась теперь неподалеку от возлюбленного. Она давала ему все: обожание опытной женщины, сладострастной и вместе с тем нежной; материнскую, любовь стареющей эгерии к молодому человеку, глаза которого, по словам Теофиля Готье, походили на "два черных бриллианта и время от времени вспыхивали яркими золотистыми искрами; то были глаза властелина, ясновидца, укротителя"; она знала свет и давала Оноре ценные советы, как там себя вести; она много рассказывала ему о старом режиме, о Революции и обществе времен Империи, зародившемся в период Директории. Проницательная, насмешливая и страстная, не питавшая иллюзий насчет людей и все же относившаяся к ним беззлобно, способная на безграничную преданность, она описывала ему всевозможные интриги, алчные устремления, заговоры. Словом, объясняла жизнь.





