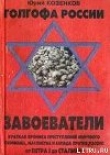Текст книги "Завоеватели"
Автор книги: Андре Мальро
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
И Гарин начинает составлять докладную записку Бородину, потому что решения, обязательные для Интернационала, принимаются Бородиным. От света, падающего на склонённое лицо Гарина, резко обозначаются все его выпуклости и морщины. И вновь выступает на первый план та сила, которая в Азии является древнейшей: больницы Гонконга, покинутые персоналом, переполнены больными. И на бумаге, которую солнечный свет окрашивает в жёлтый цвет, ещё один больной пишет другому.
2 часа
Новая тактика Гона до крайности тревожит Гарина. Он рассчитывает, что Гон избавит его от Чень Дая. Из донесений осведомителей Гарин знает, что Гон начнёт действовать, не дожидаясь постановления об аресте. Уверенность в том, что полиция пока ещё не против него, заставляет его предпринимать быстрые действия. Однако Гарину ничего не известно о том, какими же они будут.
– В Гоне, – говорит мне Гарин, – проступает с некоторых пор странное существо. За наружной культурой, которая состоит лишь из размышлений над кое-какими зажигательными идеями, извлечёнными по случаю из книг и разговоров, в нём живёт необразованный китаец. Китаец, не умеющий различать иероглифы, поднимает голову и начинает подавлять того, который читает французские и английские книги; и это новое существо находится в полной зависимости от своего неистового характера, молодости и единственного опыта, который у него был, – опыта нищеты… Отрочество Гона прошло среди людей, нищета которых создавала особый мир вблизи предместий больших городов. Там было много больных, стариков, людей, утративших силы по той или иной причине, тех, которые умирали однажды от голода, и тех, гораздо более многочисленных, которых скудная пища поддерживала в состоянии умственного отупения и постоянной слабости. Люди, всецело поглощённые тем, чтобы добыть себе хоть какое-то дневное пропитание, деградируют до такой степени, что в душе у них не остаётся места даже для ненависти. Всё рушится: способность чувствовать, желать, сознание своего достоинства. Едва лишь возникают то тут, то там слабые порывы злобы и отчаяния, когда над грудой лохмотьев и тел, свернувшихся в пыли, появляются эти лица, эти глаза, прикованные к еде, которую раздают миссионеры… Однако есть среди них и другие, те, которые становятся при случае солдатами или грабителями. В них, способных ещё на какой-то порыв, на сложные комбинации, чтобы устроить над кем-то расправу, гнездится стойкое чувство ненависти и братства. Они живут с этим чувством в ожидании тех дней, когда покорные толпы окажутся готовы позвать себе на помощь громил и поджигателей. Гон освободился от нищеты, но он не забыл её урока. Не забыл он и того жестокого, полного бессильной ненависти образа мира, который нищета вызывает к жизни. «Существуют только две расы, – говорит Гон, – от-вер-жен-ные и все остальные». Отвращение к людям, обладающим властью и богатством, возникшее у Гона в детстве, таково, что сам он не стремится ни к власти, ни к богатству. Мало-помалу, по мере того как Гон удалялся от своего «Двора чудес», он обнаружил, что ненавистно ему вовсе не благополучие богатых, но то чувство уважения, которое они испытывают к собственной личности. «Бедняк, – говорит Гон, – не может себя уважать». Он смирился бы, если бы, подобно своим предкам, считал, что существование человека выходит за рамки его собственной жизни. Но привязанный к настоящему всей той силой, которую порождает открытие смерти, Гон не хочет смиряться, не пытается понять, не вступает в споры. Он ненавидит. Для него нищета – нечто вроде сладкоголосого беса, который беспрестанно доказывает человеку, что он низок, малодушен, слаб, предрасположен к падению. Вне всякого сомнения, Гон прежде всего ненавидит людей, которые себя уважают, уверены в себе. Невозможно сильнее взбунтоваться против собственной расы. Ведь именно отвращение к респектабельности, китайской добродетели по преимуществу, и привело Гона в ряды революционеров. Как у всех тех, кого одушевляет страсть, за всем, что он говорит, чувствуется внутренняя сила, которой и обусловливается его влияние. Это влияние особенно возросло благодаря непомерной ненависти Гона к идеалистам, к Чень Даю в частности. Этому чувству ошибочно приписывали политические причины. Гон ненавидит идеалистов, потому что они намереваются «согласовать все интересы». Но Гон вовсе не хочет, чтобы интересы были согласованы. Он вовсе не хочет отказываться от своей нынешней ненависти ради какого-то сомнительного будущего. Он с яростью говорит о тех, кто забывает, что человеческая жизнь уникальна, и предлагает людям жертвовать собой ради своих детей. Он, Гон, не из тех, у кого есть дети, кто жертвует собой и кто стремится быть правым в глазах других, а не перед самим собой. Пусть бы Чень Дай, говорит Гон, попробовал добывать себе пищу, как другие, близ сточных канав. Он бы лучше узнал, что за удовольствие – слушать почтенного старца, рассуждающего о справедливости. Гон видит в беспокойном старом вожде только того, кто во имя справедливости намеревается отнять у него право мести. Обдумывая туманные откровения Ребеччи, Гон приходит к выводу, что слишком много людей позволяют отвлечь себя от своего единственного призвания ради какого-то призрачного идеала. У него, Гона, нет намерения закончить свою жизнь агентом по рекламе механических игрушек, он не даёт старости завладеть собой. Услышав стихи какого-то китайского поэта с Севера:
Один в своих победах, пораженьях.
Меня никто не сделает свободней, чем я сам,
И ни один Христос пусть не подумает,
Что жизнь свою отдал ради меня, —
Гон поспешил их выучить наизусть. Влияние Ребеччи, затем Гарина лишь усилило потребность Гона в том яростном реализме, который целиком подчинялся ненависти. Он смотрит на свою жизнь, как чахоточный больной, ещё полный сил, но уже безнадёжный. В крайне мутном смешении его чувств ненависть устанавливает некий порядок – грубый, жестокий – и становится чем-то вроде долга. Только действие, подчинённое ненависти, считает он, не является ложью, низостью, малодушием, только оно в достаточной мере противостоит словам. Именно эта потребность в действии и сделала Гона нашим союзником. Но он считает, что Интернационал действует слишком медленно и понапрасну многих щадит. Дважды на этой неделе Гон нанёс удар по людям, которым покровительствовал Интернационал. Каждое убийство усиливает его веру в себя, – говорит Гарин, – и постепенно Гон начинает осознавать, что в глубине души он – анархист. Разрыв между нами близок. Только бы он не произошёл слишком рано. – И после короткой паузы: – Не многих врагов я понимаю лучше…
На следующий день
Когда я вхожу в отдел Гарина, Клейн и Бородин беседуют, сидя один напротив другого возле двери. Искоса они наблюдают за Гоном, который, стоя посреди комнаты, руки в карманах, спорит с Гариным. Бородин в это утро впервые поднялся с постели; жёлтый, похудевший, он сейчас похож на китайца. Что-то есть в атмосфере, в манере поведения мужчин, заставляющее думать о враждебности, почти о ссоре.
Стоя неподвижно, Гон говорит короткими, неровными фразами, с ярко выраженным акцентом. Я смотрю на резкое движение его челюстей (Гон произносит слова, как будто кусается) и внезапно вспоминаю выражение, о котором рассказал мне Жерар: «Когда меня приговорят к высшей мере наказания…»
– Во Франции, – как раз говорит Гон, – не осмеливались отрубить голову королю. Но в конце концов это сделали. И Франция не погибла. Нужно всегда прежде всего гильотинировать короля.
– Не тогда, когда он даёт деньги.
– Когда даёт деньги. И когда не даёт. Для меня это не имеет значения.
– Но для нас имеет. Берегись, Гон: террористическое действие, которое происходит на глазах полиции, в её руках.
– Как?
Гарин повторяет фразу. Гон, по-видимому, понял, но он по-прежнему неподвижен, рассматривает плитки пола, выставив лоб вперёд.
– Всё в своё время, – добавляет Гарин. – Революция – не столь простое дело.
– Ах, революция…
– Революция, – оборачиваясь, резко говорит Бородин, – означает, что надо оплачивать армию!
– Тогда это совсем не заслуживает внимания. Выбирать? Почему я должен это делать? Потому что у вас нет больше справедливости? Я предоставляю эти заботы Чень Даю. Они простительны в его возрасте, они подходят этому зловредному старику. Меня же политика не интересует.
– Так-так, – отвечает Гарин. – Пустые слова! Знаешь ли ты, чем сейчас заняты директора крупных агентств Гонконга? Они стоят в очереди к губернатору, чтобы получить субсидии от государства, а банки отказываются выдавать требуемые суммы. В порту «именитые люди» таскают тяжёлые кули (при этом они похожи на гусей). Мы разоряем Гонконг, мы превращаем в захудалый порт одну из самых богатых территорий, принадлежащих английской короне, – не говоря уже, что тем самым мы создаём пример для других. Ну а ты, что ты делаешь?
Сначала Гон молчит. Но по тому, как он глядит на Гарина, я чувствую, что он будет ему возражать. Наконец он решается:
– Всякая общественная организация – мерзость. Своя жизнь уникальна. Не упустить её – вот в чём дело.
Но это лишь что-то вроде предварительного вступления.
– Что же дальше? – говорит Бородин.
– Вы спрашиваете, что я делаю?
Гон оборачивается к Бородину и смотрит теперь на него в упор.
– То, что не осмеливаетесь делать вы. Выматываться на работе, которой заняты бедняки, – плохо. Заставлять бедных парней убивать врагов партии – хорошо. Ну а стараться не запачкать себе руки о подобные действия – это что, тоже хорошо?
– Я, может быть, боюсь? – отвечает Бородин, в котором начинает нарастать гнев.
– Того, что вас убьют, – нет.
Тряхнув головой сверху вниз:
– Остального – да.
– Каждому – своя роль!
– А у меня, значит, такая, да?
В Гоне также нарастает гнев, и акцент его становится всё более резким.
– Вы считаете, что я не испытываю отвращения? Именно потому, что для меня это мучительно, я никогда не заставляю делать других, понятно вам? Да, вы глядите на Клейна. Я знаю, он ликвидировал одного из великих князей. Я у него спрашивал…
Оборвав фразу, Гон смотрит поочерёдно то на Бородина, то на Клейна и нервно смеётся.
– Буржуи – не всегда владельцы заводов, – говорит он вполголоса.
Затем внезапно резко пожимает плечами и быстро выходит, хлопнув дверью.
Молчание.
– Час от часу не легче, – говорит Гарин.
– Что он предпримет, как ты думаешь? – спрашивает Клейн.
– В отношении Чень Дая? Чень Дай почти что потребовал его выдачи.
И после размышления:
– Он понял, когда я сказал ему: совершая террористическое действие, нужно считаться с полицией, террористы действуют на её глазах. Таким образом, Гон попытается покончить с Чень Даем как можно быстрее… Это очень вероятно. Но начиная с сегодняшнего дня мы сами под прицелом… Первому из этих господ…
Бородин, покусывая усы и застегивая портупею, которая его стесняет, встаёт и выходит. Мы следуем за ним. Крупная бабочка садится на электрическую лампочку, отбрасывая на стену большое чёрное пятно.
9 часов
Вероятно, слова Мирова встревожили Гарина, потому что впервые, хотя я его не расспрашиваю, он намекает на свою болезнь.
– О болезни, старина, ничего не узнаешь, пока сам не заболеешь. Думаешь, что это что-то такое постороннее, против чего борешься. Но нет, болезнь – это ты, ты сам… Словом, как только проблема Гонконга будет решена…
После обеда приходит телеграмма: армия Чень Тьюмина покинула Вечеу и идёт на Кантон.
Проснувшись, узнаю, что у Гарина этой ночью был приступ и его увезли в госпиталь. После 6 часов я смогу его навестить.
Гон и анархисты оповещают, что собрания будут проводиться после полудня в помещениях, которые находятся в распоряжении главных профсоюзов. Сам Гон выступит с речью на собрании «Джонки», самого мощного объединения грузчиков Кантонского порта, и на собраниях некоторых более мелких объединений. Для ответа Гону Бородин наметил Мао Линву, он считается одним из лучших ораторов гоминьдана.
Завтра наши агенты объявят о прекращении всеобщей стачки в Гонконге. Одновременно для того, чтобы тревога, нависшая над городом, не рассеивалась, двойные агенты сообщат английской полиции, что китайцы, охваченные бешеной злобой из-за того, что не могут продолжать всеобщую забастовку, готовятся к вооружённому восстанию. Английские торговые дома в последнее время пытались создать в Суатеу службу по перевозке грузов, благодаря которой товары, выгруженные в этом порту, можно было бы отправлять в глубь Китая. Вчера по нашему распоряжению профсоюзы Суатеу объявили забастовку грузчиков, сегодня утром был наложен арест на товары английского производства. Наконец, только что началось чрезвычайное заседание трибунала: все коммерсанты, согласившиеся принять английские товары, будут арестованы и обложены штрафом в две трети их состояния. Те, которые не уплатят штраф в течение десяти дней, будут расстреляны.
5 часов
Я очень сильно задержался, собрание «Джонки», вероятно, уже началось.
Мы с юнаньским секретарём Николаева останавливаемся перед чем-то вроде завода, входим в гараж, пересекаем его по свободному проходу между «фордами», пересекаем также двор. Перед нами – здание с крышей без загнутых краев и длинной белой стеной, на которой дожди проложили широкие зелёные дорожки, словно кто-то плеснул на лету кислотой из ведра. Вот и дверь. Перед ней – часовой в холщовых туфлях на плетёной подошве. Сидя на ящике, он показывает автоматический пистолет детям, самые маленькие среди них – совсем голые. Мой спутник предъявляет пропуск. Чтобы взглянуть на него, часовой встаёт, слегка отодвигая от себя детей, словно гроздья одной ветки. Мы входим. Глухой гул голосов, в котором то там, то здесь тонут отдельные фразы, поднимается нам навстречу вместе с густым синеватым туманом. Я различаю только две большие солнечные призмы, пронизанные мельчайшими пылинками. Отражаясь от окон, они косыми полосами падают сверху вниз в сумрак комнаты. Свет, пыль, чад, расплавленный, сгустившийся воздух, в котором табачный дым чертит свои узоры. По-прежнему мы слышим только гул голосов, рассеивающихся как пыль. Но вот под влиянием прерывающегося голоса оратора, который не виден в сумраке зала, этот гул упорядочивается, превращаясь в скандирование: «Да, да! Нет, нет!» Похожие на приглушённые удары гонга, крики толпы сопровождают каждую фразу оратора и, подобно ответам в литании [7]7
Вид молитвы в католицизме, которая читается во время торжественных религиозных процессий – Прим. перев.
[Закрыть], вносят ритм в его речь.
Мои глаза постепенно привыкают к сумраку. В зале – никаких украшений. Три эстрады: на одной – стол, за ним перед большой картиной с иероглифами (может быть, это завещание Сунь Ятсена? Я не могу прочитать, это слишком далеко) сидят председатель и два заместителя; на второй эстраде – оратор, которого мы видим и слышим одинаково плохо; на третьей – что-то вроде маленькой кафедры, за которой вполне можно различить пожилого китайца с тонким изогнутым носом и седыми волосами бобриком. Опершись на локти, выставив грудь вперёд, он ждёт.
Толпа, которую я теперь могу рассмотреть, неподвижна. В небольшом помещении – четыреста или пятьсот человек. Возле стола – несколько студенток с остриженными волосами. Большие вентиляторы на потолке тяжело бьют по сгустившемуся воздуху. Слушатели – солдаты, студенты, мелкие торговцы, грузчики; одни из них прижаты в толпе друг к другу, другие стоят почти свободно. Они выражают одобрение выкриками, вытягивая шею вперёд (как это делают собаки, когда лают), туловище же их остаётся неподвижным. Не видно скрещенных рук, локтей, опирающихся о колени, подбородков, охваченных ладонями; прямые негнущиеся тела без каких-либо признаков жизни и искажённые страстью лица с челюстями, двигающимися вперёд. И всё время набегают волной крики одобрения, этот лай.
Но вот голос оратора становится достаточно отчётливым, и я понимаю, что это голос Гона. Гон не запинается, как бывает, когда он переходит на французский. Он говорит громко, быстро. Это уже конец речи.
– Они утверждают, что принесли нам свободу! Мы уничтожили Империю за пять лет, разбили её, как яйцо, они же в это время ещё пресмыкались под кнутом своих военных сановников. И они заявляют устами платных агентов, своих прислужников, что научили нас делать Революцию! Но разве мы в них нуждались? Разве у вождей Тайпинга были русские советники? А у боксёров?
Речь Гона состоит из обычных китайских штампов, но произносятся они исступленно и прерываются всё более многочисленными гортанными криками «Да, да!». Гон с каждой фразой повышает голос. Теперь он уже кричит:
– Когда наши угнетатели решились уничтожить пролетариев Кантона, разве русские потрясали бидонами с бензином? А кто швырял в реку этих скотов, продавцов-добровольцев?..
– Да, да! Да, да! Да, да!
Мао стоит по-прежнему неподвижно, облокотившись на кафедру, и молчит. Совершенно очевидно, что почти все собравшиеся здесь – на стороне оратора. И было бы бесполезно убеждать их, что в одиночку они не одержали бы победы над продавцами-добровольцами.
Гон, который говорит, вероятно, уже довольно давно, добился того, чего хотел. Он спускается с эстрады и, так как ему ещё надо выступить на других собраниях, поспешно уходит среди почтительного гула голосов, с которым начавший свою речь Мао справиться не может. Невозможно разобрать ни одного слова. Собрание было подготовлено: мне кажется, что протесты и крики исходят всегда от семи или восьми одних и тех же китайцев, рассеянных по залу. Толпа, несмотря на враждебность, несомненно, хотела бы послушать Мао – пожилого человека и знаменитого оратора. Но он не повышает голоса. Продолжая говорить среди криков и воплей, он внимательно осматривает различные части зала, настроенного против него. Наконец он понимает, что тех, кто его прерывает, увлекая аудиторию за собой, совсем немного. И тогда окрепшим голосом, который внезапно стал хорошо слышен, обводя собравшихся широким жестом руки, Мао переходит в наступление:
– Посмотрите на тех, кто здесь меня оскорбляет, старается прервать мою речь, потому что страшится моих слов.
Волнение. Очко в пользу Мао: каждый оборачивается, чтобы посмотреть на одного из анархистов. Против Мао теперь не весь зал, но лишь его противники.
– Тех, кто кормится на английские деньги, в то время как наши забастовщики умирают с голоду, их по меньшей мере…
Конец фразы невозможно разобрать. Мао наклонился вперёд, рот его широко раскрыт. Со всех концов зала несётся всевозможная брань. Она звучит по-китайски на все лады. В общем гвалте выделяются слова:
– Собака! Продавшийся! Предатель! Предатель! Грузчик!
Может быть, Мао продолжает свою речь, но его не слышно. Между тем оглушительный шум идёт на убыль. Несколько единичных оскорблений как последние аплодисменты в театре… И тогда Мао, подняв обе руки над головой и внезапно удвоив силу голоса, разом вновь завладевает вниманием:
– Вы называете меня грузчиком? Пусть так! Я всегда был вместе с бедняками. И я не буду их оскорблять, как это делаете вы, упоминая грузчиков в одном ряду с ворами и предателями. Почти ребёнком…
(Происходит схватка между анархистами и теми, кто хочет слушать. Но она не заглушает слов оратора.)
– …Я поклялся связать свою жизнь с жизнью бедняков, и никто не сможет освободить меня от этой клятвы потому, что тех, перед кем я её давал, уже нет в живых…
И обе руки вперёд, раскрыв ладони:
– Вы, бездомные, вы, голодные, вы все! Вы, для которых нет даже имени, – разгрузчики леса, волочильщики лодок, вы, которых узнают по рубцам на плечах, и вы, которых узнают по рубцам на бёдрах, – чернорабочие порта! Слушайте же, слушайте тех, чьё высокомерие оплачено вашей кровью. Каково! Эти прекрасные господа кричат «грузчики» с тем же самым выражением, с каким только что я говорил «собаки», имея в виду их самих!
– Да, да!
Снова одобрительные выкрики:
– Да, да!
– Смерть тем, кто оскорбляет народ!
Кто кричал? Неизвестно. Голос прозвучал слабо, нерешительно.
Но тотчас сто голосов подхватывают:
– Сме-е-е-ерть!..
Это раскат грома, крик возмущения, превращающийся в вопль. Слова едва различимы, но достаточно и того, как их выкрикивают.
Анархисты пытаются подойти к трибуне. Но Мао пришёл не один. Его люди, которым на этот раз помогает толпа, охраняют подходы. Один из анархистов, взгромоздившись на плечи своего товарища, пытается что-то сказать. На него тут же набрасываются, валят на пол, бьют. Начинается потасовка. Мы пробираемся к выходу. В дверях я оборачиваюсь: в сгустившемся чаду смешались светлые костюмы, просторные белые одежды, синие и коричневые лохмотья портовых рабочих; колеблющиеся, расплывчатые фигуры с торчащими кулаками, над которыми взлетают шлёмы цвета мела…
На улице я замечаю удаляющегося от нас Мао. Я пытаюсь его догнать, но безуспешно. Может быть, ему не хочется, чтобы его сегодня видели в обществе белого.
Я иду в больницу пешком. В одиночестве. То, как Мао выпутался из ситуации, в которой оказался, делает честь его находчивости, но что было бы, если бы кто-то по оплошности не крикнул «грузчик»? Одержанная благодаря чистой случайности победа ничего не меняет. К тому же Мао защищал только себя… Мой спутник-юнанец, прощаясь со мной, сказал:
– Не считаете ли вы, господин, что, если бы Гон был ещё здесь, возможно, господину Мао не удалось бы так легко добиться своего триумфа?..
Триумфа?
Когда я подхожу к госпиталю, уже совсем темно. В павильоне под пальмами дежурят солдаты с парабеллумами в руках. Я вхожу. Коридоры в этот час пустынны. У входа одинокий служитель спит, лежа на диване с деревянной спинкой, резной по краям. Заслышав звук моих шагов по плиточному полу, он просыпается и провожает меня в комнату Гарина.
Линолеум, выбеленные известью стены, большой вентилятор, запах лекарств, особенно эфира. Москитная сетка наполовину приподнята – по-видимому, Гарин лежит на кровати с пологом из тюля. Я сажусь у его изголовья. Плетёное кресло скользит под влажными ладонями. Усталое тело расслабляется; снаружи доносится жужжание неизменных москитов… Пальмовая ветвь спускается с крыши – твёрдый металлический силуэт в тёплой и влажной бесформенности ночи. Запах тления и сладкий аромат садовых цветов поднимаются от земли, проникая вместе с теплым воздухом в комнату. Иногда к ним примешиваются другие запахи: застоявшейся воды, гудрона и железа. Вдали – стук костяшек домино, крики китайцев, автомобильные гудки, петарды. Когда ветер с реки приносит болотные запахи, то в тишине становится слышно однострунную скрипку: какой-нибудь бродячий театр даёт представление, или какой-нибудь ремесленник играет, почти засыпая, в своей лавке, закрытой на ночь деревянными ставнями. Рыжий, дымный свет поднимается за деревьями, как будто там внизу подходит к концу грандиозная ярмарка; это город.
Как только я вхожу, Гарин – влажные волосы закрывают лоб, глаза полузакрыты, лицо осунулось – спрашивает меня:
– Ну что?
– Ничего важного.
Я сообщаю ему некоторые новости и умолкаю. В коридоре и комнате горят лампы, вокруг которых кружатся насекомые, словно эти лампы намерены гореть вечно. Шаги служителя удаляются.
– Может быть, мне уйти?
– Нет, напротив. Я не хочу оставаться в одиночестве. Не хочу больше думать о себе, а когда я болен, то всё время этим занимаюсь…
Голос Гарина, обычно такой ясный, в этот вечер немного дрожит. Кажется, что его сознание с трудом контролирует слова. Усталый голос гармонирует с унылыми лампочками, безмолвием, запахом пота, который временами заглушает запах эфира и аромат цветов из сада, где ходят солдаты, гармонирует со всей атмосферой этой больницы, где живыми кажутся только беспокойные массы насекомых, жужжащих вокруг светильников.
– Странно, после судебного процесса у меня было ощущение – причём очень сильное – бессмысленности всей жизни; мне казалось, что человечество находится во власти абсурда. Сейчас это ощущение возвращается… Что за идиотизм эта болезнь… И однако, мне кажется, что, делая то, что я делаю здесь, я веду борьбу с абсурдом человеческого существования… Абсурд вновь обретает свои права… – Он переворачивается, распространяя вокруг себя едкий запах болезни. – О, это неуловимое единение людей, которое позволяет человеку чувствовать, что есть что-то выше его жизни… Странно, какую силу обретают воспоминания, когда ты болен. Весь день я думал о процессе и спрашивал себя: почему именно после него представление об абсурдности социальной организации стало понемногу расширяться, распространяясь почти на всё человеческое существование?.. Впрочем, я не вижу здесь противоречия… И всё-таки, всё-таки… Сколько людей в эту самую минуту мечтают о победах, хотя два года назад они и не подозревали, что это возможно. Я создал для них надежду. Надежду. Я не сторонник громких фраз, но ведь надежда для людей – это смысл их жизни и смерти… Ну и что?.. Конечно, не стоило столько говорить при таком сильном жаре… Какой идиотизм… Весь день думать о себе… Почему я вспоминаю процесс? Почему? Всё это так далеко! Какой идиотизм этот жар. Но в мыслях ясность.
Служитель только что бесшумно открыл дверь. Гарин ещё раз поворачивается. Запах пота вновь заглушает запах эфира.
– Мне вспоминается необычное шествие в Казани в девятнадцатом, в ночь на Рождество. Там, как всегда, был и Бородин… Что?.. Они сносят всех своих богов и святых к собору. Огромные изображения – как во время карнавала. Вроде русалки с женским телом и хвостом сирены… Двести, триста фигур… Лютер вот также… Музыканты в меховых шубах производят адский шум с помощью всех инструментов, какие удаётся найти. Пылает костёр. Божества на плечах людей обходят площадь кругом, они кажутся чёрными на фоне костра и снега… Победный гвалт! Люди, устав нести своих богов, бросают их в огонь; от сильно взметнувшегося пламени лики их потрескивают, и белый собор выступает из ночи… Что? Революция? Да, вот так в течение семи или восьми часов. Скорей бы рассвет… Тухлятина… Всё видишь ясно… Революцию не бросишь в огонь; всё, что не она, хуже неё. Следует это признать, даже если чувствуешь к ней отвращение… Как и к себе самому. Ни с ней, ни без неё. В лицее я это учил… по-латыни… Всё будет сметено. Что? Может быть, и снег был… Что?
Гарин почти уже бредит. Возбуждённый звучанием собственного голоса, он говорит громче обычного. Голос его разносится по госпиталю, теряясь вдали. Служитель, наклонившись, шепчет мне на ухо:
– Доктор не велел много разговаривать господину комиссару пропаганды…
И громко:
– Господин комиссар, не хотите ли снотворного, чтобы уснуть?
На следующий день
Роберт Норман, американский советник правительства, вчера вечером покинул Кантон. В течение уже нескольких месяцев с ним консультировались, только когда речь шла о незначительных вопросах. Может быть, он счёл – и не без основания, – что его безопасность не гарантируется… Вместо него советником правительства и начальником управления сухопутной армии и авиации был наконец официально назначен Бородин. Отныне только Бородин будет контролировать действия Галлена, командующего штабом в Кантоне, и, таким образом, почти вся армия оказывается в руках Интернационала.