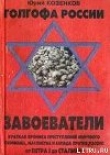Текст книги "Завоеватели"
Автор книги: Андре Мальро
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Он замолкает, взгляд у него растерянный. Затем говорит:
– Но всё это глупо… Мёртвые… Мёртвые в Мюнхене, мёртвые в Одессе… Много других… Всё это глупо…
Он произносит «г-глупо», с отвращением.
– Они похожи на зайцев… как нарисованные. Совсем не странные, нет… Г-глупо… Особенно, когда у них усы. Приходится повторять себе, что это убитые… Никто бы не поверил…
Он вновь замолкает, навалившись на релинги, обмякнув на них. Всё больше москитов и насекомых, кружащихся вокруг затемнённых ламп на палубе. Угадываются невидимые глазу берега реки и тень воды, в которой поблескивают только отражения лампочек, висящих гирляндой на нашем пароходе. Там и сям какие-то тёмные пятна смутно проступают в воде, сливающейся с ночным небом, – возможно, сети рыбаков…
– Клейн…
– Was? Что?
– Почему бы тебе не лечь?
– Слишком устал. Слишком жарко внизу.
Я иду за шезлонгом и ставлю рядом с ним. Не говоря ни слова, он медленно растягивается на нём, склоняет голову на плечо и застывает – либо заснул, либо забылся. Кроме дежурного офицера, часовых-индусов и меня, все уже легли: китайцы за решёткой на своих чемоданах, белые – в шезлонгах или в своих каютах. Когда временами стихает шум машин, слышно только, как храпят спящие и как кашляет какой-то старый китаец: кашляет, кашляет без конца, заходится в кашле, потому что бои повсюду зажгли ароматические палочки, отпугивающие москитов.
* * *
Я ухожу в свою каюту. Чувствую себя как после дурного сна: головная боль, ломота, дрожь… Я умываюсь большим количеством воды (что нелегко, потому что краны совсем крошечные), включаю вентилятор и открываю иллюминатор.
Сажусь на кушетку и от нечего делать достаю из карманов бумаги – одну за другой. Рекламные объявления тропических лекарств, старые письма, голубые листочки, украшенные маленьким трёхцветным флажком – Морская почта… Изучив всё это с дотошностью пьяницы, бросаю через иллюминатор в реку. В другом кармане старые письма от человека, которого они называют Гариным. Я не положил их в чемодан из инстинктивной предосторожности… А это что? Перечень бумаг, переданных мне Менье. Посмотрим. Много чего… Но вот две, которые Менье выделил и в самом перечне: первая – это копия меморандума Интеллидженс Сервис о Чень Дае с примечаниями наших агентов, вторая – меморандум гонконгской Службы безопасности о Гарине.
Закрыв дверь на ключ и на засов, я вынимаю из кармана рубахи толстый конверт, переданный Менье. Бумаги, которые я ищу, – самые последние. Зашифрованы, много текста. На первой странице пометка: передать срочно. Впрочем, шифр тоже приложен.
Я начинаю дешифровать, подгоняемый любопытством и даже некоторой тревогой. Чем стал сегодня человек, бывший много лет моим другом? Я не видел его уже пять лет. За время этого путешествия не было и дня, чтобы мне о нём не напомнили – в прямом разговоре или через радиограммы, упоминавшие его имя… Я представляю его таким, как в Марселе во время нашей последней встречи; но с лицом, в котором соединились все последовательно сменявшие друг друга выражения; большие серые глаза, колючие, почти без ресниц, тонкий нос с лёгкой горбинкой (его мать была еврейка) и особенно отчетливо тонкие, чёткие линии морщин, прорезавшие щеки и опустившие углы губ, как на многих римских скульптурах. Черты острые и характерные, но оживляют это лицо не они, а рот с тонкими губами, которые шевелятся в такт движению тяжеловатых челюстей; энергичный, нервный рот…
В том состоянии усталости, в котором я нахожусь, от фраз, медленно дешифруемых мною, зависят мои воспоминания, шлейфом тянущиеся вслед. Всё произносится вслух. Сегодня ночью я похож на пьяницу, который грезит вслух…
Пьер Гарен, называемый Гарин или Харин, Родился в Женеве, 5 ноября 1892 года, отец – Морис Гарен, подданный Швейцарии, мать – Софья Александровна Мирская, русская.
Он родился в 1894 году [3]3
1892 год и 1894 год – так у автора. – Прим. ред.
[Закрыть]. Сильно ли он постарел?
Активист партии анархистов. Осуждён как соучастник по делу анархистов, в Париже, в 1914 году.
Нет, никогда он не был «активистом партии анархистов». В 1914 году ему было двадцать лет; только что закончив учебу, он всё ещё находился под влиянием своих филологических штудий – от них у него сохранилось только преклонение перед великими личностями ("Ни одна книга не стоит труда быть написанной – кроме «Воспоминаний»). К партиям он был равнодушен, решив, что выберет ту, на которую укажут обстоятельства. Среди анархистов и крайних социалистов – при том, что он знал, как много провокаторов увивается среди первых, – его удерживала надежда, что скоро придёт время мятежей. Я несколько раз слышал, как, вернувшись с какой-нибудь сходки (куда ходил – по простодушию своему – в фуражке на манер Барклая), он говорил с презрительной иронией о людях, с которыми только что расстался и которые воображали себя борцами за счастье человечества. «Эти кретины стремятся обрести истину. В наше время есть только одна истина, которая не превращается в пародию на самое себя, – та, которая умеет навязать себя силой». Эти идеи, носившиеся тогда в воздухе, сильно влияли на его воображение, очарованное Сен-Жюстом.
Многие считали его честолюбивым. Но подлинный честолюбец всегда стремится к каким-то конкретным и достижимым целям, а он тогда был ещё не способен желать каких-то конкретных побед, последовательно их готовить, жертвуя для этого всем; ни ум его, ни душевные качества не были реально вовлечены в то, чем он занимался. Но он чувствовал в себе неискоренимую и глубокую жажду власти. «Вождя создаёт не столько душа, сколько победа», – сказал он мне однажды. И с иронией добавил: «К несчастью!» А спустя несколько дней (он читал тогда «Записки» Наполеона) произнёс: «Что особенно важно – это то, что победы хранят душу вождя. На острове Святой Елены Наполеон дошёл до того, что сказал: „А всё же каким романом была моя жизнь!“ И гений тоже подвержен порче…»
Он знал, что не желает – подобно многим другим – сверкнуть на один миг, опьяняя души подростков. Его призвание было иным – он был готов посвятить ему всю свою жизнь и добровольно пойти навстречу всем опасностям. Он жаждал власти не ради денег или всеобщего поклонения – она была нужна ему сама по себе. Когда он чуть ли не по-ребячески грезил о ней, то ощущал её чисто физически. Это уже не было переживанием «истории» – это было ожидание, напряжение вплоть до судорожного передергивания. Его навязчиво преследовала картина попавшего в капкан зверя, готового к прыжку. И в конечном счёте он пришёл к тому, что стал желать власти как некоего облегчения, освобождения от мук.
Он понимал толк в игре. Как смелый человек, он знал, что любой проигрыш заканчивается самое большее смертью – чего он в силу чрезвычайной своей молодости мог не бояться; что до выигрыша, то тогда он не мог его себе вообразить в какой-то конкретной форме. Мало-помалу смутные подростковые грёзы заменялись твёрдой волей к действию, но она ещё не занимала господствующего положения в этой душе, стремящейся прежде всего к силе – с тем пренебрежением к слабости, которое в двадцать лет появляется только в результате чрезмерного пристрастия к абстрактным рассуждениям.
Однако вскоре ему пришлось самым ощутимым образом столкнуться с грубой реальностью. Однажды утром, в Лозанне, я получил письмо от одного из наших друзей, который сообщал мне, что Пьер оказался замешанным в дело об абортах, а через два дня – письмо от Пьера с некоторыми подробностями.
Мальтузианские идеи были очень популярными в анархистской среде, но поскольку акушерок, делающих аборт по убеждению, было весьма мало, то был достигнут компромисс: они провоцировали выкидыш «во имя идеи», но им за это платили. Пьер много раз – частью по убеждению, частью из тщеславия – выплачивал те суммы, которые бедным женщинам собрать было бы не под силу. У него было некоторое состояние, оставленное матерью, – о чём в полицейском донесении умалчивается. Многие знали, что он не откажет, и к нему обращались довольно часто. Когда несколько акушерок было арестовано по доносу, его привлекли как сообщника.
Первое чувство, которое он испытал, было крайнее изумление. Он знал, конечно, о незаконности своих действий, но судебная процедура по делу такого рода казалась ему столь нелепой, что он растерялся. Впрочем, он и не понимал с полной ясностью, что представляет собой эта процедура. Я тогда часто с ним виделся, поскольку его ещё не брали под стражу. Очные ставки оставили его совершенно безразличным; он ничего не отрицал. Допрос свидетелей вёл бородатый судья, равнодушно, с очевидным желанием сочинить какую-нибудь юридическую басню, – и Пьеру казалось, что он борется с автоматом, обученным вульгарной диалектике.
Однажды он сказал судье в ответ на какой-то вопрос: «Какая разница?» «О, – ответил судья, – это может оказаться немаловажным при вынесении приговора». Эти слова привели Пьера в смятение. До сих пор он не задумывался о том, что может быть осуждён. И хотя в нём было достаточно смелости и презрения к тем, кто собирался его судить, он предпринял все усилия, чтобы за него похлопотали: мысль о том, что его жизнь поставлена на эту грязную, смешную карту, которую он сам не выбирал, была для него невыносимой.
У меня были дела в Лозанне, и я не смог присутствовать на суде.
В течение всего процесса его не покидало ощущение, что он участвует в каком-то нереальном представлении – это был не сон, а некая странная комедия, пакостная и совершенно неправдоподобная. Только в театре, равно как и в суде присяжных, можно получить ясное представление об условности. Председатель суда читал текст присяги голосом усталого школьного учителя, и Пьер был удивлён, какое впечатление это произвело на двенадцать благодушных мелких торговцев – внезапно взволновавшихся, очевидно желающих быть справедливыми, не допустить ошибки и вершить правосудие со всем возможным тщанием. Ни разу не посетила их мысль, что они могут что-либо не понять в том, о чём собирались выносить приговор. Одни свидетели давали показания уверенно, другие проявляли колебания, а председатель опрашивал их, обращаясь с ними как опытный мастер своего дела с новичками, выказывая заметную враждебность по отношению к некоторым свидетелям защиты, – и во всём этом Пьер видел полное несовпадение между обсуждаемым делом и самой церемонией суда. Поначалу он был чрезвычайно заинтересован, его очень увлекли ловкие ходы защиты. Но вскоре всё это ему наскучило, и, слушая ответы последних свидетелей, он думал, улыбаясь самому себе: «Совершенно очевидно, что судить означает не понимать, потому что если понимаешь, то судить уже не можешь». Попытки председателя и генерального прокурора отнести все события к определённым статьям уголовного права и растолковать присяжным суть этого преступления показались ему до такой степени комичными, что он в какой-то момент расхохотался. Но в этом зале юстиция была настолько сильна, так едины в своём чувстве и чиновники, и жандармы, и зрители, что никто даже не выразил возмущения. Пьер перестал улыбаться, ощутив то отвратительное бессилие вкупе с горьким презрением, какое испытываешь в толпе фанатиков, среди массы людей, символизирующих абсурдность человеческих деяний.
Он был раздражён второстепенностью своей роли. Ему казалось, что он статист, обречённый участвовать в этой чрезвычайно лживой психологической драме перед лицом тупой публики; измученный, испытывающий отвращение и потерявший даже желание объясниться с этими людьми, он с нетерпением, но покорно ожидал окончания пьесы, которое освободило бы его от участия в этом спектакле.
И, только возвращаясь в свою одиночную камеру (его взяли под стражу накануне суда), он начинал напряжённо размышлять о ходе процесса. Здесь он понимал, что речь идёт о суде, что на карту поставлена его свобода и что вся эта пустая комедия может приговорить его на неопределённый срок к унизительному и тошнотворному существованию. Он не так уж боялся тюрьмы с тех пор, как узнал, что это такое, но перспектива довольно долгого заключения (хотя он мог надеяться на смягчение своей участи) всё-таки рождала в нём тревогу – тем более тяжкую, чем более он чувствовал своё бессилие.
Осуждён на шесть месяцев тюремного заключения.
Не будем преувеличивать. Я получил от Пьера телеграмму, где он сообщал, что ему заменили срок условным заключением.
Вот письмо, которое он мне прислал:
«Я не считаю общество дурным и требующим улучшения; я считаю его абсурдным. Это совершенно иное дело. И если я сделал всё, что мог, чтобы эти тупицы меня оправдали или хотя бы оставили на свободе, то только потому, что моя судьба – не я сам; а моя судьба, как я её себе представляю, – не допускает тюремного заключения по столь шутовской причине. Общество абсурдно. Я вовсе не хочу сказать – лишено смысла. Меня не интересуют вопросы его преобразования. Меня потрясает не отсутствие в нём справедливости, а нечто более глубокое – то, что я не способен принять ни одну социальную форму, какой бы она ни была. Я асоциален точно так же, как я атеист. Это не имело бы никакого значения, будь я кабинетным мыслителем, но я знаю, что в течение всей своей жизни я буду среди социальной стихии и никогда не смогу с ней примириться, не отказавшись от того, что я есть».
И некоторое время спустя: «Есть страсть, с которой ничто не может сравниться, и для неё безразличны поставленные цели, ей не нужно ничего завоевывать. Эта страсть безнадёжна – она и есть одна из самых мощных опор насилия».
Призван в Иностранный легион французской армии в августе 1914-го, дезертировал в конце 1915-го.
Неверно. Его не призывали в Легион, он записался добровольцем. Ему казалось невозможным быть зрителем в этой войне. Его не интересовали глубинные и далёкие истоки военного конфликта. Когда немецкие войска вошли в Бельгию, он увидел в этом доказательство того, что война имеет смысл; Легион же он избрал только потому, что туда оказалось легко вступить. От войны он ожидал сражений, но обнаружил, что миллионы людей, от которых ничего не зависит, бездействуют среди оглушительного грохота. Он долго вынашивал намерение оставить армию, и оно превратилось в твёрдую решимость в тот день, когда были розданы новые орудия для очистки траншей. Раньше легионеры получали короткие кинжалы, которые всё-таки походили на военное оружие; в этот же день им выдали ножи с рукоятками коричневого цвета, с широким лезвием, которые омерзительно и ужасно напоминали кухонный инвентарь…
Не знаю, как ему удалось бежать из армии и достигнуть Швейцарии; но на этот раз он действовал с величайшей осторожностью, а потому и было объявлено, что он пропал без вести (вот почему я с удивлением смотрю на строки о дезертирстве в английском донесении. Впрочем, сейчас у него уже нет никаких причин делать из этого тайну…).
Растратил своё состояние в различных финансовых спекуляциях.
Он всегда был игроком.
Благодаря знанию иностранных языков становится руководителем издательства пацифистской литературы в Цюрихе. Вступает там в сношения с русскими революционерами.
Сын швейцарца и русской, он знает немецкий, французский, русский и английский, которые выучил в колледже. Он был руководителем не издательства, а секции переводов в фирме, которая в принципе выпускала не только пацифистскую литературу.
Как верно говорится в полицейском донесении, ему представился случай сойтись с молодыми людьми из большевистского кружка. Он быстро понял, что на сей раз имеет дело не с проповедниками, а с практиками революционной борьбы. Войти в кружок было нелегко, и только ещё не изгладившаяся в этой среде память о его процессе помогла ему вступить туда достойно. Но поскольку он не участвовал ни в каких мероприятиях (он не хотел быть в партии, ибо знал, что не сможет подчиняться дисциплине, и не верил, что революция близка), то с членами кружка у него сложились только приятельские отношения. Молодые люди интересовали его больше, нежели вожди, которых он знал только по их речам – речи эти произносились тоном дружеской беседы, в маленьких прокуренных кафе, перед двумя десятками товарищей, уткнувшихся в свои тарелки; только выражение лиц свидетельствовало об их внимании. Ленина он никогда не видел. Большевики привлекали его своей практической хваткой и готовностью к восстанию, однако их начетничество и особенно догматизм его раздражали. По правде говоря, он был из тех, в ком революционный дух рождается только при наступлении революции, из тех, для кого революция есть прежде всего состояние вещей.
Он был ошеломлён, когда началась русская революция. Один за другим его друзья уезжали из Цюриха, обещая, что найдут возможность и для его приезда в Россию. Он полагал, что ему по справедливости необходимо отправиться туда, и каждый раз, провожая кого-либо из уезжающих друзей, он не испытывал зависти, но чувствовал себя так, будто его обокрали.
Он жаждал поехать в Россию с самого начала революции; стал писать письма, но у партийных вождей было много дел поважнее, нежели отвечать на приветы из Швейцарии и призывать к себе дилетантов. Он впал в тихое печальное бешенство, он страдал. Мне он писал: «Знает Господь, сколько я видел людей, охваченных страстью; людей, преклоняющихся перед идеей; людей, столь привязанных к своим детям, своим деньгам, своим любовницам и даже своим надеждам, как можно любить только самого себя; людей, отравленных страстью, преследуемых ею, забывающих всё, защищающих объект своей привязанности или бегущих за ним! Если бы я сказал, что мне нужен миллион, меня приняли бы за человека завистливого; сто миллионов – решили бы, что я строю химеры, но что я сильная личность; когда же я говорю, что готов бросить свою юную жизнь на карту, то у всех такой вид, как будто я никчемный мечтатель. Поверь мне, что в тот единственный день я сыграю так, как может играть в Монте-Карло неудачливый игрок, готовый покончить с собой после проигрыша. Если бы я умел плутовать, то плутовал бы. Быть влюбленным и не замечать, что женщине твои признания безразличны, – это не редкость, в этой области можно ошибаться сколько угодно. Но невозможно ошибиться там, где на карту ставится жизнь. Всем кажется, что это уж слишком просто и что было бы гораздо разумнее заниматься обычными делами, надеяться или мечтать, нежели твёрдо распорядиться своей судьбой… Но я сумею добиться своего – только бы мне удалось получить возможность пробраться туда, возможность, которую я так глупо упустил!»
В конце 1918 года направлен в Кантон Интернационалом.
Идиот. Когда-то, ещё в лицее, он знавал одного из моих товарищей, Ламбера. Тот был гораздо старше нас; его родители, чиновники французской администрации, дружили с моими родителями, торговцами в Хайфоне. Ламбера, как почти всех европейских детей в этом городе, вырастила кантонская кормилица, от которой он, подобно мне, научился кантонскому диалекту. В начале 1914 года он вновь приехал в Тонкин. Очень скоро ему опротивела колониальная жизнь, и он уехал в Китай, где стал одним из сотрудников Сунь Ятсена. Когда была объявлена война, в свой полк он не вернулся. Всё это время они с Пьером оживлённо переписывались, и Ламбер давно обещал ему помочь приехать в Кантон. Пьер, хотя и не очень верил этому обещанию, стал изучать китайские иероглифы, правда, без большой охоты. Однажды, это было в июне 1918 года, он получил письмо от Ламбера: «Дай знать, решился ли ты уехать из Европы. Я могу устроить тебе вызов: восемьсот долларов в месяц». Пьер ответил тут же и в конце ноября, после того как было подписано перемирие, получил ещё одно письмо, в которое был вложен чек на счёт Марсельского банка; денег было немного больше, чем требовалось на оплату дороги.
У меня тогда были кое-какие средства. Я проводил его до Марселя.
Весь день мы бродили по городу. Средиземноморский город, в котором, кажется, можно делать всё, что душе угодно; улицы, освещённые бледным зимним солнцем и усеянные синими пятнами мундиров ещё не демобилизованных солдат… Черты его лица немного изменились: война оставила свой след в особенности на его щеках, похудевших, напряжённых, прорезанных вертикальными морщинками, подчёркивающими жёсткий блеск его серых глаз, изгиб тонкого рта и глубину двух складок, идущих к подбородку.
Мы идём уже долго, разговаривая на ходу. Его обуревает только одно чувство – нетерпение. Он пытается его скрыть, но оно сквозит во всех жестах и невольно прорывается в нервном ритме его слов.
– Понимаешь ли ты теперь, что угрызения совести действительно существуют? – спрашивает он внезапно.
Я в недоумении останавливаюсь.
– Истинные угрызения совести, не такие, как в книгах или театре, стыд за самого себя – того, каким ты был в другую эпоху. Это чувство может появиться только тогда, когда совершишь какой-нибудь значительный поступок – а они не совершаются по воле случая…
– По-разному бывает.
– Нет. Если человек, который завершил уже своё становление, терзается угрызениями, то это означает, что он не сумел воспользоваться опытом…
И тут же, заметив наконец моё удивление, добавил:
– Я это говорю тебе в связи с русскими.
Мы как раз проходим мимо витрины книжного магазина, уставленной произведениями русских романистов.
– В том, что они написали, много трухи, и труха эта образуется из угрызений. У всех этих писателей один недостаток – они никого не убили. Их персонажи страдают, совершив убийство, но мир для них почти не меняется. Подчеркиваю: почти. Я уверен, что в реальности они убедились бы, что мир полностью преображается, что меняются все ориентиры, что из мира человека, «совершившего преступление», он превращается в мир того, кто убил. Я не могу поверить в истинность мира, который не изменяется – или, если хочешь, меняется недостаточно. Для убийцы не существует преступлений, а есть только убийства – конечно, если убийца способен ясно осознавать свои действия. Эта идея с далеко идущими последствиями, если понимать её немного шире…
И после паузы добавил:
– Какое бы отвращение к себе человек ни испытывал, оно никогда не бывает таким сильным, как полагают. Если делаешь великое дело, служишь ему изо всех сил, не можешь думать ни о чём другом, то, может быть…
Но тут он, пожав плечами, обрывает фразу на полуслове.
– Жаль, что ты неверующий, из тебя вышел бы превосходный проповед…
– Нет! Во-первых, меня не унижает то, что я называю подлостью. Она присуща человеку, и я принимаю её, как мороз в зимний день. Не судебное же дело из-за неё заводить. Но я был бы дурным проповедником ещё и по другой причине: я не люблю людей. Не люблю даже бедняков, народ, то есть тех, за кого я еду сражаться…
– Ты отдаёшь им предпочтение, а это почти то же самое.
– Ни в коем случае!
– Что «ни в коем случае»? Что ты отдаёшь им предпочтение или что это то же самое?
– Я отдаю им предпочтение, но по одной-единственной причине – потому что они принадлежат к побеждённым. Да, в целом они сердечнее, человечнее других – всё это добродетели побеждённых… Несомненно только то, что к буржуазии, из которой я происхожу, у меня нет других чувств, кроме ненависти и презрения. Что же до тех, то я знаю, в какую мерзость они обратятся, как только мы одержим нашу общую победу… Нас объединяет наша борьба, вот это совершенно точно…
– Зачем же ты едешь?
Теперь останавливается он:
– Ты, что, стал идиотом?
– Навряд ли, люди бы заметили.
– Я еду потому, что не желаю ещё раз оказаться в дураках на суде, хотя бы в этот раз и по более серьёзному поводу. Моя жизнь меня не интересует – это ясно определено и не нуждается в доказательствах. Я желаю добиться – слушай хорошенько! – власти в какой бы то ни было форме: или я получу её, или тем хуже для меня.
– Тем хуже в случае неудачи?
– В случае неудачи я начну вновь, там ли, в другом ли месте. Если же меня убьют, то вопрос решится сам собой.
Его вещи были подняты на борт. Мы крепко пожали друг другу руки, и он отправился в бар, сел за столик один и стал читать, ничего себе не заказывая. На набережной пели молодые итальянские нищие, и их песни провожали меня, когда я удалялся от парохода, унося с собой запах его свежей краски.
Определён Сунь Ятсеном на должность «юридического советника» с окладом восемьсот долларов в месяц; после нашего отказа оказать техническую помощь кантонскому правительству получил задание реорганизовать и возглавить комиссариат пропаганды (его нынешний пост).
Когда он приехал в Кантон, то узнал – к своему полнейшему удовлетворению, – что ему положили восемьсот мексиканских долларов в месяц. Однако через три месяца он понял, что гражданским и военным чиновникам правительство Сунь Ятсена платит весьма нерегулярно: каждый добывал себе пропитание при помощи взяток или «маленьких хитростей». За семь месяцев Пьер заработал около сотни тысяч золотых франков, предоставляя удостоверения секретных агентов комиссариата пропаганды торговцам опиумом, что спасало их от преследований всех полицейских служб. Теперь он мог не бояться, что будет захвачен врасплох какими-либо затруднениями. Три месяца спустя Ламбер уехал из Кантона, оставив его руководить комиссариатом пропаганды, который был тогда в чрезвычайно жалком состоянии.
Не страшась больше неожиданностей и занимая теперь твёрдые позиции, Пьер решил преобразовать этот опереточный отдел в мощное оружие. Он установил строжайший контроль за доверенными ему денежными средствами и потребовал от сотрудников абсолютной преданности – почти всех ему пришлось заменить. Но, несмотря на обещание Сунь Ятсена, с любопытством следившего за его усилиями, новым сотрудникам не платили зарплату, и в течение многих месяцев Пьеру приходилось каждый день изыскивать деньги для своих агентов. Он включил в комиссариат пропаганды политическую полицию и сумел к тому же установить контроль над службами городской и тайной полиции. Не обращая внимания ни на какие постановления, он обеспечил существование комиссариата пропаганды за счёт нелегальных поборов, которые взимал с торговцев опиумом, содержателей игорных и публичных домов. Вот почему в полицейском донесении сказано:
Личность энергичная, но аморальная.
(Меня умиляет это упоминание о морали.)
Сумел набрать способных сотрудников, причём все они подчиняются Интернационалу.
В реальности дело обстояло сложнее. Он знал, что получает в свои руки орудие, о котором так долго мечтал, и потому сделал всё, чтобы не допустить его уничтожения. Он хорошо знал, что Сунь, несмотря на всё своё доброе расположение, без колебаний отступится от него, если это будет выгодно. Пьер действовал очень целеустремлённо, но стараясь по возможности избегать насилия. Он привлёк к себе гоминьдановскую молодёжь, мало что умеющую, но полную фанатизма, и ему удалось многому их научить при помощи русских сотрудников, которые во всё возрастающем числе стекались к нему из Сибири и Северного Китая, бегством спасаясь от голода. Перед тем как состоялась встреча Сунь Ятсена и Бородина в Шанхае, московское руководство Интернационала обратилось к Пьеру, напомнив ему о встречах в Цюрихе. Пьер был готов к сотрудничеству; он полагал, что только Интернационал обладает достаточными возможностями для создания революционной организации в Кантоне, такой, как он её себе представлял, – чтобы на смену робким поползновениям китайцев пришла твёрдая воля. Поэтому он использовал всё своё небольшое влияние на Сунь Ятсена, чтобы сблизить его с Россией. Естественно, что он стал сотрудничать с Бородиным, когда тот прибыл в Кантон.
По тону писем Пьера в первые месяцы после приезда Бородина я понял, что наконец-то готовится какое-то мощное выступление; затем письма стали приходить реже, а я с удивлением узнал, что «смешное и ничтожное правительство Кантона» вступило в борьбу с англичанами, мечтая восстановить единство Китая.
После того как я разорился, Пьер дал мне возможность приехать в Кантон – подобно Ламберу, сделавшему для него то же самое шесть лет назад. О борьбе Гонконга против Кантона я знал только по радиограммам, приходившим с Дальнего Востока. Первые инструкции я получил на Цейлоне, от уполномоченного гоминьдана в Коломбо, куда заходил наш корабль. Дождь лил так, как льёт только в тропиках; я слушал старого кантонца, а машина, в которой мы сидели, мчалась среди нависающих над нами туч, рассекая мокрые пальмовые листья, бившиеся о затуманенное ветровое стекло. Мне приходилось делать усилие над собой, чтобы поверить в реальность того, что мне рассказывали, – сражений, смертей, страхов… Вернувшись на корабль, сидя в баре и всё ещё удивляясь словам китайца, я решил перечитать письма Пьера. Только теперь мне становилась ясной его роль вождя. И эти письма, которые лежат здесь, развёрнутые, на моей кровати, пробуждают теперь столько воспоминаний – и ясных, и туманных; с ними вместе с неясной тенью моего друга в мою белую каюту вплывает океан, нахлёстываемый косым ливнем и упирающийся в серую линию высоких берегов Цейлона, над которыми зависли неподвижные и почти чёрные облака…
«Ты знаешь, как я хочу, чтобы ты приехал. Но не приезжай, если думаешь найти здесь исполнение тех желаний, которые были у меня, когда мы расставались. Власть, о которой я мечтал и которая у меня теперь есть, достигается только мужицким трудом, непрестанными усилиями, твёрдой волей привлечь к тому, чем мы располагаем, ещё одного недостающего нам человека, ещё одну отсутствующую у нас вещь. Возможно, ты удивишься, что всё это я тебе пишу вот так. Мне не хватало упорства и целеустремлённости, и я обнаружил их у моих соратников, а теперь, думаю, обрёл и сам. Моя власть покоится на том, что я отверг все моральные принципы – но сделал это не ради своих собственных интересов…»
Мы приближаемся к Кантону, и каждый день я вижу, как вывешиваются радиограммы. Они вполне заменяют теперь его письма…
Это полицейское донесение выглядит как-то странно не законченным. Внизу я вижу два больших восклицательных знака синим карандашом. Возможно, это старое донесение? Уточнения на втором листке составлены в совершенно ином духе:
В настоящее время обеспечивает средствами комиссариат пропаганды за счёт налогов на китайские колониальные товары, а также за счёт профсоюзных налогов. Немало способствовал зарождению того неоспоримого энтузиазма, с которым встречается здесь идея вооружённой борьбы с войсками, имеющими нашу поддержку. Когда Бородин потребовал создания профсоюзов (о значении которых говорить считаю излишним) ещё до появления забастовочных пакетов, Гарин, ведя постоянную вербовку при помощи своих агентов, добился того, что они стали обязательными на всех предприятиях. Образовал семь секторов в городской и тайной полиции и столько же – в комиссариате пропаганды. Создал «группу политического образования», которая представляет собой школу ораторов и пропагандистов. Привлёк к Политическому бюро, а тем самым и к Интернационалу, комиссариаты юстиции (о значении которых также излишне говорить) и финансов. Наконец (на чём следует остановиться подробнее), прилагает теперь все усилия, чтобы добиться издания декрета, один лишь проект которого вынудил нас просить вооружённого вмешательства Соединённого Королевства: это декрет, запрещающий входить в порт Кантона любому кораблю, сделавшему остановку в Гонконге. Об этом декрете было хорошо сказано, что он уничтожит Гонконг с той же непреложностью, как раковая опухоль.