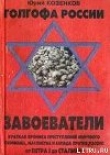Текст книги "Завоеватели"
Автор книги: Андре Мальро
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Промежуточных состояний здесь быть не может: вот почему даже частичное несогласие художника с системой приводит его к отречению.
Отсюда наша главная задача: как помешать психологическим средствам губительным образом воздействовать на человеческий дух? В мире нет больше тоталитарного искусства – если, конечно, оно вообще когда-либо существовало. У христианской церкви нет больше храмов, и она создаёт изображения святой Клотильды; Россия же со своими портретами Сталина скатывается до самого буржуазного из всех буржуазных условных искусств. Я сказал: «…если оно вообще когда-либо существовало», имея в виду, что массы (в этом смысле массами являются и аристократия, и буржуазия) никогда не были привержены искусству как таковому. Я называю художниками тех, кто способен оценить самую суть какого-либо вида искусства; все прочие способны оценить только его эмоциональную сторону. Не существует людей, которые «не разбираются в музыке»: есть те, кто любит Моцарта, и те, кто любит военные марши. Нет людей, «не разбирающихся в живописи»: есть те, кто любит «Мечту» Детая или же нарисованных кошечек в корзинке, и те, кто любит подлинную живопись; нет людей, «не разбирающихся в поэзии»: есть те, кто интересуется Шекспиром, и те, кто предпочитает романсы. Разница между ними состоит в том, что для последних искусство представляет собой средство эмоционального переживания.
Бывали эпохи, когда подобное эмоциональное переживание входило в сферу высокого искусства. Это произошло с готическим искусством. Соединение самых глубоких переживаний – таких, как чувство любви и ощущение бренности человеческого существования, – с чисто пластической силой выражения стало основой для появления гениальных творений, оказывающих воздействие на любого человека. (Нечто подобное встречается у великих романтических индивидуалистов: у Бетховена, в некоторой степени – у Вагнера, безусловно – у Микеланджело, Рембрандта и даже у Виктора Гюго.)
Независимо от того, является ли подобное эмоциональное произведение художественным или нет, оно существует; это не имеет отношения ни к теории, ни к принципам искусства. Итак, главнейшей проблемой для нас (если формулировать её в терминах политики) является следующее: противопоставить ложному воздействию любой тоталитарной культуры истинное творение демократической культуры. Нет нужды насильно приобщать к этому искусству равнодушные к нему массы – речь идёт о том, чтобы открыть доступ к подлинной культуре для тех, кто к этому стремится. Иначе говоря, право на культуру представляет собой просто-напросто желание приобщиться к ней [11]11
Здесь излагалась предложенная нами культурная программа.
[Закрыть].
<…>
Итак, мы исходим не из абсурдного желания создать некую модель культуры, но хотим дать ей возможность сохранить в своих будущих трансформациях то высокое, что она затрагивает в наших душах.
Мы считаем, что высшим назначением художника, принадлежащего к европейской культуре её золотых времён – от создателей Шартрского собора до великих индивидуалистов, от Рембрандта до Виктора Гюго, – должно быть стремление рассматривать культуру и искусство как завоёванную ценность. Уточняя свою мысль, скажу, что гений – это завоеванное право на отличие. Гений – будь то Ренуар или фиванский скульптор – начинается с того момента, когда человек, с детства влюблённый в восхитительные творения, уводящие его от мира, вдруг осознаёт свой разрыв с их формой – либо потому, что эта форма слишком безмятежна, либо потому, что она уж очень тревожна; и именно желание приобщить мир и свои творения к некой таинственной истине, непостижимой без этих творений, – это желание и создаёт гения. Другими словами, не существует гения в подражании, в рабском следовании образцам. И пусть нам не говорят о великих ремесленниках средневековья! Даже в той культуре, где все художники были бы рабами образцов, невозможно сравнивать имитатора с рабом, неспособным открыть новые формы. В любом открытии – будь то искусство или же другая сфера деятельности – есть право подписи для гения, и это право не изменилось в течение пяти известных нам тысячелетий исторического бытия.
Если есть в человечестве некая вечная идея, то это именно идея трагической неуверенности того, кто получит – через много-много веков – название художника, идея трагической неуверенности его перед лицом творения, которое он ощущает глубже, чем кто бы то ни был, которым он восхищается, как никто другой, – но которое именно он в тайниках своего сознания жаждет разрушить.
Но если гений – это открытие, то нам следует понять, что как раз открытием и обусловлено воскрешение прошлого. В начале своей речи я говорил о том, чем могло быть возрождение, чем могло быть культурное наследие. Культура возрождается тогда, когда гении, пытающиеся обрести свою истину, извлекают из глубины веков всё, что некогда походило на эту истину, даже если сами они этого не осознают.
Ренессанс создал античность точно так же, как античность создала Ренессанс. Фовисты столь же обязаны негритянским фетишам, как негритянские фетишы обязаны фовистам. В конечном счёте к истинным наследникам воскресшего за эти пятьдесят лет искусства принадлежит не Америка, переварившая все его шедевры, и не Россия, чьи некогда величественные устремления к истине удовлетворяются теперь дешёвкой её новых икон; наследница – это та самая парижская «формалистическая школа», в громадную семью которой входят мятежники многих веков. Именно наш противник Пикассо мог бы достойно ответить «Правде»: «Я, может быть, и гнилой декадент, как вы утверждаете; но если бы вы сумели вглядеться в мои картины, вместо того чтобы любоваться вашими усатыми иконами, то вы увидели бы, сколь ничтожна ваша псевдоистория перед чередой многих поколений, вы увидели бы, что этой призрачной живописи удается, подобно шумерским статуэткам, возродить забытый язык четырёх тысячелетий…»
Однако завоевание может осуществиться только при условии свободы выбора. Всё, что противостоит стремлению к открытию, если и не относится к сфере смерти, ибо в искусстве смерти нет – да и существовало же египетское искусство! – всё это, во всяком случае, парализует самые плодотворные качества художника. Итак, мы провозглашаем необходимость сохранить свободу выбора, свободу поиска, а также необходимость борьбы с тем, что нацелено на искусственное установление их пределов, и прежде всего необходимость борьбы против методов психологического воздействия, основанных на использовании в политических целях коллективного бессознательного.
Мы предлагаем в качестве основополагающих ценностей не бессознательное, но сознательное; не отказ от действия, а стремление к нему; не промывание мозгов, но истину. (Я знаю, что кто-то из великих некогда сказал: «Что есть истина?» В той области, о которой мы говорим, истина есть то, что поддаётся анализу.) И наконец, свободу совершить открытие. Надо отринуть вопрос: «Какова цель?» – ибо мы ничего об этом не знаем; надо спрашивать: «Исходя из чего?» – как это делается в современной науке. Хотим мы того или не хотим, но «европейцу суждено освещать свой путь при помощи факела, который он сам несёт, даже если тот обжигает ему руку».
Итак, мы хотим, чтобы эти ценности существовали в настоящем. Все реакционные идеи обращены в прошлое – это давно известно; все сталинские идеи основаны на гегельянстве, обращённом в будущее, неподвластное контролю. Мы же нуждаемся прежде всего в том, чтобы обрести настоящее.
То, что мы сейчас защищаем, к концу века будет защищаться всеми великими нациями Запада. Мы хотим, чтобы Франция вновь обрела ту роль, которую она уже играла несколько раз – в романскую и готическую эпоху, равно как и в XIX веке; она была маяком для Европы, являя собой одновременно порыв к дерзновенности и к свободе.
В сфере мысли все вы – почти все – являетесь либералами. Для нас перестал быть гарантией политической свободы и свободы духа политический либерализм, осуждённый на уничтожение с тех пор, как к нему стали приспосабливаться сталинисты; гарантией свободы является система государственной власти, стоящая на службе ВСЕХ граждан.
Когда Франция обретала величие? Когда она не замыкалась на самой себе. Франция универсальна по своей природе. Для мира великая Франция – это уже не Франция соборов или Франция революции, это Франция Людовика XIV. Есть страны – такие, как Великобритания, – величие которых тем больше, чем более они одиноки. В этом, может быть, и заключено их достоинство. Но Франция всегда была тем величественнее, чем больше она обращалась ко всему человечеству. Вот почему её молчание ощущается так остро.
Каким же станет человеческий дух? Так вот, он станет таким, каким вы его сделаете.
(c) Andre Malraux
(c) Перевод с франц. Н.И.Ванниковой и
Е.Д.Мурашкинцевой, 1992