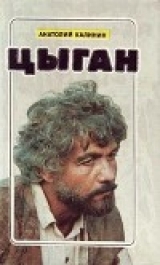
Текст книги "Цыган"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Это они, их мужья, говорил цыганкам Будулай, обленились настолько, что давно уже живут, как байбаки, на содержании у своих жен и детей. Что они ослепли и не хотят видеть, что на попрошайничестве и на воровстве лошадей теперь не проживешь: другое настало время, да и лошадей осталось уже столько, что скоро совсем нечего будет воровать. Разве они не видят, что коня почти совсем уже заменила машина? И раньше цыгане хоть действительно знали толк в лошадях: если были при таборах табуны, так первоклассные, и сами цыгане были наездниками хоть куда, а теперь они дошли до того, что скупают в отстающих колхозах худоконок, подкармливают их и сдают в «Заготскот» на колбасу. Такого позора еще не было. А про цыганского барона кто-нибудь в таборе знает? Нет. И не мудрено, что не знает, потому что все цыгане неграмотные.
И Будулай доставал из кармана газетку, чтобы прочитать притихшему табору при свете костра об этом самом цыганском бароне, у которого отобрали чемоданы с двумя миллионами рублей. Женщины собрали ему эти миллионы по гривеннику, гадая и попрошайничая, а где можно, то и обворовывая людей, чтобы он разъезжал на собственном автомобиле по курортам… Что ж, если хотите и дальше попрошайничать, то покупайте и вашему волоку автомобиль, набивайте ему чемоданы деньгами, он тоже станет бароном, будет разъезжать по большим городам и курортам, а неграмотные дети ваши пусть в это время пляшут перед толпами людей на базарах и поют позорные для цыган песни…
И Будулай повернул дело так, что гроза, которая должна была разразиться над ним, миновала его и разразилась над головами всех остальных мужчин, которые надеялись остаться во всей этой истории в стороне. Никогда еще не было в цыганском роду, чтобы те самые женщины, что испокон были безропотно покорны своим мужьям, что и попрошайничали, и гадали, и учили своих детей воровать только ради того, чтобы их мужья не испытывали недостатка ни в водке, ни в других удовольствиях, те женщины, что всегда соперничали одна с другой: кто больше монет и бумажек принесет своему мужу, а сами довольствовались лишь теми ломтями хлеба и черствыми пирожками, которые подавали им мягкосердечные, глупые люди, – никогда еще не было в таборе, чтобы эти же самые цыганки пошли в такую атаку на своих мужей и, сверкая глазами, бренча монистами и серьгами, скаля зубы, сразу постарались выместить на них все свои давние и совсем свежие обиды.
Долго пылал в этот вечер большой цыганский костер на выгоне за станицей. Долго не умолкал гомон, и люди в станице, просыпаясь в своих постелях, с испугом и удивлением думали, о чем это размитинговались среди своих шатров эти бродяги. Не иначе как замышляют какую-нибудь новую пакость против честных людей.
И люди, вставая с постели, шли проверять запоры, спускать с цепей кобелей. А сторожа на фермах, на птичниках и при табунах спешили перезарядить свои двустволки более крупной дробью. Всю ночь удивлялись и беспокоились люди в станице.
Но еще более удивились они, когда рано утром пришла в их станицу прямо в правление колхоза целая делегация цыган из того самого табора, откуда ночью доносились тревожные звуки, набилась до отказа в кабинет к председателю и совсем ошарашила его, сбила с толку своим заявлением, сделанным от их имени главным цыганом, с грудью, сплошь увешанной боевыми орденами и медалями:
– Принимайте в колхоз. Садимся на землю.
– Весь наш табор еще до Указа о цыганах уговорил жить на одном месте в колхозе, а сам вскоре опять снялся и стал колесить в поисках своего семейства. Пока не пристал к этому берегу, – рассказывая обо всем этом Ване, невесело усмехался Будулай. – Сейчас все цыгане, мои родичи и другие, каждый месяц пишут мне письма, ругаются и зовут к себе. Но куда же мне отсюда ехать? Теперь здесь мой корень…
Только ему, своему единственному слушателю, Будулай и не боялся приоткрыть свое сердце. Ваня умел так хорошо слушать, распахнув черные глаза.
А в последнее время привязанность Будулая к Ване еще больше окрепла. На это была причина. Издавна существует мнение, что цыгане горячий народ и не склонны прощать человеку обиды. Но меньше знают о том, как цыгане умеют ценить малейшее проявление сочувствия и дружбы. Между тем Будулай как-никак оставался сыном своего племени. В хуторе давно заметили, что если с Будулаем поговорить помягче, посердечнее, он, не считаясь ни с временем, ни с усталостью, сделает для человека все, что угодно, окажет ему любую услугу.
Кое-кто этой чертой его характера даже пользовался в своекорыстных целях. Иной шофер, сломав на автомашине рессору в каком-нибудь левом ночном рейсе, не стеснялся среди ночи разбудить Будулая и уговорить его помочь горю, чтобы утром на машине опять можно было выполнять в колхозе обычную работу. И Будулай, ни слова не говоря, вставал с койки и шел раздувать огонь в кузне. В глухую полночь ее двери освещались ярким, пламенем. Наутро бабка Лущилиха осведомляла через заборы соседку справа и соседку слева, что опять этот чертогон посреди ночи служил какой-то молебен в балке.
У Будулая давно было намерение обнести дорогую ему могилу в степи железной оградой, и его растрогало, какое участие в этом принял Ваня. Будулай давно уже и рисунок будущей ограды начертил углем, на большом листе картона, да все никак не мог собраться со временем, чтобы приступить к этой работе. Колхоз загружал его. Ему оставалось только вздыхать, поглядывая на сложенные в углу кузницы остроугольные полосы и круглые прутья заготовленного железа. Успокаивал он себя единственной надеждой, что Тимофей Ильич все-таки сдержит слово и даст ему хотя бы двухнедельный отпуск.
Тимофей Ильич выполнение своего слова откладывал, и Будулай все более мрачно поглядывал в угол кузницы. Эти взгляды и подметил Ваня. Однажды он бесхитростно поинтересовался у Будулая, зачем это железо. Узнав зачем, так и загорелся. Он стал упрашивать Будулая позволить ему попытаться исполнить по рисунку на картоне решетку для ограды. Это будет его первая самостоятельная работа. И Ваня убеждал Будулая так настойчиво, что тот не смог отказать ему в просьбе. Конечно, лучше, если бы кузнец от начала до конца исполнил эту работу своими руками, но ведь и Ваня будет работать под его руководством и по его рисунку.
И невозможно было отказать этим глазам, живым как ртуть, столь же темным, сколь и светлым, то и дело меняющим свое выражение и всегда таким чистым, что казалось, сквозь них можно заглянуть прямо в эту юную душу.
Теперь Ваня стал уходить в кузницу, едва лишь за левобережным лесом солнце начинало показывать свою спину, и возвращался, когда за буграми уже догорал костер заката. Теперь мать и сестренка Нюра почти не видели его.
Чуть поодаль от большой наковальни, на которой работал Будулай, поставили в кузне наковальню поменьше, на которой Ваня стал выполнять первую в жизни большую кузнечную работу. Теперь из дверей кузницы неслись удары двух молотков. А иногда Будулай становился и в подручные к Ване. От сомнений Будулая, что эта работа может оказаться Ване не по плечу, вскоре не осталось и следа. Все чаще Будулай ловил себя на том, что начинает любоваться его работой. Эти семнадцатилетние руки уже научились делать то, что сделает не всякий мастер.
По чертежу Будулая с четырех сторон ограды в решетки должны были быть вделаны откованные из железа кони, и оставалось только подивиться, как Ване удавалось справляться с этим. Из-под его молотка они выходили такими, будто он только с лошадьми и имел дело. Ему даже удалось развеять им гривы так, как это делает ветер, когда лошадь скачет в степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему так ни разу не пришлось поездить верхом на лошади. В их колхозе верховых лошадей не было, все грузы и людей давно уже перевозили на автомашинах.
– А хотелось бы тебе поездить верхом? – поинтересовался Будулай у своего юного друга.
И почему-то порадовался его ответу:
– Еще бы!
– Вот в этом я тебе, пожалуй, ничем помочь не смогу, – грустновато-насмешливо говорил Будулай. – На велосипеде моем езди сколько угодно, а другого транспорта с седлом у меня сейчас нет. Мы, цыгане, теперь народ навсегда спешенный.
– И не жалко вам? – допытывался Ваня.
– Чего, Ваня?
– Вашей прежней жизни. То куда вам вздумалось, туда вы и поехали, а теперь всегда должны жить на одном месте.
Мерно покачивая рычаг кузнечного меха, Будулай отвечал ему с сосредоточенной задумчивостью:
– Как тебе сказать… Конечно, не без того, – чтобы и пожалеть. Даже я, Ваня, и сейчас, как где увижу хорошую лошадь, так во мне кровь и зазвенит. А у других цыган, я знаю, и без горючих слез не обошлось, когда они расставались с лошадьми. Недаром если где вступает цыган в колхоз, то обязательно просится в конюхи или же в степи стеречь лошадей, и в городе он тоже пристраивается куда-нибудь ездовым на повозку. Трудно отвыкать, как-никак наше племя всегда было на колесах. И отцы, и деды, и прадеды кочевали. Об этом в каждой цыганской песне поется. Но надо отвыкать: другое время. У молодых цыган со старыми давно уже из-за этого война шла. Ты вот зимой в школу ходишь, может быть, на агронома или на инженера выучишься, а чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестренка Нюра. Молодые цыгане и цыганки доказывали старым, что давно уже пора нам жить такой же жизнью, как все другие люди: мужчины должны не воровать, а работать, и женщинам надо переставать людей дурить. Ты, Ваня, видел когда-нибудь наших цыганок?
– Толечко один или два раза. Меня мамка, как увидит где цыганку, сразу же запирала в доме.
– Но, может быть, Ваня, ты все-таки успел рассмотреть, что женщины у нас красивые?
С разрумянившимися от смущения скулами Ваня отвечал:
– Это я рассмотрел.
– Вот видишь, такие красивые, хорошие женщины – и такие всегда были обманщицы. Твоя мамка не зря прятала тебя от них. Она боялась, как бы ты по детской глупости не попался на их обман. Конечно, все эти разговоры, что цыганки крадут чужих детей, были выдумкой. Этими сказками бабки сперва своих внучат пугали, а потом и сами стали пугаться. Но вообще-то если цыганка не обманет, то, значит, она и не цыганка. И самое главное, Ваня, что их даже нельзя в этом винить. Они ведь с детства привыкли, что только так и можно жить, как жили их матери и бабки. Они даже не понимали, что можно жить как-то по-другому, и если, Ваня, обманывали людей, то это вовсе не потому, что имели против них зло. Каждое утро они уходили из табора гадать, побираться и воровать, как на работу. А цыганята, Ваня, такие же дети, как ты и Нюра, в это время плясали под бубен и тоже тянули ручонки за подаянием. И попробуй цыганка к вечеру не принеси мужу денег на водку или на табак, он с нее батогом шкуру спустит. Ты никогда не видел, как женщин батогом бьют?
Ваня переспрашивал:
– А что такое батог?
– Вот видишь, ты даже не знаешь, что это большой кнут., А я не раз видел, как этим батогом мой отец мою мать до полусмерти избивал за то, что она возвращалась в табор с малой добычей. И мне, Ваня, этого большого кнута перепадало, хотя мой отец и не самый злой цыган был в таборе. Из-за этого в нашем народе и шла война между молодыми и старыми цыганами. Молодые, особенно те, которые успели в армии послужить, были за то, чтобы бросить кочевать, а старые и слышать об этом не хотели. Все чаще до кровопролития стало доходить, сыновья и отцы между собой дрались. И еще неизвестно, Ваня, сколько бы продолжалась эта война, все-таки старые цыгане во всех таборах еще крепко держали в своих руках власть, неизвестно, сколько бы еще жили цыгане в нужде, во вшах и в грязи, если бы советская власть не сказала им: «Покочевали – и хватит! С этого дня вы больше не бездомные бродяги, а такие же, как и все, люди…» И если, Ваня, тебе кто скажет, что я когда-нибудь брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и посматривает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра нанюхался. Я к этому берегу до конца своей жизни пристал. Здесь родная для меня могила, здесь и мне свой век доживать.
На это Ваня тихо замечал:
– Вы еще не старый.
– Тот человек долго живет, который знает, что ему еще нужно детей на ноги поднять. А мне, Ваня, некого поднимать.
И, умолкая, Будулай начинал громче стучать по наковальне. Все больше сближали его эти разговоры с юным другом, которому можно было открыть душу без боязни, что он обратит откровенность во вред. Все другие люди в хуторе считали Будулая человеком малоразговорчивым, скрытным. Таинственная улыбка пробегала по губам Вани, когда ему приходилось слышать такие речи. Сумели бы они, эти люди, быть такими же откровенными и рассказывать так же интересно, как Будулай! В свою очередь, Будулай часто удивлялся, как это Ване удалось заставить его разоткровенничаться. Может быть, виной этому его взгляд, который всегда так беспокоил Будулая?.. Особенно когда Ваня стоял прямо против него и, о чем-нибудь спрашивая, вдруг в упор взглядывал на Будулая своими глазами, черными и вместе с тем прозрачно-светлыми, как вода в быстротекущей речке.
И как он слушал, страдальчески изламывая брови и тонкие, чуткие ноздри, тогда, когда и у Будулая под влиянием нахлынувших воспоминаний начинало постанывать сердце!
Но больше всего ценил Будулай в своем юном друге, что очень способным оказался он учеником, начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жилы другого только с родной кровью. А когда Ваня взялся делать решетку для ограды вокруг могилы, можно было подумать, он только и ждал этого часа, чтобы окончательно доказать, на что способен.
Как-то Будулай спросил у него:
– А ты не знаешь, Ваня, кто это посадил на могиле за хутором кочетки?
Кованый конь в руке у Вани вздрогнул и сдвинулся со своего изображения на картоне, с которым юноша сверял свою работу.
– Знаю. Только я вам этого не могу сказать.
Будулай удивился:
– Почему?
– Если я скажу, мамка меня заругает.
Молоток остановился в руке у Будулая, а потом он не сразу, нетвердо опустил его на наковальню.
– Ну, если тебе мамка запретила, то ты и не говори.
С горечью задумываясь о причинах столь неприязненного отношения к нему матери Вани, он чуть не пропустил виноватый вопрос юноши:
– А вы ей не скажете?
Будулай не смог удержать невеселой улыбки.
– Как же, Ваня, я ей могу сказать, если мы с ней совсем не разговариваем? Твоя мамка меня почему-то за три версты обходит.
– Вы на нее не обижайтесь. Это ее в детстве напугали.
– Я, Ваня, не обижаюсь. Какое я имею право обижаться на нее?
– Это она кочетки посадила.
Молоток во второй раз застыл в воздухе над плечом Будулая.
– Она?
– Да. Она и могилку два раза в год, перед Маем и Октябрем, ходит убирать.
Молоток и щипцы задрожали в руках у Будулая, он отложил их в сторону. Непонятная тревога заползла ему в грудь.
– А ты не знаешь, Ваня, почему она это делает?
– Ока говорит, что нехорошо одинокую могилу без всякого присмотра оставлять. – И, пугаясь, что в своей откровенности он зашел чересчур далеко, Ваня счел необходимым опять предупредить Будулая: – Только вы, пожалуйста, не проговоритесь ей. Она не хочет, чтобы об этом знали в хуторе. Она говорит, что такими делами нехорошо хвалиться. Не скажете?
– Будь спокоен, Ваня, не скажу.
– Честное комсомольское?
Улыбаясь, Будулай смотрел на него омытыми влагой глазами.
– Что-то, Ваня, я не видел комсомольцев с такой бородой, как у меня.
– Все равно. Я когда мамке рассказываю что-нибудь секретное, она сперва всегда мне комсомольское слово дает.
– Честное комсомольское! – твердо сказал Будулай.
Так вот еще какой могла быть эта женщина, о которой говорили, что у нее невозможный характер. Он и раньше подозревал, что все это не так просто. И Будулай вспоминал то выражение, которое он случайно подсмотрел на лице у Клавдии в лесу. Он не мог тогда обмануться. И своему сыну она вложила такое же сердце.
– Хорошая, Ваня, у тебя мамка! – заканчивая этот разговор, сказал Будулай и в награду получил исполненный признательности взгляд юноши.
Как всегда, Ваня задержался в кузнице и пришел домой, когда мать уже приехала из-за Дона. С некоторых пор, к немалому удивлению Вани, она не только смирилась с тем, что он целые дни проводит в кузнице, но как будто даже заинтересовалась тем, что он там делает. И в этот вечер, собрав ему на столе ужин и с улыбкой наблюдая, как он в третий раз подливает себе половником из кастрюли борщ в тарелку, она спросила:
– Что же ты там делаешь, если тебе одному кастрюли борща мало?
Не женское это было дело – допытываться, чем могут заниматься в кузнице мужчины, и Ваня не очень вежливо ответил:
– Что придется. Одним словом, разное.
Продолжая улыбаться, она окинула его взглядом. Он и в самом деле за последнее время повзрослел, – видно, ему на пользу эта работа. Он раздался в плечах, покрупнел, и под смуглой кожей у него теперь переливались точно такие же змеи мускулов, как у Царькова. Ее сын становился мужчиной.
– Скоро тебе мать совсем не будет нужна, – сказала она с невольной грустью. – Уже сейчас у тебя от нее появились секреты.
Он перестал выбирать из тарелки гущу и поднял на нее смущенный взгляд:
– Мама!
Она засмеялась и, подняв вверх указательный палец, поклялась:
– Честное комсомольское!
Тогда, охватываясь горделивым румянцем, он рассказал ей в этот вечер о своей работе, доверенной ему Будулаем: О железных кованых конях с развевающимися гривами, что с четырех сторон должны будут увенчать решетку ограды. Третьего коня Ваня уже заканчивал, на очереди был четвертый. И потом останется только сделать калитку и еще нечто такое, что Ваня хотел бы сохранить в тайне от Будулая до конца своей работы.
В ответ на молчаливый вопрос матери, взметнувшей брови, он потребовал от нее новой клятвы. Он заметил, что, давая ее, она улыбается какой-то вымученной улыбкой.
Он забеспокоился:
– Что с тобой? Ты не заболела?
– Н-нет… Но мне что-то правда нехорошо. Это я, должно быть, перегрелась сегодня за Доном на солнце.
– А ты, мама, скорей иди ложись. Я у коровы сам почищу и травы ей на ночь брошу.
Ночью ему почудилось, что она плачет, и он, приподняв от подушки голову, окликнул:
– Мама!
Она не отозвалась. Тогда он решил, что ему приснилось. Иногда, бывает, приснится и такой сон, как будто это ты увидел или услышал наяву.
Утром Ваня спросил у Нюры:
– Ты ночью ничего не слышала?
– Нет. Я вчера как пришла с танцплощадки, так сразу и уснула как убитая. А что?
– Нет, ничего, – ответил Ваня.
Вероятно, ему действительно все это почудилось. Все же он пришел к выводу, что мать могла расстроиться, узнав с его слов, как переживает Будулай потерю своей жены, и решил в дальнейшем избегать разговоров с ней на эту тему. Однако, к его удивлению, она сама стала каждый вечер интересоваться, как справляется он с работой, доверенной ему Будулаем, далеко ли еще до конца и удается ли Ване сохранять от Будулая свою тайну. Ей почему-то хотелось знать об этом в мельчайших подробностях: и какой должен быть узор на решетках ограды, и как будет выглядеть калитка, и скоро ли Ваня закончит последнего коня. Волей-неволей Ване приходилось удовлетворять ее любопытство. Он не мог бы сказать, что это было ему неприятно. Ему льстило, что мать воспылала интересом к его работе и разговаривает с ним об этом, как с мужчиной.
Отвечая ей, он говорил, что работа совсем подходит к концу, уже закончен и четвертый конь, осталось лишь сварить калитку. А свою тайну ему пока удавалось от Будулая сохранить, хотя это и нелегко, потому что буквально приходится подстерегать минуты, когда Будулай не бывает в кузне. Да и кузня такая маленькая, что в ней трудно что-либо спрятать.
– Это ты хорошо придумал, – говорила мать, относясь с неподдельным уважением к его тайне.
Кроме того, она спрашивала у Вани, о чем они говорят в кузне, оставаясь долгие дни вдвоем с Будулаем. Не может же быть, чтобы они все время только и говорили о своей работе?! Ваня снисходительно, по-мужски усмехался:
– Конечно, нет.
Рассказывая, Ваня искоса любовался ею, не без сыновней гордости отмечая про себя, какая, значит, у него еще молодая мать, если она с такой жадностью, как девочка, раскрыв большие серые глаза и приподняв брови, слушает все те истории из жизни цыган, что сам Ваня узнал из уст Будулая. Поставит локти на стол и слушает не перебивая. А на другой половине большого обеденного стола точно так же поставила локти Нюра и тоже, распахнув глаза, слушает. Вылитая мать! Ее Ваня тоже заставлял давать комсомольское слово и, зная характер сестры, ничуть не сомневался, что она сдержит его. Она была похожа на мать не только внешне.
Когда же Ваня стал рассказывать, как Будулай, уезжая в армию, прощался в степи с женой, он увидел, как по щекам матери текут слезы. Внезапным движением она притянула Ваню к себе и, крепко обнимая, прижала к своей груди его кудрявую голову. Он не на шутку испугался, услыхав, как гулко колотится у него под ухом ее сердце.
– Мама, вот ты и опять расстроилась! Я не буду больше рассказывать, – с упреком сказал он, заглядывая ей в лицо своими черными прекрасными глазами.
Она наклонилась и стала целовать их короткими, острыми поцелуями. Нюра с неодобрением смотрела на эти нежности матери и сына.
– Нет, нет, рассказывай. А слезы я сейчас вытру. Это я просто вспомнила, как мне самой приходилось расставаться. Много война принесла горя людям. – И, тщательно, насухо вытерев глаза подушечками ладоней, она спросила у Вани с полушутливой улыбкой: – Ну, а про меня у тебя никогда не спрашивал твой Будулай?
– Нет, мама, не спрашивал.
Ее лицо немного потускнело.
– И никогда ничего про меня не говорил?
Ваня со смущением вспомнил:
– Говорил.
– Что?
– Он говорил, что ты, мама, у меня хорошая.
Она недоуменно подняла брови:
– Так и сказал?
– Да. Ты напрасно его боишься. Он совсем не страшный.
– А я его, сыночек, не боюсь. Ты можешь и ему сказать. Откуда ты взял? Если тебе с ним хорошо, то чего ради и я буду его бояться?
После этого она ушла в другую комнату, и вскоре Нюра стала подмигивать брату. Ваня заглянул через ее плечо в соседнюю комнату и увидел, что мать стоит у стены и внимательно рассматривает свое отражение в зеркале. Брови у нее приподняты, и вообще на лице такое выражение, будто она хочет и никак не может понять, почему это она вдруг стала хорошей. До этого ее в хуторе не баловали такими словами.
А утром Ваня опять шел в кузницу, и у него продолжались там свои разговоры с Будулаем. В самом деле, не весь же день они там раздували огонь и стучали по наковальням. Молоток не игрушка, надо и дух перевести. Ваня, конечно, поспешил сообщить Будулаю, что мать теперь уже совсем перестала его бояться.
– Она мне разрешила и вам об этом сказать.
Если бы Ваня был не так молод и простосердечен, он бы заметил, что Будулай не остался к этому известию равнодушен. Он заметно повеселел и захотел узнать от Вани, какими именно словами говорила его мать об этом.
– Да какими?.. Самыми обыкновенными. И еще она давно просила вам передать, что вы очень хорошие сделали на свинарнике дверцы. Теперь хряки их никогда не разобьют. Сразу, говорит, видно, что мастер.
Ему доставляло удовольствие передавать эти слова матери своему другу. Ваня испытывал явное облегчение, что теперь ему не нужно было играть в молчанку и в прятки с этими двумя близкими ему людьми, и тщеславно радовался, что сумел, кажется, перекинуть некое подобие моста между ними. Во всяком случае, если Будулай и Клавдия по-прежнему и не встречались друг с другом, то при посредстве Вани они уже успели узнать друг о друге много такого, чего не знали раньше.
И если Клавдия, расспрашивая по вечерам сына, все больше узнавала о прошлой жизни Будулая среди цыган и его военной фронтовой жизни, то и Будулай немало уже знал о том, как ей пришлось одной жить в военные и первые послевоенные годы с детьми-двойняшками. Как она вынуждена была брать их с собой за Дон, потому что дома их не на кого было оставить, а детские ясли в колхозе тогда еще только строились. Покормит грудью, положит их под большую вербу и потом поглядывает на них между делом. А вокруг бродят по лесу свиньи. Один раз племенной хряк вырвался из загона и чуть было не поднял на клыки Нюру. Женщины отбили.
Будулай, слушая рассказы Вани об этом, мрачнел и надолго замолкал. Он начинал стучать по наковальне с таким ожесточением, будто намеревался вогнать ее в землю.
Между тем Ваня уже сварил и калитку для ограды. Наступил солнечный день середины октября, когда в грузовую автомашину, с шофером которой договорился Будулай, погрузили все, что за это время было сделано в кузнице Ваней, поднялись из хутора в степь и там разгрузились у одинокой могилы на окраине кукурузного поля.
– А это что у тебя в мешке? – с удивлением спросил Будулай.
Ваня молча стал развязывать мешок, брошенный им при погрузке в кузов машины. Теперь он мог открыться. Это был ажурный, с красной звездочкой, шпиль, потихоньку от Будулая сваренный Ваней из железных прутьев.
Будулай растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало у него в ушах, и сумел лишь сказать:
– Звездочки, Ваня, ставят только на могилах героев.
Но Ваня предвидел это возражение:
– Мама сказала, что можно ставить и всем тем, кого убили фашисты.
Против этого Будулай не смог ничего возразить.
Ограду вокруг невысокого холмика земли поставили быстро. Врыли четыре железных столба, связали на них ажурные решетки. Теперь Будулай мог одним взглядом охватить все, что было сделано его юным другом.
И вдруг на какое-то мгновение почудилось Будулаю, что эти вкованные в решетки с четырех сторон железные кони с развевающимися гривами сейчас сорвутся с места и понесут ограду с могилой по осенней степи, как когда-то они носили кибитку с его Галей…
Отпустив Ваню домой, он остался в степи наедине с воспоминаниями о том, что было самым дорогим в его прошедшей жизни. Теперь все это было позади, как и сама его прошлая полудикая жизнь с ее кочующими по степи кибитками, с шатрами и смрадно дымящимися кострами. Может быть, больше всего сегодня могла напомнить ему о ней эта серая лента дороги, что, огибая шелестящее золото кукурузного поля, уходила мимо обнесенной оградой насыпи земли к туманной линии предвечернего горизонта.
Он спустился из степи в хутор уже перед сумерками. Три или четыре человека уступили ему дорогу и проводили его удивленными взглядами, потому что он, кажется, не узнавал никого и, вопреки обыкновению, ни с кем не хотел здороваться. Особенно негодовали женщины, которые за это время уже успели внушить своим мужьям, что во всем хуторе нет другого такого же вежливого, культурного мужчины. Теперь женщинам предстояло подыскивать объяснения в ответ на язвительные вопросы мужей о том, какая это оса укусила сегодня их распрекрасного цыгана. Ни знакомых людей не узнает, ни дороги, как видно, не разбирает перед собой. Иначе он вдруг не свернул бы круто в сторону с улицы, по которой всегда ходил домой, и не пошел бы по-за хутором, прямо по глухому, бурьянистому пустырю, между окраинными домиками и виноградными садами.
Но Будулая меньше всего интересовало сейчас, что могут сказать и подумать о нем люди. И, лишь привлеченный словами долетевшего до него громкого разговора, он поднял голову и огляделся, искренне недоумевая, как он вдруг мог очутиться там, где очутился.
Так это же дом Клавдии Пухляковой! Дом стоял на окраине хутора и смотрел одним своим окном на пустырь и на виноградные сады. И разговор, обративший на себя внимание Будулая, донесся сейчас до него из этого окна, открытого на пустырь и задернутого легкой колеблющейся занавеской.
За тонкой занавеской громко разговаривали, не боясь, что кто-нибудь услышит их на глухом пустыре, два женских голоса. Первый он сразу узнал бы из тысячи других голосов, он мог принадлежать только Клавдии Пухляковой. Второй был постарше и погрубее, он, скорее всего, принадлежал старухе. Ее голос, несомненно, тоже был ему знаком, он лишь не сразу смог сообразить, какой из хуторских старух он принадлежит.
Донесшийся до Будулая разговор оказался настолько интересным, что он невольно замедлил шаги и вскоре остановился.
– Креста на тебе, бабушка, нет, – говорила Клавдия.
На что старушечий голос тотчас же ответил:
– Нет, я крещеная, а вот ты уже лет двадцать дорогу в храм забыла. Ты меня, Клавочка, не совести, я христианскую веру соблюдаю. У нас в доме батюшка каждый год кадилом углы освящает, а вот ты и последнюю иконку в сарай отнесла. Нехорошо, от моих глаз ничего не укроешь. У меня они даром что старые, а я очков не носила и не собираюсь носить.
– Я тебе этим летом уже всех премиальных поросят передала, да двух овечек, да еще валушка. Откуда же мне еще взять? Последнего кабанчика отдать, что ли? – спрашивала Клавдия.
Будулаю показалось, что усталость, сдерживаемый гнев и бессилие – все сразу смешалось в ее голосе. Он почувствовал, как сердце у него заныло. Судя по всему, Клавдия вынуждена была терпеть какую-то обиду, и он не мог, не вправе был прийти ей на помощь.
– А я на него, Клавочка, и не зарюсь. Спаси Христос! Это ты на меня напраслину возводишь.
Будулай уже узнал, чей это голос. Неужели это она, злая и лживая старуха, от которой давно уже отвернулся весь хутор, имеет такую власть над Клавдией и та, вместо того чтобы немедленно указать ей на порог, разговаривает с ней таким смиренным тоном? И это она, Клавдия Пухлякова, «сатана в юбке», как ее называет бухгалтер колхоза! Будулай однажды взял его после таких слов за воротник рубахи и тряс до тех пор пор, пока не услышал от него заверения, что он всего-навсего пошутил и больше никогда не позволит по адресу Клавдии подобных шуток. «Чуть все пуговицы не пообрывал, – ощупывая воротник и горло, сердился бухгалтер. – Нашел за кого заступаться! Что она тебе, жена или невеста?»
Ни невестой не приходилась Будулаю эта женщина, ни тем более женой (жена его вот уже семнадцать лет лежит под холмиком за хутором), но почему-то острой жалостью и еще каким-то другим чувством наполнялось сердце Будулая, когда он слышал сейчас, как она покорно отвечает Лущилихе:
– Ты же знаешь, что у меня у самой двое больших детей.
Старуха немедленно согласилась:
– Еще бы мне не знать!
– Мне их тоже надо накормить.
– Я, Клава, твоим детям не враг. Ты это сама очень хорошо понимаешь, – тут же отпарировала Лущилиха.
– У вас и сейчас два кабана в катухе на откорме. Скоро на ноги не будут вставать. Куда вам еще двух поросят? Опять твоему деду в городе на базаре торговать?







