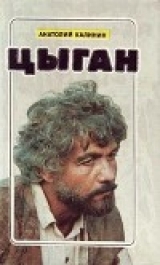
Текст книги "Цыган"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Еще больше встревоженные ее смирением женщины наперебой предупреждали Клавдию:
– Ты получше за своим сыном смотри.
– А то ты не знаешь ее.
– Она никого не пропустит.
Они-то Катьку Аэропорт знали, у них были с нею свои счеты. С тем большим ожесточением поднимались они теперь на защиту совсем еще неискушенного Вани Пухлякова.
– Ты, Клавдия, не скалься, а правда приглядай.
– Видишь, как она своими глазюками заиграла.
– Как где плохой замок, там и она.
Против этого Катька протестовала совсем вяло:
– А вы получше замыкайте.
Чем вызывала подлинный приступ ярости у хуторских женщин. Сломав очередь у водопроводной колонки, у которой они обычно обсуждали свои злободневные дела, и, окружая Катьку, они начинали припоминать ей все, что было и чего не было, не замечая, что вода давно уже впустую хлещет из хоботка чугунной трубы на землю.
Смеясь, Клавдия восстанавливала у колонки порядок:
– Глядите, вся из бассейна уйдет, Тимофей Ильич вам за это спасибо не скажет. – И, подождав, пока они опять выстраивались с ведрами в очередь, заключала: – А мой Ваня уже может и сам за себя постоять.
В глубине души ее материнскому чувству льстило такое отношение к ее сыну. Значит, он того заслуживает, если к его судьбе так неравнодушны. Но Катьку Аэропорт она как-то вдали от посторонних ушей отвела в сторону и коротко поинтересовалась у нее:
– Ты вчера вечером зачем его зазывала к себе?
Катька попробовала было независимо ворохнуть, глазами:
– Я уже давно вышла из тех годов, чтобы каждому отчет давать…
Но Клавдия тут же одернула ее:
– Со мной ты можешь своими изумрудами не играть. На русские слова по-русски отвечай.
– Я его просила электропроводку мне починить, – ответила; Катька.
– А своего сержанта ты не могла об этом попросить?
– Он как раз на дежурстве был, а у меня свет потух.
Катька хотела обойти Клавдию стороной, но та придержала ее за рукав:.
– Гляди, если он еще раз у тебя так потухнет, я к тебе сама приду его засветить. Ты знаешь, я зря говорить не стану.
В этом Катька не сомневалась. Кого-кого из хуторских женщин, только не Клавдию Пухлякову можно было упрекнуть, что она склонна бросать слова на ветер. И поэтому, несмотря на всю свою независимость, Катька Аэропорт предпочла от пререканий с Клавдией воздержаться, пока не отошла от нее на такое расстояние, откуда уже безбоязненно могла прокричать:
– Ты бы ему еще нашейник купила.
Клавдия грозно обернулась к ней:
– Что ты сказала?
Но Катька уже успела отойти от нее еще дальше и могла вполне безнаказанно насладиться своей местью:
– И своего полковника заодно тоже на цепок примкни.
Увидев, как дернувшаяся при этих словах к ней Клавдия остановилась и, отмахнувшись от нее рукой, пошла прочь, Катька Аэропорт захохотала. Безошибочным чутьем она почувствовала, что в последний момент ей каким-то образом удалось вырвать в этом словесном поединке с Клавдией Пухляковой победу.
Уходившая же от нее по улице Клавдия уже ругала себя за то, что затронула ее. Лучше было бы ограничиться разговором с самим Ваней, чем давать Катькиному языку материал на весь год. Во всем хуторе не сыскать было никого другого, кто сумел бы вот так же перетасовать то, что было, с тем, чего не было, и так искусно перемешать все вместе, что потом уже невозможно бывало отличить, где кончаются ее наговоры, а где начинается правда. Как и с тем же полковником, постояльцем Клавдии, которого она вдруг ни с того ни с сего пристегнула к их разговору. Еще не хватало, чтобы какая-нибудь частица ее слов коснулась его ушей, тогда Клавдии хоть сквозь землю провались перед чужим человеком.
И начинать доказывать что-либо ей – все равно что добавлять масла в огонь, потому что она все на свой салтык мерит. Ей и невдомек понять, как это чужой мужчина в доме может быть не больше чем временным квартирантом. Не заворачивать же было обратно от ворот машину, на которой Ваня полковника привез.
Тем более что Клавдия с первых же слов поняла, как он относится к ее сыну. Какой матери было бы не по душе, если б начальник ее сына относился к нему так, что иногда даже незаметно для самого себя начинал называть его не курсантом Пухляковым, а по-домашнему просто Ваней. Хотя, судя по всему, человек он не из слишком мягких. Лишнего слова не скажет, как будто кто его и в самом деле когда-то на замок замкнул. Не тогда ли, когда он, по словам Вани, еще на фронте узнал, что жену его с малым дитем фашисты загубили в Киеве, в каком-то Бабьем Яру. За то, что она еврейкой была.
И когда бывает дома, молча шелестит за дверью своими разостланными на столе военными картами, и когда выйдет во двор покурить на ступеньке крыльца, молча смотрит, как Клавдия управляется по хозяйству. Или спустится с крылечка, отберет у Вани топор и начинает колоть дрова так, что вскоре между лопатками на его военной блузе проступает мокрое пятно. Но снять свою блузу стыдится, должно быть из-за того, что, по рассказам Вани, с войны у него так и остался по всему телу след от ожога после того, как он чуть не сгорел в танке.
Вдвоем с Ваней уже успели нарубить и сложить за летней кухней столько дров, что топить ей теперь на две зимы хватит.
Но Катьке Аэропорт знать об этом, конечно, совсем незачем, иначе она из этих дров сумеет запалить такой костер, что потом на весь район будет видно.
* * *
В степи за Доном, как некогда, то и дело ухало, и, как по листовому железу кто-то пригоршнями рассыпал зерно, между хутором и островом покачивались на волне понтоны. И все это, будившее воспоминания, прокрадывалось в сердце такой тревогой, что однажды у Клавдии, когда после очередного совещания у полковника она проветривала его комнату, выпуская из раскрытых окон клубы табачного дыма, вырвалось:
– Неужели, Андрей Николаевич, еще опять может быть война?
Сворачивающий со стола военные карты Ваня так и вспыхнул:
– Что это тебе, мама, вздумалось спрашивать об этом?!
Но у полковника оказалось на этот счет совсем другое мнение, и, взглянув на Ваню, он сухо выговорил ему, называя его не по имени, как позволял себе, когда в доме не было посторонних:
– А о чем же ей больше у нас спрашивать, курсант Пухляков, если не успела еще у вашей матери зажить память о той войне, как мы опять уже заявились сюда со своими гусеницами и всем прочим? О чем же еще спрашивать ей и тем другим женщинам, которые не только в кино видели войну? – И, поворачивая к Клавдии голову, он совсем другим, подкупающе бережливым тоном признался ей: – Я, Клавдия Петровна, хоть по профессии и военный человек, не знаю, как мне сейчас ответить вам. Но и успокаивать вас, как женщину, пускать дым в глаза не хочу. По моей догадке, пора бы уже людям и поумнеть, но, как видите, я и сам пока на эту свою догадку не очень надеюсь. Не только сам еще продолжаю эти штуки носить, – он скосил глаза себе на погон, – но и вашего сына пытаюсь к этому приучить. Чтобы он, между прочим, и своей матери не так стыдился, когда она, по его мнению, неуместные вопросы начинает задавать. – Он повернул голову к Ване – Еще и как уместные, курсант Пухляков.
И Клавдия не сказала бы, что это его заступничество было неприятно ей, хотя и жаль было Ваню, который все это время, пока полковник выговаривал ему, стоял перед ним, вытянувшись в струнку.
Но тут вдруг полковник, улыбнувшись одними глазами, сказал:
– Вольно, Ваня, вольно.
* * *
Наконец-то у хуторских женщин появилась возможность посмеяться над Клавдией, чего раньше они никогда не могли себе позволить. Теперь же и она оказалась перед ними уязвимой. Еще бы, если ей вдруг вздумалось и встречать и провожать этого купленного за Доном племенного жеребца, когда дед Муравель утром прогонял мимо ее дома свой табун в степь, а вечером возвращался с ним в хутор. И чуть ли не каждый день покупает для этого Грома в сельпо по кило сахара.
Смеялись соседки Клавдии, когда она, едва завидев табун, по-мужски заложив пальцы в рот, подзывала к себе жеребца свистом и начинала угощать его, к неудовольствию деда Муравля.
– Балуй, балуй, – подъезжая к Клавдии на своей смирной гнедой кобылке, говорил старый табунщик, – он и без этого никакой над собой власти не желает признавать. Чисто граф.
– А вы, дедушка Муравель, попробовали бы к нему с лаской, – советовала Клавдия.
– Ну да, а он в этот момент или своими зубищами за плечо тебя тяпнет, или копытой отблагодарит. Может, за все это и мне его начинать с ладошки сахаром кормить?
– И это бы хорошо, – серьезно подхватывала Клавдия. – Вы и сами увидите, что так он быстрее к вам привыкнет. Вы только посмотрите, как он глудочку берет. Ах ты мой ласковый. – И она гладила Грома.
– Тогда ты, Клавдия Петровна, как член правления, поставь, чтобы мне и на всех других лошадей по полтонны сахару отпускали из кладовой на каждый день, – язвительно говорил дед Муравель под смех соседок Клавдии, наблюдающих из-за своих заборов эту сцену. – Чем они хуже твоего Грома?
– Но и не такие, как он… – Своей щекой Клавдия мимолетно прикасалась к морде Грома.
Соседки пуще прежнего смеялись над ней, а старый табунщик ругался:
– Ты эти шутки брось. Этому цыганскому зверю ничего не стоит тебе полголовы отгрызть, а отвечать, как за нарушение безопасной техники, все равно придется мне.
– Ничего, я, дедушка Муравель, как-нибудь сама отвечу. Иди, Громушка, иди, видишь, нам с тобой и посвиданнпчать нельзя. Иди в Дон покупайся, пока еще не захолодала вода: за день она нагрелась и теперь теплая. – И, легонько подталкивая жеребца, она отпускала его от себя.
Но бывало и так, что она вдруг подтыкала подол платья и, не успевал старый табунщик рта открыть, оказывалась на спине у Грома. И тот, как будто того ждал, рысью трогался с места, заезжая с нею впереди табуна в Дон, и там она купала его, полоскаясь вместе с ним в воде прямо в платье. Возвращалась по улице верхом, вся мокрая и веселая, на зависть своим соседкам, которым ничего иного не оставалось, как иронически прохаживаться по ее адресу из-за заборов, потому что сами они на подобные выходки, конечно, были не способны. Это только одна на весь хутор Клавдия Пухлякова и могла позволить себе охлюпкой скакать, как какая-нибудь девчонка, да теперь и не каждую девчонку уже заставишь взобраться да лошадь. Как будто больше не на чем другом в наше время ездить.
Но тут вдруг дед Муравель, замыкавший на своей кобылке искупанный в донской воде табун, начинал во всеуслышание восхищаться Клавдией, а заодно и стыдить зазевавшихся за заборами женщин.
– Видали живую казачку, а?! – победоносно кричал он. – А вас, толстозадых, теперь нужно на лошадь краном подсаживать. Вы теперь только на «Москвичах» да на «Волгах» привыкли. Эх вы, курицы! Курицы вы, а не казачки!!
И под огнем этой уничтожающей критики женщины спешили скорее попрятаться за свои заборы. Но потом, перегруппировав силы и дождавшись подходящего момента, они прибегали к коварному контрманевру.
– Гляди-кось, Клава, как он уже знает тебя, – хвалили они ее, когда дед Муравель опять прогонял свой табун по улице. – Только издаля завидит и уже мчится к тебе, шарит, стервец, по карманам. А вот к дедушке Муравлю никак не хочет привыкать.
Услышав это, старый табунщик коршуном взвивался над своей кобыленкой:
– Ты, Клавдия Пухлякова, своими взятками уже окончательно ему отбила аппетит. Вечером, когда насыплю овса, и не смотрит на него. Я председателю буду жаловаться на тебя.
Клавдия великодушно разрешала:
– Жалуйтесь, дедушка Муравель. А вот за то, что у вас все лошади слепнями побитые и в хвостах у них неизвестно чего больше, волосьев или репьев, вас на правлении могут совсем от табуна отстранить.
Дед Муравель выходил из себя:
– Что я, им буду своими руками репьи выбирать?!
И под его возмущенную ругань женщины опять спешили взять реванш не только за свое недавнее поражение, но и за те прежние годы, когда они без риска для собственной репутации не смели прикоснуться к Клавдии дерзким словом. Катька Аэропорт кричала ей, поднимавшейся от Дона верхом на Громе в мокрой юбке:
– Теперь тебе, Клавдия, осталось только на юбку лампасы нашить.
Клавдия отговаривалась:
– Что же мне делать, если мой родный батюшка всю жизнь в колхозе конюхом был и меня сызмальства этой же болезнью заразил?
Подбочениваясь, Катька Аэропорт начинала притопывать!
Мне бы, молодой, да ворона коня,
Мне бы, молодой, да ворона коня,
Я бы добрая казачка была,
Я бы добрая казачка была.
Клавдия все еще надеялась отшутиться от нее:;
– Мой же Гром не вороной…
Но Катька уже входила в роль:
– Какой же вороной, если он такой же красный, как мой сержант-квартирант. А вот твоего, Клавдия, квартиранта-полковника и масть не разберешь, потому что он кругом лысый. Но зубы у него еще не вставные.
Незаметно понукая Грома ладонью по гладкой, выкупанной шее, Клавдия спешила проехать мимо ее двора.
– Я ему, Катерина, в зубы не заглядывала.
– И зря. Я своему сержанту первым делом заглянула. Смотри не промахнись. Мне недолго от моего квартиранта и к твоему переметнуться.
Женщины покрывали ее слова смехом. Спешиваясь возле своего двора с Грома и на прощание скармливая ему из карманов кофты последние кусочки сахара, Клавдия объясняла ему:
– Ты, пожалуйста, Громушка, слишком не серчай на них, надо же им свою душу хоть чем-нибудь от тяжелой работы отвести. Но и не слушай их, никто нам с тобой не нужен, это ты и сам знаешь.
Но только не так-то и просто было отделаться от Катьки Аэропорт.
– Из-за твоего жеребца, Клавдия, в нашем сельпо скоро с сахаром будет дефицит. По полкило в каждом кармане носишь. Хоть бы одну глудочку для своего полковника приберегла. Чтобы можно было его зубам ревизию навести.
Закатываясь, женщины валились за заборами на грядки.
– Пусть, Громчик, пусть, – говорила Клавдия, вычесывая у него своим гребешком репьи из гривы. – Все равно она не знает и никогда не узнает про то, что знаем мы с тобой.
Грива, струясь между пальцами у Клавдии, потрескивала под ее гребешком, и даже при дневном свете можно было увидеть, как из-под него осыпаются искры. Такие же, как и те, что золотистой пыльцой осыпались из глаз Грома, когда он, прислушиваясь к словам Клавдии, вздрагивал своими чуткими ушами.
Если бы Катька Аэропорт могла слышать, какие еще иногда бывают у Клавдии разговоры с этим Громом, когда где-нибудь в степи, сморенный своей старостью, дед Муравель безмятежно предавался сновидениям в тени, отбрасываемой кустом татарника, в то время как лошади паслись вокруг на отаве!
– Ты не знаешь, Гром, почему это твой бывший хозяин так ничего и не отвечает мне? За это время уже могли бы десять, нет, сто писем туда и обратно сходить и столько же раз он мог бы приехать сюда, если б захотел. Но он, как видно, не хочет или же не может, но тогда бы он тоже должен был вестку подать. Если, конечно, Шелоро не набрехала мне насчет этой Насти, но похоже, что нет. Никакого ей не было расчета мне брехать, хоть и цыганка она. А ты не знаешь, Гром, правду она тогда мне сказала или нет? Ей, понятно, и без всякого расчета, а просто по привычке ничего не стоило сбрехать, потому что она этим живет… И что я ему такого могла сделать, что он не хочет знаться со мной? Или же ему кто чего-нибудь наплел на меня, но что же можно наплести? И не такой он человек, чтобы зря наговорам поверить…
Но тут в ее беседу с Громом внезапно вмешивался голос табунщика, который за это время уже успел передремнуть в тени куста, сколько ему нужно было, и, проснувшись, обняв руками колени, давно уже прислушивался к словам Клавдии, тараща на нее свои заспанные глазки.
– Клавдия, а Клавдия?! – испуганно окликал он.
Рассердившись на нее за то, что она, увлеченная своей задушевной беседой с этим цыганским жеребцом, даже не слышит его слов, табунщик гаркал у нее за спиной во всю мощь своих легочных мехов:
– Клавдия Пухлякова, что с тобой?!
Вздрогнув, Клавдия оборачивалась к нему:
– Ой, дедушка Муравель, не шумите так.
– Как же не шуметь, если я уже битый час тут сижу и слушаю, что ты перед этим жеребцом несешь с Дону и с ветру. Спервак я подумал, что это мне выпал такой сон, но потом вижу, что ты же своими словами и побудила меня. Ох, что-то не нравятся мне, Клавдия Пухлякова, твои разговоры с этим цыганским жеребцом! Так недолго и до чего-нибудь нехорошего дойти.
– Вы, пожалуйста, чуточку потише, дедушка Муравель, – увещевала его Клавдия, оглядываясь, нет ли поблизости, среди шпалер виноградных кустов, кого-нибудь из женщин. – Тут у меня с собой для вас кое-что есть.
– Ну что еще там у тебя может быть, – с неприступностью в голосе говорил старый табунщик, прекрасно зная, что могла иметь в виду Клавдия. Но и не покуражиться при исполнении своих обязанностей он не мог. – Ни, ни!! – обеими руками отмахивался он от бутылки с виноградным вином, которую она извлекала из своей харчевой сумки. – Ты, Клавдия, в своем уме?! Как будто тебе неизвестно, что я на службе совсем его в рот не беру. Ай-я-яй, Клавдия Петровна, а еще член правления, вот я сейчас Тимофею Ильичу шумну, что он тебе за все это может прочесть? – Но тут же, увидев, что Клавдия начинает засовывать бутылку обратно в сумку, он перехватывал ее руку своей – Ладно уж, не обратно же ее тебе с собой домой нести. По такой жаре в твоей сумке оно свободно прокиснуть может. Потому что виноградное вино, как ты сама должна знать, температуры не любит. На кой же ляд оно тогда будет нужно, кто его станет пить?
И с видом человека, единственно озабоченного тем, как бы предотвратить эту беду, он тут же припадал к горлышку бутылки. Запрокинув голову, катая хрящеватым кадыком, за один раз, не отрываясь, опустошал бутылку до дна и обмякшим голосом затевал с Клавдией нравоучительный разговор:
– Мне-то что, мне от этого ни холодно ни жарко. Хочешь, беседуй с этим цыганским жеребцом, а хочешь, хоть целуйся с ним. Меня при моих годах уже трудно чем-нибудь удивить. Мало ли, бывает, на человека какое затемнение может напасть, а ты, если ненароком услыхал, сиди да помалкивай. Но только если кто-нибудь другой, например Катька Аэропорт, захочет прислушаться к твоим речам, она, можешь быть уверена, не станет молчать. Она тут же и постарается до каждого довести, что у Клавдии Пухляковой, члена правления нашего колхоза, не иначе завелась какая-то серьезная болезнь, если она с бессловесным животным по целым дням может беседы вести. И по этой самой причине на предбудущем отчетно-выборном собрании в состав правления ее уже никак нельзя выдвигать. А на свободное место можно выбрать, например, ее же, Катьку…
Выслушав эти предостережения старого табунщика, Клавдия устало улыбалась:
– А может быть, дедушка Муравель, у меня и в самом деле болезнь?
Он не на шутку сердился:
– Так тебе кто-нибудь и поверил. Хочешь, я тебе скажу, чем ты больна?
– Чем же, дедушка Муравель?
– Тебе давно уже замуж надо. Вон ты какая справная баба, – аж шкура трещит. Хватит уже тебе по ночам «похоронной» шуршать. Ну, если за какого-нибудь несамостоятельного или горького пьяницу не хочешь выходить, то хотя бы себе для нужды завела. Детей ты, слава богу, уже на ноги подняла, и теперь никто тебя не имеет права попрекнуть. Если б не мои года, я и сам бы не позволил такому товару пропадать, да что теперь говорить… – И вдруг старый табунщик бесхитростно интересовался – А что, Клавдия, этот твой квартирант, полковник, женатый или холостой?
Терпеливо слушавшая до этого его болтовню, Клавдия грустно качала головой:
– И вы туда же, дедушка Муравель. – Поворачиваясь к Грому, она обхватывала его шею руками, прижимаясь к ней.
– И некому мне, Громушка, на них пожаловаться, кроме тебя. Ты у меня один. Но и ты мне ничего не можешь сказать.
При этой ласке по шкуре Грома пробегала волна, и под щекой у Клавдии стремительно трепетала какая-то жилка.
* * *
– Что-то, мама, ты вчера долго не ложилась спать?..
– Я, Нюра, хотела тебя дождаться с танцев.
– Вот спасибо. И Андрей Николаевич тоже за компанию с тобой меня дожидался на крыльце.
– Нет, он, Нюра, сам по себе. Душно в доме.
– Ну да. А на крылечке так и обвевает ветерком с Дона. Хорошо. И поэтому вы рядышком просидели на одной приступочке до полночи. Каждый сам по себе.
– Ох, Нюра, и язычок у тебя. Почти как у Катьки Аэропорт.
– Не при мачехе росла.
Прежде она никогда бы не позволила себе говорить с матерью в таком тоне, и Клавдия сразу бы указала ей место. Но, должно быть, безвозвратно ушло то время и наступило в их взаимоотношениях другое, когда дочь уже начинает чувствовать себя скорее подружкой своей матери, и между ними становятся возможными такие разговоры, о которых и подумать нельзя было раньше.
Неизмеримо труднее приходилось Клавдии, когда Нюра объединялась против нее с Ваней. Исподволь они начинали плести свой невод, и надо было не прозевать момента, чтобы ненароком не угодить в него.
Обычно поначалу и заподозрить ничего нельзя было, когда Нюра издалека осведомлялась у брата:
– И долго же вы еще тут будете в свои солдатики играть?
– Сколько нужно будет, столько и будем, – в тон ей отвечал Ваня.
Нюра спохватывалась:
– Ах, да, я же забыла, что это военная тайна. Мне бы, глупой, давно пора раз и навсегда это зарубить. Играйте себе на здоровье, мне какое дело. Вот только наша бедная мать из-за этой военной тайны так и не знает, как ей дальше быть.
Еще только смутно улавливая в ее словах какую-то опасность для себя, Клавдия не удерживалась от вопроса:
– А что, Нюра, я, по-твоему, должна была знать?
Она едва успевала заметить, как Ваня при ответе Нюры стремительно отворачивался, прыская в кулак.
– А то, что выписывать в правлении на зиму еще машину дров или нет.
Удивление Клавдии еще больше возрастало:
– Это зачем же?
Она видела, как у Вани трясутся от смеха плечи, когда Нюра начинала серьезно пояснять ей:
– Чтобы Андрей Николаевич и на другую зиму нам их наколол.
– Они с Ваней и так уже успели на две наколоть.
Но теперь уже Ваня, справившись с одолевавшим его смехом, решительным образом опровергал:
– Это ты зря, мама. Я не успею и топором махнуть, как он уже его из моих рук рвет. Все, что сложено за летницей и в сарае, – его работа. Мне чужой славы не надо, я и так проживу.
Клавдия оглядывалась на неплотно прикрытую на другую половину дома дверь.
– Вы бы хоть человека постеснялись.
Нюра вступалась за брата:
– А чего бы нам его стесняться, если он и сам уже не стесняется при тебе по утрам в одних трусах к Дону бегать. Несмотря на свои безобразные шрамы.
Но тут уже Ваня с неподдельным возмущением напускался на сестру:
– Не безобразные, а боевые. Ничего ты, Нюрка, в этом не понимаешь, а тоже берешься рассуждать. Ты бы лучше у матери узнала, что за эти самые шрамы женщины больше всего и любят мужчин. Правда, мама?
Смеясь, Клавдия обеими руками отмахивалась от них.
– Может быть, Ваня, и правда, но об этом тебе надо будет у Катьки Аэропорт спросить. Она в этом не хуже, чем ты в электропроводке, понимает.
Теперь для Вани наступила очередь краснеть под ее взглядом. Он бросался за помощью к сестре:
– При чем здесь, Нюра, какая-то электропроводка? Что то наша мать последнее время совсем… – И он многозначительно вертел пальцем у виска.
Но тут Нюра начинала бурно хохотать, наотрез отказывая ему в своей защите. А Клавдия устало улыбалась, ей уже было жаль Ваню. Но и не было у нее какого-нибудь другого средства, чтобы наверняка отбиться от его атак.
Иногда после таких разговоров ей хотелось сесть между ними, взять каждого за руку и сказать:
– Детушки мои, оказывается, вы не шибко хорошо знаете свою мать. Она ведь у вас не совсем слепая и видит, с какого бока вы подкатываетесь к ней. Вам, конечно, кажется, что это вы ей хотите добра, но это вы хотите спокойствия для себя, чтобы потом радоваться, как с вашей помощью хорошо устроилась мать. Но разве только в таком спокойствии и вся радость? И не его, не этой радости нужно ей. Не нужно бы и вам вмешиваться во все это, потому что у каждого человека может быть в душе такой уголок, куда никому другому заглядывать нельзя. Куда, может быть, ему и самому боязно бывает заглянуть. Вот я как только чуточку позволила тебе, Нюра, туда заглянуть, разоткровенничалась с тобой, и тебе уже показалось, что ты уже знаешь больше самой матери и все можешь за нее сама решить. В то время как она и сама не знает, что ей делать. А тебе, Ваня, не успели еще у тебя только самые первые перышки отрасти, уже тоже возмечталось впереди своей неразумной матери лететь и указывать ей, как ей нужно дальше жить. Нет, не спешите, детушки, ничего за нее решать и не смотрите на нее такими глазами, как будто она вам чего-то должна или же сама не хочет себе счастья…
Вот так бы посадить их обоих с одного и с другого бока от себя и все это высказать им. Но они продолжали смотреть на нее своими хорошими, жалостливыми глазами, и у нее не хватало духу, не поворачивался язык. Тем более что ни за что другое она не могла бы их упрекнуть, вон и другие люди говорят, что ей только радоваться на таких детей.
Но однажды она невольно затаилась у себя в комнате, услыхав, как Ваня, о чем-то по обыкновению секретничавший с Нюрой у нее в каморке, вдруг так и ахнул:
– Да ну-у! – И потом, видимо забывшись, с уверенностью громко заявил: – Это ты совсем, Нюрка, забрехалась.
И обида Нюры на эти его слова тоже, видно, настолько была велика, что она, позабыв об осторожности, возмутилась:
– Если не веришь, то и не спрашивай. Но только так и знай, что об этом с ней бесполезно говорить.
Клавдия слышала, как после этого Ваня стал уговаривать ее:
– Ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Я, конечно, верю каждому твоему слову, но я всегда думал, что знаю нашу мать, и теперь мне просто не верится, чтобы какой-то…
Дальше они опять перешли на шепот, а потом Ваня даже не постеснялся встать и плотно прикрыть дверь в Нюрину каморку. И Нюра даже не попыталась его остановить, хотя до этого никогда не водилось у них в доме, чтобы они закрывались от матери.
Конечно, на то и молодость, чтобы ревниво оберегать от глаз и ушей взрослых свои секреты, и ей, как матери, нравилось, что Нюра с Ваней так доверяются друг другу. Пусть они при этом и покритикуют между собой свою мать, как всегда критикуют своих родителей дети. Но тут ей показалось и что-то другое. Особенно чем-то царапнуло это небрежно недосказанное Ваней «какой-то…», за которым вдруг почудился Клавдии такой смысл, до которого не захотелось и докапываться ей.
Утром по дороге на птичник она спросила у Нюры:
– О чем это, дочушка, вы вчера шептались с Ваней?
Шагавшая рядом с ней Нюра беспечно ответила:
– Мало ли, мама, о чем. Я и не помню уже.
– В другой раз вы еще лучше дверь закрывайте за собой. А то мать нечаянно может подслушать, как вы решаете за нее, как ей нужно дальше жить.
Нюра вспыхнула до корней волос, светло-русых, как ковыль на суглинистом склоне за хутором.
– Ничего мы не решаем, – запротестовала она. – Но и нельзя же тебе, мама, из-за какого-то цыгана так и похоронить себя…
Клавдия быстро переспросила:
– Как ты сказала?
– Ты меня прости, это у меня совсем нечаянно сорвалось. Я, конечно, все понимаю, и он, должно быть, хороший человек, если ты так… – Под пристальным взглядом Клавдии она окончательно смешалась, покраснев так, что лицо ее стало совсем под цвет ее новой розовой кофточки. Но все-таки она выправилась – Если ты считаешь так.
– А ты сама, Нюра, как считаешь?
Нюра тут же заверила ее:
– Так же, как и ты. Тебе виднее. – Клавдия видела, что ей и мать не хотелось обидеть и солгать она не могла. – Но это ведь, мама, было уже совсем давно, и я уже почти ничего не помню. Это Ваня каждый день бегал к нему в кузню, а я и не интересовалась им: цыган и цыган.
– Ты сейчас, Нюра, сказала «какой-то цыган». Раньше я от тебя не слышала таких слов.
– Но ведь он же, мама, так и не захотел ответить на твое письмо.
Против этого Клавдии нечего было возразить. Все это была правда. И если разобраться, как бы ни отбивалась она от всех этих атак собственных детей, где-то в глубине души она вынуждена была согласиться с тем, что по-своему они правы. Нет, не только о своем собственном спокойствии думали они. Выросли ее дети и скоро, конечно, отлетят от нее. А дальше что? За ними она никуда отсюда не поедет. Она всю жизнь здесь прожила и уже не сможет без всего того, к чему привыкла так же, как и к самой себе.
А Нюра, приободренная ее молчанием, уже опять впадала в свой покровительственный тон:
– Ты только не вздыхай. Я же знаю, о чем ты вздыхаешь. Он тебе и на письма не изволит отвечать, а ты тут из-за него должна как в монастыре сидеть. Мы с Ваней уже взрослые, и ты, мама, человек вполне свободный. Теперь двадцатый век.
* * *
Вот и опять он в седле. Конечно, не в цыганском, плоском, и не в казачьем с высокой лукой, которое при необходимости могло и за подушку побыть, но так же поскрипывает оно, и так же неотступно скользит сбоку сгорбленная тень. Иногда же в полудреме может почудиться, что и ноги опять упираются в стремена.
И ничего еще подобного не испытывал он: как будто за этими фронтовыми картами и в самом деле надо было признать власть сразу смахнуть с плеч двадцать лет. Опять вернуть в ту пору, когда все еще было впереди, как и эта серая лента, уползающая под колесо назад. Но, оказывается, есть дороги, увлекающие в одно и то же время и вперед и назад, а вернее, в глубь самого себя. Та пора жизни, когда все, что теперь уже безвозвратно осталось за спиной, еще только начинало брезжить перед взором сквозь утренний молодой туман.
Со своими цыганами за это время он почти не встречался, если не считать тех повозок, встречаемых или обгоняемых им на степных дорогах, которые тотчас же и оставались позади его мотоцикла. Чаще же совсем издали виделись его взору их силуэты, крадучись скользящие в стороне от больших шоссе на серой холстине неба.
Но, признаться, и не искал он этих встреч, совсем наоборот. Не очень-то ему хотелось встречаться с теми из соплеменников, которые с недавних пор опять будто с цепи сорвались. А если и не миновать было их, этих грустных встреч, то, еще издали завидев знакомые телеги с трепещущими над ними под ураганным ветром, испещренными заплатами лантухами, а то и не прикрытые ничем, с ворохами тряпья, в котором копошились детишки, он прибавлял скорость, спеша прошмыгнуть мимо. Пока еще кто-нибудь, чего доброго, не окликнул его. Особенно невыносимым было бы для него теперь встретиться с блестящими глазенками этих одетых в грязные лохмотья несмышленышей, полностью подвластных воле своих отцов, матерей и бабок и не ведающих, какая их в будущем может ожидать участь. Как будто они могли заглянуть этими черными глазенками ему прямо в душу и опять разбередить в ней то, что и без этого непереставаемо тлело там, как жар под пеплом.







