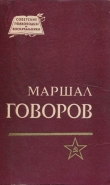Текст книги "Меня убил скотина Пелл"
Автор книги: Анатолий Гладилин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Здесь же заранее было известно (устроителям, во всяком случае), что ни малейшего внимания прессы или публики это сборище не привлечет, все ограничится говорильней в узком кругу, в холле отеля, рассчитанном на тридцать человек максимум. Тогда, спрашивается, при чем тут ССотК? И кого эти ораторы собираются спасать от коммунизма (себя они уже спасли, эмигрировав) – непонятно. Говорову любопытно было бы знать, как объяснял Самсонов доверчивым американцам необходимость сего мероприятия, требующего таких значительных расходов. Однако для Самсонова затея имела другой, и довольно прозрачный, смысл: показать братцам-кроликам (сиречь литераторам), что в эмиграции хозяин тов. Самсонов – почти как тов. Георгий Марков в Союзе писателей СССР. В его руках деньги, он может закатывать балы.
…Говоров не из лихости со свистом крутил виражи. Он опаздывал к самолету. Пока нашел место в паркинге, пока спустился в зал прибытия пассажиров – глядь, вся русская делегация уже на выходе, стоят с женами в стороне, чем-то неуловимо напоминая эвакуированных времен войны. Как Говоров и ожидал, из Америки прилетела не первая сборная. Нет Бродского, нет литературных критиков Вайля и Гениса, нет Довлатова. Правда, есть Аксенов (но это уже стало традицией – или Аксенов, или Бродский! Они не пересекались!). Кстати, где Аксенов?
– Где Аксенов?– спросил Говоров, сделав общий привет публике.
Заметив в его руке ключи от машины, ему радостно заулыбались:
– Андрей, ты приехал за нами? С автобусом?
«Так, значит, обещали автобус, которого, естественно, нет. Как нет и секретарш ССотК, которые, наверно, еще в постели у начальства. А может, вообще все начальство – президент, генеральный секретарь, председатель и директор – не опохмелилось и забыло о самолете из Нью-Йорка? Или увлеклось давним спором – кому отдавать Правобережную Украину?»
Говоров так завелся, ибо увидел генерала Григоренко – бледного, худого, в инвалидном кресле-каталке. Еще два года назад Говоров брал у него интервью по случаю выхода книги воспоминаний генерала во Франции, и тогда Григоренко выглядел вполне боевито. А теперь – полупарализован, сник, отсутствующий взгляд… Зачем старика надо было тащить в Париж? Для галочки в отчете? А если уж пригласили, то неужели ни одна сука из «Вселенной» не могла явиться в аэропорт загодя, оказать хоть генералу уважение?
Делиться своими соображениями с братьями писателями Говоров все же не стал, наоборот, постарался успокоить:
– Сейчас за вами кто-то приедет от Самсонова. Наверно, автобус в пробке застрял. Ждите, не расходитесь. А я смогу взять только Аксеновых.
– Хорошо Аксенову, – услышал Говоров завистливый вздох. Но он уже отходил от группы, разглядев Васю и Майю в другом конце зала.
(Мелькнула, ей-богу, мелькнула мысль: «Почему бы не взять Григоренко с женой? Ведь все поместятся!» Нет, решил Говоров, эту кашу заварил Самсонов, вот он пускай и расхлебывает.)
Несется машина по пустой автостраде в Париж. Куда-то рассосались все пробки. И в машине обычный для друзей веселый треп.
– Не слишком ли гонишь?
– Неправильно цитируешь. У классика так: «Не слишком ли грозен, как я погляжу».
– Майка, они в этом рабочем поселке Парижский жуть как все образованные. Давят нас эрудицией. Ладно, Андрюха, твоя машина – класс, я поверил. Теперь сбавляй газ.
– Вася, я держу сто тридцать, согласно дорожному знаку. Не нарушаю на клумбу. Это ты в своем Новом Свете отвык от скоростей.
– Да, в нашем захудалом Вашингтоне больше девяноста не сделаешь. Глухая провинция, сразу штраф прилепят. Майята, мы с тобой из глухой провинции.
– Это особенно заметно на фоне товарищей из делегации, к которой ты имеешь честь. Пальто на Майке от Кардена?
– В нашем Вашингтоне о Кардене не слыхали. Верно, Майята? Темнота. Разве что негритянка по глупости платье французской фирмы напялит.
– «Вася, Вася, я снялася в платье бело-голубом».
– А как там дальше? Майка, кажется, он забыл слова!
…И так еще километров десять. И вдруг:
– Если я правильно понял, парижские либералы не почтят наш черный шабаш своим присутствием?
– «Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного». Я, Вася, заболею, имею право раз в два года. Но как В. П. общаться с Самсоновым после письма об увольнении?
– Письмо идиотское. Но один входил в запой, другой выходил из запоя. Если бы не раздули эту историю, они бы поладили.
Резко нажал Говоров на тормоз. Воткнулись в конец пробки. Братский привет от тружеников парижского транспорта. Теперь поползем с черепашьей скоростью. Но вот как все представляется из-за океана: один входил в запой, другой выходил! А кто писал донос на Говорова? И Говоров должен все это кушать? Почему же Вася не бежит целоваться с Бродским? Конечно, на расстоянии все кажется несерьезным.
Сменился темп движения, сменилась тема разговора. Раз Аксенов решил оставаться «над схваткой» – пусть. «Нас мало, и нас все меньше. А самое страшное – все мы врозь». В эмиграции – особенно. А то начнешь выяснять отношения, и… некому будет петь песенку «Вася, Вася, я снялася».
* * *
И вот на новой машине (точнее, сравнительно еще новой) помчался Говоров в Германию к Лит Литычу (настоящее имя сообщаем по секрету любопытным – Литератор Литераторович). Мчался Говоров по французским и бельгийским автострадам, бодро насвистывая, только кустики мелькали. А как выехал на немецкий автобан, присмирел, вцепился в руль. Держит Говоров свои классические 140 км в час, а мимо со свистом то и дело проносятся «мерседес», «поршензон» или здоровенная «опелюга» и через минуту скрываются за горизонтом. Вспомнил, как Аксенов просил его сбросить газ. Тут и Говоров в свою очередь почувствовал, что непривычен к здешним скоростям. Сумасшедшие люди резвятся на немецких дорогах!
Но за каким чертом понесло Говорова в чужие земли?
Объясняем. Во время съезда русских писателей в Париже (Говоров все же взял бюллетень и торжества для мировой общественности не освещал) Лит Литыч приехал к нему домой. Договорились, что Лит Литыч будет писать для парижской редакции скрипты. Говоров давал ему карт-бланш: рецензии на книги, комментарий к советской периодике, взгляд и нечто о чем угодно – только пиши, зарабатывай денежку. Пообещал Лит Литыч вкалывать, вернулся в свою немецкую берлогу – и ни гугу. Говоров был знаком с Лит Литычем двадцать лет, отношения между ними менялись, колебались, но в общем оставались на дружеском уровне. Говоров ценил прозу Лит Литыча (хотя тот писал в традиционной манере), однако знал, что Лит Литыч работает крайне медленно. Если Лит Литыч брался за статью, то доводил ее до совершенства… корпя над ней по нескольку месяцев. «На Западе так не живут, на Западе так не работают!» – поучал его Говоров, теребя звонками из Парижа. Лит Литыч клялся, божился, что завтра засядет, непременно, обязательно, а Влада, жена Лит Литыча, горько жаловалась Говорову: мол, нет денег, последние сбережения, доэмиграционные гонорары за книги проедаем.
Созвонился Говоров с Гамбургом: «Не желаете ли интервью с Лит Литычем?» – «Мечтаем!» – «Пошлите меня в командировку». – «Почему тебя? Нам из Гамбурга к Лит Литычу как-то ближе». – «Так ведь он с вами не разговаривает!» – «Сожалеем, но ничего поделать не можем. А отправлять корреспондента из Парижа в Германию слишком накладно, в бухгалтерии не поймут». – «Тогда, – предложил Говоров, – раз Радио так обнищало, я поеду за свой счет». – «Это пожалуйста, – обрадовались в Гамбурге. – Это мы с превеликим удовольствием разрешаем».
…В сумерках свернул Говоров с автобана, сразу повеселел (жив остался), песенку под нос мурлыкает: «Горит свечи огарочек, утих неравный бой…» Почему именно эту, времен сорок пятого года? Да потому, что в ней припев: «В Германии, в Германии, в проклятой стороне». Сидит в Говорове советское воспитание, никуда от него не деться!.. Но главное, повторял себе Говоров, не сорваться, не сказать. Глупо и бессмысленно напоминать Лит Литычу их встречу на аэродроме во Франкфурте!
Короче, нашел Говоров Нижний Городок. Нашел дом, где жил Лит Литыч. И ждал там Говорова накрытый стол (чем богаты, тем и рады), на который водрузил он свой скромный презент из Парижа (макет Эйфелевой башни? Не угадали. Бутылку французского коньяка, разумеется). Поужинали, потрепались вволю. Не сорвалсяГоворов, не сказал. Утром, после чая, включил магнитофон, заставил Лит Литыча работать. Исписали две катушки пленки, полный обзор современного положения в советской литературе сделали. Остался Говоров доволен материалом. Ведь Лит Литыч пером по бумаге медленно скребет, а магнитофона не стесняется, очень логично все излагает.
– Вот, – сказал Говоров, – теперь из Гамбурга тысячу марок как минимум тебе переведут. Согласись, на дороге не валяются.
Согласился Лит Литыч, действительно такие деньги подбирать на улице ему не приходилось.
Потом погуляли втроем по городку. Говоров все хвалил: спокойный, тихий городок, нет парижских пробок, мостовые чистые, не вляпаешься в дерьмо собачье, как в Париже, водка у вас в полтора раза дешевле, чем во Франции. Спрашивается, за что мы, страны-победительницы, кровь проливали? На курорте, ребята, блаженствуете!
Лит Литыч не спорил, посмеивался. Но когда Говоров пригласил ребят в кафе, когда за столик уселись, то беседа потекла по другому руслу, вернее, это был монолог Лит Литыча, сдержанный и меланхоличный, а Говоров лишь свои комментарии вставлял.
– Живем плохо. Как в клетке. Влада по-немецки не желает, в магазинах рукой на продукты показывает, надеется, что продавцы по-русски заговорят. Я пытаюсь выкручиваться своим слабым английским. Если врача надо вызвать, то Копелеву в Кельн звоним, дескать, выручайте, Лев Зиновьевич! Квартиру нам муниципалитет оплачивает. Получаем крохотное пособие из фонда помощи беднякам. Надеемся выиграть суд у Партии «орлов», но с адвокатом очень трудно объясняться.
– Однако деньги на журнал американцы под тебядали? – спросил Говоров.
– Верно. Сколько отвалили Партии «орлов», не знаю, но много. И я поднял журнал и авторам мог платить. Хороший журнальчик получился.
– Вроде эмигрантского «Нового мира», – согласился Говоров.
– Я бы долго продержался, но «орлы» захотели мной руководить. Не сразу, постепенно уздечку натягивали. Свои вонючие партийные статейки мне подсовывали. Своих графоманов рекомендовали печатать. А когда увидели, что журнал ускользает из рук, – меня и уволили.
(Влада добавила сочные характеристики каждому члену политбюро из Партии «орлов». С таким язычком, подумал Говоров, Влада Лит Литычу не помощник. Не масло – бензин в огонь подливала.)
– С американцами ты разговаривал?
– После того что случилось, приезжали ко мне двое. Выслушали. И как в жопу провалились. Растворились в космосе. Пойми, это психология чиновников. Они тридцать лет в Партию «орлов» деньги вкладывали. Если им сейчас признать мою правоту, значит, тридцать лет их деятельности псу под хвост. Кто же на это решится? Они, конечно, приняли сторону «орлов».
– Почему ты с Гамбургом не работаешь?
– В Гамбурге повсюду ставленники «орлов». Партийные директивы выполняют. Своих людей в руководство двигают.
«Взвейтесь соколы орлами, – подумал Говоров. – Лит Литыч заклинился на партии. Бесполезно. Его не переубедить».
– Я одного не понимаю: почему ты пособия по безработице не получаешь?
– Э-э, они так хитро оформили договор со мной, будто я не на работу поступаю, а свой журнал, свое коммерческое предприятие открыл. В этом случае мне никакого пособия не положено. Я в немецком законодательстве не разбираюсь, подписал бумаги, которые мне подсунули.
И тут Говоров сорвался:
– В Германии, где гениальное социальное страхование, ты остался без пособия! Значит, «орлы» заранее рассчитали, что деньги на журнал возьмут, а тебя в шею! С самого начала ловушку тебе подстроили! Но ведь я специально прилетел во Франкфурт, чтобы тебя встретить и еще в аэропорту предупредить. Я же тебе говорил: не связывайся с этим говном!
Сорвался. Вылетело слово. И увидел Говоров, что Влада вот-вот заплачет.
– Да, мы помним. Предупреждал. Но чего ты сейчас от нас хочешь? Чтоб мы повесились?
Заткнулся Говоров. Заказал еще пива.
РОНДО-КАПРИЧЧИОЗО
Примерно за три месяца до ЭТОГО
Боря Савельев передал Говорову пачку советских газет и журналов. Читая по привычке их вечером, Говоров нашел много статей об Андрее Тарковском. Теперь (посмертно) Тарковский был уже лауреат Ленинской премии, гений, светоч отечественной кинематографии. Газеты с горечью (и очень подробно) писали о том, как травили Тарковского на родине.
Говоров завелся. Конечно, сейчас все друзья Тарковского. Но где они были, когда… Говоров вспомнил свою последнюю встречу с Тарковским. Пресс-конференция в Париже. Задают вопросы о новом фильме, о творческих планах. Но Тарковский упорно сводит разговор только к своему сыну. «Ведь я так и умру, не увидев своего сына!» – буквально кричит Тарковский. Потом Говоров подходит к Тарковскому: «Андрей, репортаж о пресс-конференции я пущу сегодня по Радио. И не хочешь ли ты прийти ко мне завтра в бюро, мы засядем в студии и сделаем специальную передачу, посвященную твоему сыну?» «Отличная идея», – моментально соглашается Тарковский. «Помогите мне перевести несколько вопросов», – просит Говорова Николь Занд. Говоров представляет журналистку Тарковскому. «Это газета «Монд», – объясняет Говоров. – Николь Занд самая влиятельная баба во Франции. Все кинорежиссеры и писатели толпятся в очереди у ее кабинета». Но Тарковский слушает Николь Занд с капризной гримасой. Плевать он хотел на влиятельную французскую газету, тем более что Николь Занд опять спрашивает о фильме. А вот интервью для Радио его явно заитересовало. «Сколько ты мне дашь времени?» «Столько, сколько сочтешь нужным, – отвечает Говоров. Однако ты рассказывал, что отказался снимать фильм в Голливуде, хотя там тебе предлагали миллион долларов. Увы, мы тебе сможем заплатить лишь тысячу франков». Тарковский озорно подмигивает: «Тоже на дороге не валяются».
На следующий день они записали часовую передачу. Тарковский перечислял, к кому в Союзе он писал письма и посылал телеграммы. Во все высшие инстанции и персонально: Брежневу, Андропову, Черненко. Не получил ни одного ответа. Влиятельные зарубежные гастролеры от советского кинематографа боятся с ним встречаться. Премьер-министр Швеции, президент Италии, европейские сенаторы, министры, члены парламента лично ходатайствовали перед советским правительством. Глухая стена. Не выпускают сына. «Я для них был крепостной, и мой сын – крепостной. Хозяин – барин. А я ведь умру без сына», – повторял Тарковский.
«Если Тарковскому, с его мировой славой, не удается, на что же мне рассчитывать?» – подумал Говоров об Алене и Лизке.
После записи пили кофе в говоровском кабинете, и Тарковский рассказывал о своем житье-бытье. Квартиры у него нет. Зарубежного подданства нет. Договоров нет. Друзья предоставили временную квартиру во Флоренции. Америка предложила гражданство, но он предпочитает жить в Италии, там привычнее, такой же бардак, как в России. Он готов к тому, что его на улице застрелит мотоциклист, – в Италии такое случается. «Плевать. Не боюсь смерти. Я успел в своей жизни сделать главное».
Через полгода из Вашингтона в панике позвонил Аксенов: «У Тарковского рак. Он в крайне тяжелом состоянии. Свяжись с Мариной Влади, пускай она скажет своему профессору Шварценбергу, чтоб тот положил Тарковского к себе в клинику». С той же печальной новостью звонили из Германии и Швеции: вся надежда на лучшего онколога мира профессора Шварценберга!
Телефон Марины тупо отзывался длинными гудками. Лишь поздно вечером Говоров услышал незнакомый мужской голос: «Марины нет. Что передать?» Говоров от лица всей русской эмиграции изложил просьбу, дескать, пусть Марина похлопочет… «Я профессор Леон Шварценберг, – ответил голос. – Господин Тарковский находится у меня в госпитале. Делаем все возможное».
То, что произошло далее, Говоров так комментировал по Радио: «Неожиданно в госпиталь профессора Шварценберга явились два сотрудника советского посольства: то ли это была добрая инициатива посла Юлия Воронцова, то ли проверка: не симулирует ли Тарковский? Видимо, убедившись, что Тарковский серьезно болен, посольские товарищи предложили ему подписать прошение на высочайшее имя и заверили, что сына выпустят. Обещание свое они сдержали. Сын с бабушкой прилетел в Париж, Андрея Арсеньевича можно поздравить».
По телевидению Говоров наблюдал, как сын Тарковского – юный, худенький, радостно взволнованный – получал премию за отца на кинофестивале в Каннах… На смерть Тарковского Говоров с В. П. сделали большую передачу, а некролог написал Матус, считавшийся на Радио главным специалистом по кино.
После ужина Говоров не отрубился, как обычно, а, ворочаясь в постели, продолжал думать о Тарковском. Не повезло, чуть-чуть не дожил до триумфального возвращения на родину. Или повезло – смерть ускорила официальное признание. Удивительно, как Тарковский предвидел свою судьбу. Или предчувствовал. Ведь в их последнем разговоре Говорова поразило, что Тарковский не строил никаких планов на будущее. «Нельзя так жить на Западе, – талдычил Говоров, – без дома, без постоянной зарплаты, без социального страхования. Ты нашел продюсера для следующего фильма?» Тарковский пожимает плечами. «Зацепись за университет, пока ты на волне, тебя пригласят читать лекции!» Тарковский отмахивается. «Между прочим, недавно мы сидели в кафе с Андроном Кончаловским. Он сказал, что если я тебя встречу, передай – он готов помочь, выбьет для тебя выгодный контракт в Америке». Злая судорога скользнула по лицу Тарковского, ничего не ответил. «Хорошо, я не вмешиваюсь в ваши отношения, я просто помню, что вы когда-то дружили». Он увидел их в фойе Центрального Дома литераторов, молодых, веселых, неразлучная пара. «Ребята, что? Действительно «Андрея Рублева» положили на полку?» – «Знаешь, с чего я начал в Америке? – усмехнулся Кончаловский. – Вставил себе новые зубы. Человек с плохим зубным протезом в Америке не проходит. Я тебе позвоню». Затрезвонил телефон, множество издавна знакомых голосов, перебивая друг друга, обращались к Говорову. Выделялся голос Вики. «У тебя завтра запись», – сказал Говоров и почувствовал в трубке пустоту, голоса удалялись, затихали, впрочем, прорвался какой-то звонкий женский голос, что-то спрашивал, но по-французски и не у Говорова. И вот в трубке глухое молчание, отключили. «Так, наверно, приходит смерть», – подумал Говоров и побежал по лестнице, в приемной поздоровался с секретаршей (секретаршей Бога?), но в кабинете навстречу ему встал не Бог и даже не апостол Петр, распределяющий литфондовские путевки в рай и ад, а маленький старичок, в котором Говоров узнал генерала Гамбьеза. «Мой генерал», – сказал Говоров. Генерал улыбнулся. Что сказал генерал? Провал. Конечная станция Московского метро, его станция. Говоров выходит из метро, в снег и сумерки, и различает во втором доме на улице, его доме, три горящих окна на пятом этаже. Его окнав говоровской московской квартире. Там ждут Говорова его девочки, Наташка и маленькая Алена, а может, Наташка и Лиза, а может, Алена – это Лиза… Привычным движением переложил Говоров из одной руки в другую тяжелую авоську с продуктами и по протоптанной между сугробов дорожке поспешил к освещенным окнам, к своим девочкам, к своему последнему и вечному приюту.
VI
За пять лет до ЭТОГО
Говоров провел в Америке два месяца в командировке, о чем впоследствии написал рассказ. Писал он его долго и трудно, используя для работы уик-энды и дни отпуска. Потом он успел сделать еще кучу статей для Радио, затем (после увольнения) сочинил десятки писем в разные инстанции и учреждения, где надеялся получить хоть что-то. Но к прозе своей, к писательству, он больше не возвращался. Почему? Может, тому причина – депрессивное состояние, из которого Говоров так и не выбрался? А может, он решил, что этот рассказ – последняя точка в его литературном творчестве? Кстати, Говоров даже не пытался опубликовать рукопись, видимо полагая, что в ней много личного, не предназначенного чужому любопытствующему глазу. Значит, и на свободном Западе тоже пишут в стол?
Читатель вообще волен пропустить эту главу, ибо она ничего не дает для развития сюжета. Впрочем, есть ли сюжет в книге? Ведь мы, как в том известном анекдоте про детективный фильм, заранее сообщили: убил шофер! Но нам кажется, что в рассказе раскрываются какие-то новые черты в характере Говорова, и даже авторская выдумка, литературный прием, – в рассказе Говоров не дед и отец Лизы тоже симптоматичен. Рассказ, конечно, автобиографичен, но в нем почти не упоминается жена Говорова Кира и ни слова о сыне Денисе. Странно все-таки. Может, чувство вины перед первой семьей, оставленной в Москве, подспудно давило на Говорова во время всей эмиграции и поэтому фатальный исход в его судьбе был запрограммирован заранее? То есть проблема была не психологическая, а психическая? Не знаем. Мы не специалисты в этом вопросе. Однако старая русская пословица гласит: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Если бы, не дай бог, случилась беда с Денисом или Кирой? Бился бы Говоров головой об стену? Еще как! И ведь по рассказу чувствуется – он доволен своей жизнью. Тогда какого черта рвется Говоров взвалить на себя неподъемную тяжесть и сделать всех счастливыми? Может, сломался Говоров не от реальных ударов, которые на него обрушились, а потому что увидел: не построил он свой мир таким, каким задумал.
Но даже Создатель сотворил наш мир далеким от совершенства… О эта человеческая гордыня! Жить бы Говорову, как все, настоящим, а не прожектами, не мечтать о невозможном, сидеть тихо, не дразнить начальство – глядишь, благополучно дотянул бы до пенсии. Куда, зачем он полез? Тема еще для одной диссертации о загадочной русской душе.
Говоров озаглавил свой рассказ:
ТУМАН В АНН-АРБОРЕ
И иногда себя спрашиваешь: как ты тут оказался и куда тебя несет?
Все логично и продуманно в этом лучшем из миров, все крутятся, и ты крутишься со всеми, однако полагаешь, что по собственной воле и на собственной орбите, но вдруг – крохотная пауза, озарение, как впервые со мной случилось в самолете, летевшем из Магадана в Певек, и вот тогда возник вопрос: и за каким чертом тебя несет на берег Северного Ледовитого океана? Второй раз подобный вопрос я себе задал тоже в самолете, следовавшем рейсом из Алма-Аты в Ташкент. Ну хорошо, как я оказался в Алма-Ате, еще можно было объяснить. Но что я, московский житель, забыл в Ташкенте?
Наверно, в самолете, когда висишь между небом и землей, приходит самое лучшее время для раздумий. Маяковский это состояние обозначил точно – «мелкая философия на глубоких местах». Он плыл на пароходе из Европы в Америку – комфортабельно, но не очень устойчиво: под ногами семь километров океана – и сочинял свою «мелкую философию»: «так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова». Тогда на самолетах еще не путешествовали.
Самолеты стали привычны при жизни моего поколения. Первый раз я летел с отцом из Москвы в Черновицы в 1954 году. В самолете было всего человек девять. При посадке в Киеве самолет вплотную подкатил к маленькому зданию аэровокзала, и навстречу вышел важный швейцар с золотыми галунами. Не помню, была ли красная дорожка, но пассажиров встречали почтительно, как космонавтов.
Лет через десять, пользуясь «крыльями Аэрофлота» в своих многочисленных командировках, я побывал в самых отдаленных точках Советского Союза, на Севере и Востоке, и уже знал, что самолет – это не только рекламная улыбка стюардессы, но и ожидание летной погоды в течение нескольких суток на лавках (или под лавками) аэровокзалов в Хабаровске и Новосибирске, огромных, как массовые захоронения мамонтов, – и тем не менее, загуляв с ребятами в Центральном Доме литераторов, мы после полуночи кидались в такси и мчались во Внуково, где, сидя в ночном буфете – туда еще пускали всех, а не только интуристов, – пили стаканами грузинский коньяк три звездочки, слушали объявления по радио о прибытии (отбытии) рейса из Бухареста или в Томск и вместе с табачным дымом вдыхали полной грудью «романтику трудных дорог».
Теперь сесть в самолет так же просто, как сесть в трамвай. Впрочем, нет, трамвай нынче музейная редкость.
В конце февраля в Нью-Йорке наступила весна. В этот день я ушел из бюро пораньше и прогулялся по аллеям Центрального парка. Пригревало солнце, я распахнул свою дубленку, и меня обогнал спортивной трусцой элегантный паренек в синей шапочке, желтой майке, зеленых трусах, сиреневых носках и красных кедах. Кинув последний взгляд на научно-фантастическую панораму небоскребов пятидесятых улиц, я вернулся в свой отель («Имперский отель», а не какой-нибудь хрен моржовый!), позвонил в свою контору, чтоб они там урегулировали счет за гостиницу, сложил чемодан, спустился вниз и заказал такси. Как заказать по-английски такси – я знал, что мне отвечал портье – ни слова не понял. Однако, как ни странно, такси пришло, – микроавтобус, заехавший потом по дороге еще в два отеля.
Описание нью-йоркской пробки пропускаю.
Когда из Манхэттена мы выбрались в Квинс, стало темнеть.
Самолет поднялся, мелькнули в иллюминаторе сияющие небоскребы и провалились куда-то вбок. Самолет набирал высоту, огни внизу постепенно исчезали, мы уходили в плотную черноту. Через час мы должны были приземлиться в Детройте.
И вот тогда я опять себя спросил: как ты тут оказался и зачем тебя туда несет?
Со стороны, наверно, все выглядело интригующе и даже заманчиво. В аэропорту меня ждала высокая, красивая и молодая американка в шубе из какого-то дорогого зверя. Мы поцеловались и пошли к ее машине. Несмотря на то что руки мои были заняты чемоданами, я старался не горбиться, ступать уверенно – словом, соответствовать ситуации и мировым стандартам: деловой, скажем даже – несколько преуспевающий мужчина в командировке, приятная встреча…
Я надеялся, что по дороге увижу – для коллекции – и небоскребы Детройта или (что там у них есть?) хоть какой-то светящийся силуэт центра, но мы сразу свернули на хайвей и поехали прочь от города. Огни остались в аэропорту. Казалось, хайвей был проложен по черно-серой пустыне, где ничто не растет и не шевелится и лишь на самом шоссе призрачно плавали, нарастали и со свистом проносились мимо фары встречных машин. Потом и они исчезли. Мы уперлись как бы в стену тумана, который, отступая, тормозил ход машины. Мы осторожно пробирались, как самолет через плотную облачность. Мотор ровно урчал, машина подрагивала, мы явно куда-то ехали, но фары нашей машины высвечивали туман, туман и еще раз туман, мы как будто застряли в нем. Мы потеряли где-то реальный мир, мы дрейфовали вне времени и пространства, и я бы не удивился, если бы мы оказались в центре Саргассова моря или, как по мановению волшебной палочки, туман вдруг растворился и перед нами возник бы плакат: «Трудящиеся Тульской области приветствуют дисциплинированных водителей».
Наконец я стал замечать по бокам и чуть выше какие-то мерцающие светлые пятна. Мы совсем сбавили скорость. Пошли повороты, свидетельствующие о том, что мы прибыли в город. Однако опять мерцания по бокам погасли, туман загустел, навалился. И только я подумал, что, видимо, не избежать нам встречи с Саргассовым морем, как машина остановилась.
– Приехали.
Над входом в радужном кругу плавился фонарь, дом нависал черной массой, и, хотя мы были в двух шагах от дома, определить его очертания я не мог.
В этом доме… Стоп. Цитата из Пушкина. У меня уже была цитата из Блока («красивая и молодая»). Боюсь, что с нарастанием в геометрической прогрессии художественной литературы без цитат не обойтись. Ведь в конце концов будут перепробованы все словесные сочетания. Поэтому предлагаю всем писателям честно признаваться в невольном плагиате и брать пример хотя бы с шахматистов. Шахматисты, разбирая свою партию, без тени смущения пишут: «Сначала была разыграна защита Нимцовича (уже цитата), до двенадцатого хода мы повторяли партию Ботвинник – Бронштейн, чемпионат СССР 1952 года (еще одна цитата), потом мой противник выбрал вариант, впервые примененный Спасским против Петросяна в матче на первенство мира», – и т. д. и т. п. Правда, меня могут заподозрить в некотором кокетстве, дескать, вот фрукт, помнит наизусть «Евгения Онегина», – уверяю вас, это не кокетство, а элементарная порядочность. Дело в том, что если наши родители вольно или невольно занимались «всеобщей электрификацией всей страны» (В. Ленин), то на долю моего поколения выпала всеобщая радиофикация. Культуру в приказном порядке спускали в массы. Массы не противились, массы (вопреки мнению злостных антисоветчиков) активно ее принимали. Допустим, если, садясь в поезд, я не успевал резким движением вывести из строя усилитель динамика, то мне в купе были гарантированы до полуночи «где ж вы, где ж вы, очи карие», «не нужен мне берег турецкий», «о баядерка, ты не любишь меня». Радио орало на полную мощь в парикмахерских, на рынках, в мастерских бытового обслуживания, в общих номерах гостиниц, на площадях в районных центрах, в столовых, на улицах во время Первомайской демонстрации и народных гуляний и ежедневно у соседа за стеной. Спасительная пауза наступала разве что, пардон, в уборной, когда дергал за ручку водосливного бачка. Однако когда бачок успокаивался, тебя опять настигала ария Ленского в исполнении Козловского или Лемешева: «В этом доме узнал я впервые радость чистой и светлой любви». Поэтому при такой культурной радиоинтенсификации я просто был обречен запомнить на всю жизнь не только «артиллеристы, Сталин дал приказ», но и всю русскую поэтическую классику, которую доносили до самых низов (включая и сортирных) народные артисты СССР, солисты Большого театра, Государственный хор имени Пятницкого и Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии.
Итак, в этом доме можно было бы безболезненно разместить всю нашу парижскую литературную эмиграцию, причем, скажем, «Вселенная» и «Запятая» могли бы вообще годами не сталкиваться, пользоваться разными выходами, а для Марьи Васильевны был бы гарантирован персональной ход через печную трубу.
Слава богу, до этого пока не дошло.
Для справки: этот дом уже вошел в историю русской литературы. О нем пока еще сочиняют диссертации в американских университетах, а со временем будут защищать диссертации в России, присуждать ученые степени. Этот дом уже в каком-то смысле реликвия. Но мы, суетящиеся современники, не можем жить в историческом музее, нам бытовые удобства подавай – мягкую постель, отдельную ванную, а также чего-нибудь выпить…