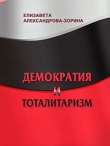Текст книги "Письма туда и обратно"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
«Ночевала».
«Но здесь же одни нары… вот эти!» – вскрикивает Галочка.
Наверно, она в легкой панике. Может быть, прыжком соскакивает с этих самых нар, точно они внезапно ее обожгли. Это что же происходит, граждане! Тоня, ее подруга – не подруга, но все-таки скорей подруга, чем не подруга, которая на ее глазах отваживала пилотов так, что они побыстрей бежали к своим самолетам, заводили их и улетали подальше… Тоня, обрывающая всякие разговоры о мужчинах и, кажется, втайне осуждающая ее, Галочку, за легкомысленную общительность… грубая, некрасивая Тоня, Тоня-мужененавистница, приходит сюда, в зимовье, где только одни нары, и остается ночевать!
«Но вы же не… У вас же не так было, как у нас, нет?» – лепечет потрясенная воспитательница.
А вот на такие вопросы он не отвечает! Есть Тоня, можно спросить у Тони, если уж так интересно. «Залезай обратно, а то замерзнешь».
Нет, подожди! Она так не может, чтобы не разобраться. Она у печки посидит на корточках и покурит. У нее голова кругом идет, заколебал он ее совсем! Тоня и он, да это же… как это? это же нонсенс! Настоящий нонсенс! Она же слова сказать не может, ее подруга – не подруга, и вообще, она на борца-тяжеловеса похожа… и потом, она поклялась, что никогда-никогда, а у нее сила воли о-е-ей! Правильно рассуждаю?
Чернышев смеется. Что он может сказать?
А! – осеняет вдруг Галочку Терехову. Все понятно! Все ясно! Ее подруге – не подруге просто наскучило на фактории, и она решила проветриться, посмотреть на охотничью избушку. А дни-то какие короткие! Не успеет солнце взойти, сразу заходит! Пока она телепала на лыжах сюда, пока то да се, чай да разговоры, наступила ночь. А как ночью возвращаться? Вот и пришлось остаться здесь. А нары вон какие широкие, причем не обязательно ведь спать раздетым, можно и одетым, правильно? Да она, наверно, с него клятву взяла, что он к ней не притронется, а верней всего, положила рядом с собой полено, чтобы, если что, поленом по башке, правильно?
«Правильно, правильно. Залезай сюда».
«Нет, неправильно! – кричит Галочка Терехова. – Все неправильно! Все не так!» Она вспомнила, какое у Тоньки было лицо в аэропорту – странное-престранное! А это значит только одно: она влюбилась в него по уши! Вот теперь правильно! Влюбилась по уши, хотя клялась сто раз, что это ей не грозит. Вот влопалась – надо же! Ну, в общем-то, понятно: он такой красавчик, что даже ее, Галочку, в общем-то, привереду, в общем-то, заколебал! Но черта с два она поверит, хоть режь ее на куски, что Антонина может вот так, в считанные дни, стать кому-то близким человеком. Нет уж! Слабо ей! Она сто раз отмерит, прежде чем отрежет – пуганая потому что. А значит, ничего тут страшного не было и не могло быть! Правильная логика? Ну, скажи – правильная?
«Правильная. Молодец. Идешь или нет?»
«Иду!»
И, может быть, тогда же, в зимовье, но, наверно, все-таки поздней, уже на фактории (я не уточнял), Галочка опять вернется к разговору о Камышан, командировка которой из-за непогоды растянулась на восемь дней. «Все-таки скажи, что у вас было? Нет, не надо, не говори! Мне теперь все равно! Ты теперь мой и ничей больше. Мой, и все тут! Понятно?» – «Понятно. Твой, и все тут». – «Вот именно: мой, и все тут!»
Он лучше всех, кого она встречала, ни в какое сравнение не идет с ее бывшими знакомыми. Во-первых, он умный, да, умный, а те – дурачье, как на подбор; во-вторых, красивый, не то что те обормоты, у которых одни бицепсы; в-третьих, нежный, очень нежный, страшно нежный, как не знаю кто! – и к тому же добрый, непохожий на тех злыдней, начитанный, культурный, веселый, остроумный, не матершинник и вообще ни на кого не похожий! К тому же москвич, а она считает, что москвичи особенные люди, потому что… ну, в общем, потому что москвичи! Логично?
«Еще бы!» – одобряет Чернышев ее логику.
Но он не знает самого главного. Дело в том, Санечка, что она жутко ревнивая. По ней этого не видно, мордашка как мордашка, может, даже чуть-чуть симпатичная, правда? – но ревности у нее даже больше, чем у Нюрки Максимовой, которая из-за своего дурака Лешки готова выселить с фактории всех женщин, даже восьмидесятилетнюю старуху Боягир… Если уж она, Галочка, кого-нибудь полюбила – а это ты, Санечка! – то плохо ему придется, если он посмеет… понятно, да?
«Не пугай. Не ты первая», – смеется, наверно, Чернышев.
«А кто еще?»
«Максимов. Грозился меня убить».
«Он? За что?».
«За то, что поселился в медпункте».
«Вот дурак! Это из-за Тоньки. Он ей прохода не дает, даже жениться предлагал, а со своей развестись. Убить тебя! Я его скорей сама убью!»
«Пожалей. У него ребенок».
Ладно, обещает она, пожалеет, так и быть. Но он сам, Санечка-москвич, пусть намотает себе на ус – или на бородку, такую шелковистую! – что с ней шутить опасно. Если бы он захотел, она бы вышла за него замуж сию секунду, не раздумывая!
«Нам и так хорошо», – банально отвечает Чернышев, слегка обеспокоенный, вероятно, такими таежными страстями-мордастями.
«Знаешь что! Если Тонька в тебя влюбилась, то от нее добра не жди. Отдай ей ключ и скажи спасибо. А сам перебирайся ко мне. Идет?»
«Нет, не идет».
«Почему? Ну почему?»
«Да потому, что беспокоюсь о твоей репутации. Вся фактория заговорит».
«Пусть говорит! Пусть хоть заговорится! Про то, что живешь в медпункте, думаешь, не говорят?»
«Это другое дело. Я больной. Лечусь. Но оттуда я тоже уйду. Переберусь опять к Чирончину, да и на фактории буду бывать реже».
«Как реже? Не вздумай! Я тебя прошу, Санечка! Я без тебя изведусь! Я босиком побегу в тайгу!»
«Ну вот, привет. А что ты будешь делать, когда я вообще уеду? Побежишь босиком в Т.?»
«Нет, прилечу туда на самолете. Мне осталось совсем немного до окончания договора. Прилечу, устроюсь работать. И буду там вместе с тобой. Хочешь?»
«Посмотрим», – неопределенно отвечает Чернышев, не в силах устоять перед таким нажимом.
– Он сказал «посмотрим»! Он не сказал «нет», не сказал «пошла к черту», понимаете? Он мне обещал, что я буду с ним! Потом говорил, что вместе поедем в Москву летом! Сам говорил, я у него не выпрашивала, понимаете? – прокричит мне Терехова в одну из наших встреч. А я буду сидеть и записывать ее слова – не все, конечно, так, конспект, из которого, как видишь, Наташа, можно восстановить последовательность событий.
А затем из командировки возвращается Камышан. Она расскажет мне потом, что извелась в Т. Семинар медработников «среднего звена» отнял всего два дня. Потом было затяжное, мучительное ожидание в Доме приезжих и аэропорту. «Никогда домой так не тянуло», – скажет она, назвав домом нелюбимую факторию и служебное помещение, где живет. Но прилетела все-таки, опустилась на засыпанную снегом галечную отмель, услышала знакомый лай собак, хорканье оленей и сразу увидела, что среди встречающих Чернышева нет. Зато Егор Чирончин, разумеется, тут как тут, деятельный, расторопный, улыбающийся в предвкушении тех специфических гостинцев, которые его земляки неизменно привозят из неохваченного сухим законом окружного центра. Его отвела в сторону Камышан и спросила: «Где Саша?» – и заведующий Красным Чумом, шмыгая носом, отвечал, что Санька теперь, ешкин-мошкин, в интернате пропадает, букварь изучает!
Здесь же у самолета принимает невеликий почтовый груз Люба Слинкина, закутанная в теплую шаль так, что только узкое бледное лицо с замерзшим носиком выглядывает на волю. Камышан помогает ей поднести пачки многодневных газет и журналов, и пока они поднимаются от реки на высокий берег, узнает, что Чернышев недавно был на фактории, рацию ей опять починил, окна заклеил, где дуло, и журнал дежурств помог правильно оформить… «Шефство надо мной взял», – улыбается Люба, повторяя, видимо, слова Чернышева, но Камышан не до ее благодарных чувств, она спешит в медпункт. Он закрыт. Ключ лежит на верхней притолоке. В доме на столе записка: «Я в зимовье. Привет. С.». Печь холодная, давно не топленная, комнаты выстуженные. По многим приметам – невыгребенная зола в печке, пятно от пролитого чая на клеенке, больничные тапочки, брошенные как попало, небрежно накинутое покрывало на кровати, смятая подушка, пепельница на стуле у изголовья и журнал «Иностранная литература» – она определяет, что Саша ночевал здесь. Он спал в ее кровати, Саша, и, конечно, не мог не вспомнить ее в эти часы.
Однако что означают слова этого болтуна-сплетника Чирончина? Почему не прибежала, как обычно, встречать самолет ее подружка Терехова? Занята детьми? Больна?
Нет, Галочка Терехова не занята своими подопечными – они бесчинствуют после уроков в спальнях, и Галочка не больна – наоборот, посвежела и посветлела лицом. Она сидит на кухне и оживленно болтает с толстой поварихой, эвенкой Верой. «Ох, Тоня! Откуда ты? Что, разве самолет был? Я же тебе говорила, Вера, что что-то гудело! Здравствуй. С приездом! Ну как съездила?» – «Плохо». – «Плохо? Почему?» – «Потому что заждалась, вот почему. Всю душу вымотала». – «Ну и глупо! Я бы в окружном центре всю жизнь жила!» – «То ты, а то я. Есть разница».
Ты ждешь, наверно, Наташа, что сейчас произойдет бурное объяснение? Ничего подобного. Камышан и Тереховой понадобится еще больше месяца, чтобы воспитательница сказала медичке: «Ненавижу тебя» – а та ответила: «Убирайся, не то плохо будет!» А пока лишь неприязненная, сдержанная беседа в комнате Галочки.
«Это Саша угостил тебя „Стюардессой?“»
«Ага, он. Но не Саша, а Саня. Санечка. Я его так зову».
«Познакомились, значит?»
«Угу. А как же! Кто такого пропустит! А что? Нельзя?»
«Твое дело. Он давно ушел в тайгу?»
«Два дня назад. А что?»
«Да не штокай ты. Как он, не обморозился? Холода ужасные».
«Холода ужасные, ага. Санечка не обморозился. А ты хочешь, чтобы он в медпункте лежал?»
«И ты ляжешь, если с тобой что случится. Вот крем привезла. Польский. Возьмешь?»
«Ой, какой! Еще бы! Сколько стоит?»
«Спасибо стоит».
«Спасибо».
«Ладно, я пошла. Устала. Дом не топлен».
И все. Пока все. Странно, правда? Почему, например, Галочка Терехова не выполняет своего намерения поговорить с «подругой – не подругой» по душам, тем более, что Чернышев предоставил ей в этом смысле полную свободу? Почему Камышан, чьи мысли о Чернышеве стали наваждением и постоянной внутренней радостью, не спросит свою подружку со свойственной ей грубой прямотой: «Честно скажи, что между вами?» Почему?
– Я не верила, что он мог быть с ней, – скажет мне Терехова.
– Он был со мной. Я только это хотела знать, – объяснит Антонина Камышан.
В ночь после прилета Чернышев действительно с ней. Он приходит на факторию уже в темноте, весь заиндевелый, с оледеневшим лицом, и правит лыжи, наверно, на заманчивый огонек в угловом окне школы-интерната, но свет в медпункте заставляет его изменить направление. С грохотом, топоча подошвами застылых унтов, вваливается он в прихожую. «Огня! Во имя человеколюбия! Комнату и огня!» – кричит он, возможно, словами человека-невидимки Уэллса, появившегося в трактире местечка Айпинг. (Начитанный же малый!). Представляю, как встречает его Камышан. В ее отношении к нему в эти минуты должно появиться что-то неуловимо материнское, что-то такое чуткое и заботливое, что не всегда получают блудные сыновья. Он разут, раздет, обогрет, накормлен, напоен горячим чаем – все это быстро, споро и, может, даже молчаливо, потому что слова, ты знаешь, приберегаются на то время, когда ничто суетное не стоит между двумя. Но пришелец страшно устал. Тридцать километров по тайге и реке за световой день, глаза слипаются, губы не шевелятся – что ж, спи, Саша, спи. Мешать не буду.
Но она-то не спит! Она может прикоснуться к нему, убрать волосы с вспотевшего лба, поправить одеяло, смотреть на его лицо, усталое, осунувшееся в слабом свете керосиновой лампы, слушать его дыхание – и кто скажет, что это не самое полное чувство, какое она испытывает за всю свою жизнь, и кто осудит, если вдруг у нее мелькнет слабая надежда, тень надежды, почти неразличимая, что так вот может продолжаться долго, пусть не всю жизнь, но долго и постоянно: он спит и дышит рядом!
Это, наверно, не назовешь любовью. Ни ты, ни я не выжили бы на одностороннем чувстве, без той взаимности, которая поддерживает и окрыляет, как незримый воздушный поток, – но это тоже страсть, как ни крути, временами похожая на болевую гримасу, иная, конечно, чем у Галочки Тереховой, чьи притязания можно было бы назвать биологически простейшими, если бы – будем честны! – они не правили огромным большинством людей.
Ну, а Чернышев? Наверняка он понимает и ту, и другую, и третью; не туп же он и не омертвел в свои двадцать три настолько, что не отличает плач от смеха, добро от зла?
«О чем речь! – слышу я его голос. – Я искренен, Михайлов, искренен в своих чувствах и могу пройти любой детектор лжи. Разве я сказал кому-нибудь из них „люблю“? Разве обещал жениться? Разве сулил горы златые? Нет же! Я был лишь самим собой – дружелюбным, веселым и открытым. Мои помышления не планировались в злодейском одиночестве, не программировались на ЭВМ – я отвечал на чувство чувством. Я внес что-то новое в их жизнь – светлое и чистое, если уж на то пошло. И вот невезуха: меня оплакивают на кладбище родные и близкие. Сюда и подруги пришли, заметь! А кто бы стал горько переживать, если бы умер закоренелый мерзавец?»
Такая дилемма: медпункт или школа-интернат? Медицина или образование? Чернышев считает, что никакой дилеммы, в сущности, нет. Есть два варианта, каждый по-своему интересный. Сказал же он честно Галочке Тереховой: «Спроси у Тони», сказал же честно Камышан: «Спроси у Галины» – и теперь куда кривая вывезет. Но странное дело: кривой-то, похоже, нет, а есть две непересекающиеся пока прямые дорожки. Правда, Камышан перестала заходить в гости к Тереховой, а та в свою очередь определилась в отношении «подруги – не подруги», ставшей, кажется, очевидной «не подругой». Ну что ж! Это даже к лучшему! Тем более, что интуитивно он принял меры предосторожности – кому хочется скандала! – и теперь, возвращаясь с зимовья, вновь квартирует у Егора Чирончина, а поздней – в пустом доме Елдогиров, откуда волен выбирать любой ночной маршрут – хоть на окраину, хоть в центр фактории. «Забочусь о твоей репутации», – объясняет он Тоне Камышан теми же словами, что и Галочке Тереховой.
«Что ж, поступай как тебе лучше, Саша. Саша, я совсем по-другому живу, чем раньше. Я дура, Саша. Понимаю, что это не вечно, но все равно, Саша, приходи чаще. Я тебя всегда жду. Вот дура: хочу, чтобы ты заболел хоть на неделю. Саша, первый и последний раз скажи: тебе со мной хорошо?» – «А зачем бы я тогда приходил?»
«Ага, признался, Санечка! То-то! Я знала, что тебе со мной хорошо. Мы как один человек, правда? Ох, Санька, какой ты!.. Слушай, Санечка, если ты думаешь, что я от тебя отстану, то зря мечтаешь. Я в тебя влюбилась, как… ну, в общем, как Изольда! Я тебе говорила, что ты меня совсем заколебал? Ну вот. Это любовь, самая настоящая! Можно, я приду в избушку послезавтра, у меня отгул?»
«Нет, не надо. Работать должен».
«Да, конечно, я понимаю. Я не навязчивая, Саша. Я привязчивая. Привязалась к тебе, Саша. А ты мне не пара. Ты из другой жизни, Саша. Но все равно мне повезло. Будет что вспомнить старухой. Смеешься? А это правда. Я, наверно, никогда замуж не выйду. Я некрасивая, грубая, не знаю, что ты во мне разглядел. Что, скажи, пожалуйста?» – «Ну, скажу. Душу, Тоня».
«Как ты меня назвал? Тоней? Этого еще не хватало! Почему ты ее вспомнил, признавайся?» – «Извини, Галя».
«Знаешь, ты сейчас назвал меня Галей. Случайно или думаешь о ней? Конечно, она моложе и красивая к тому же. Но я не могу представить, Саша…».
«И не представляй, не надо».
«Как представлю, так, кажется, исколотила бы ее! Хотя она такая здоровая! Видел, какие у нее руки – как у молотобойца! А у меня видишь какие ручки, слабые-преслабые! Но нежные, правда? Ласковые, да? Что? Уже уходишь?»
«Пора. Извини».
«А когда ждать, Саша? Ты знаешь, я теперь ожиданием живу. Говорят, ждать трудно, но, по-моему, это вранье. Я ж с радостью. Вот-вот придет. Смотрю – идешь».
«Смотрю, появляешься на горизонте! Ага, не выдержал Санечка! Вот погоди, еще привяжешься ко мне, как я к тебе!». «Будь осторожен, Саша». «Смотри, Санечка, не замерзни!» Но так не может продолжаться вечно, даже если он использует для своих визитов темные, студеные ночи. Фактория маленькая, но глазастая, тем более что Чернышева еще видят на почте, куда он заходит смело днем, иногда подолгу распивая чаи, иногда даже дремля с книгой в руках на хозяйкиной кровати, пока сама хозяйка обслуживает за стенкой немногих посетителей. И в мужской домашней помощи он не отказывает Слинкиной, как прежде. Шефство же взял, надо понимать! Тоня и Галочка знают об этих посещениях и прощают их – не ревновать же его к дурнушке и простушке Слинкиной!
И все-таки настает день, когда Чернышеву приходится выбирать. Галочка Терехова, сама того не зная, добилась многого: он бывает у нее намного чаще, чем в медпункте, и она вырывает у него обещания, не свойственные ему: например, приютить ее на первых порах в Т., когда приедет туда. Это уступка темпераменту, с которым воспитательница тормошит и теребит измочаленного беднягу охотника. Шесть соболей за полтора месяца, а сколько, черт возьми, исхожено по заснеженной тайге! «Помолчи, Христа ради. Дай отдохнуть, полежи спокойно. Я уже знаю, что ты меня любишь. Не обязательно доказывать это каждую минуту, понимаешь? Да, я красивый, да, бородка у меня шелковистая – давай это установим раз и навсегда. И ты красивая, согласен. Оба мы красивые. Созданы друг для друга, согласен. Руки у тебя нежные, согласен. Да, ноги длинные, фигура стройная, согласен. Не говорю „люблю“, потому что это слово – атавизм. Могла бы знать, что такое атавизм, все-таки окончила училище! Это слово не из моего лексикона. Что такое лексикон, надеюсь, знаешь? Нет, не злюсь. Просто хочу полежать спокойно, послушать музыку. Убери ногу, мешает. Стройная нога, стройная, но мешает, понимаешь! И не вздумай сказать, что я тебя заколебал – уйду сию секунду».
Ясные предупреждения даже для токующей в самозабвении Галочки. Чувства осведомляют ее лучше факторских сплетников, что происходит что-то неладное. Но совладать с ними она уже не может. Ей кажется, что она недостаточно активна, что необходим новый всплеск драматических страстей. Для нее это значит не дать любимому пикнуть, затопить своей нежностью, поразить ненасытностью. Но вот странное дело: вчера он обещал зайти и не пришел, сегодня встретился в магазине, отговорился, обещал зайти, но опять его нет. Что с ним? Где он пропадает? Нет у Егора Чирончина. Нет в холодном доме Елдогиров, хотя вся походная одежда на месте. Господи, неужели?! Нет, не может быть! Не может быть. Не может быть.
Стучит она в дверь медпункта сильно, обоими кулаками. В окне загорается лампа, Камышан в нижней рубашке открывает дверь. Мало ли что может случиться на фактории, вот совсем недавно прорубил колуном ногу пожилой дизелист Старшинов… Галочка Терехова отталкивает ее и вбегает прямо в жилую половину дома.
Ага, вот он, голубчик! Вот он где, Санечка любимый! Она ждет, она мечется по фактории, а он преспокойно лежит в тепленькой постели с сигаретой в зубах! Отдыхает! Кейфует! Набирается сил для новых охотничьих подвигов! Щурит глаза! Безбоязненно усмехается! И, конечно, одетый, как тогда в избушке? Прочь одеяло! Вот ты какой! А ты успела накинуть рубашку, дорогуша! Ну, держись!
Драка. Не хочу описывать.
Бросается она все-таки не на Чернышева, а на свою бывшую подругу. Но Камышан на полголовы выше ее, крупней и сильней. Она скручивает Галочку и держит, но рот ей закрыть не может. Чернышев одевается. Он не напуган – возможно, уже бывал в таких переделках, но все-таки маленькое удовольствие, скажу я вам, друзья-москвичи, быть свидетелем таких провинциальных сцен, когда какая-то глупая куропаточка поливает тебя грязью как хочет! Все ведь подробности выкладывает, надо же! не стесняется! А та, другая (ее фамилия Камышан для справки) так поражена, что даже ослабила хватку – и пожалуйста, вмиг заработала кровавые царапины на щеке! Ну, со мной это не пройдет, Галина как вас по батюшке! Мы давно установили, что ручки у тебя слабые-преслабые, поэтому не надо ими махать. Вообще, спокойно, хватит воплей, всю факторию поднимете на ноги! Что нового вы открыли для себя, что? Я же давно предлагал вам поговорить друг с другом. Вот сядьте, выпейте валерьянки и поговорите.
«Это правда, Саша? Все правда, что она говорит?»
«Все правда. И ты ей скажи правду. Побеседуйте. Ночи вам хватит».
Впервые они видят его злым, взбешенным. Он выходит из медпункта, шваркнув дверью. Пустой дом Елдогиров встречает его холодом и запустеньем. А, к черту, пойду к Егору, все-таки живая душа! Но живая душа опять где-то сумела набраться браги, дрыхнет дружище прямо в парке, свистит носом. Здесь от перегара задохнешься к чертям! Есть еще один дом, где чисто и тепло, где он еще не ночевал, но где его наверняка встретят не криком, не пьяным бормотаньем, а с удивленной, робкой радостью. Да, решено!
И по темной факторской улице быстрым шагом он идет на почту. Прерываюсь, Наташа. Не потому, что поддерживаю интригу – меньше всего забочусь об этом. Только что пришел человек из КПЗ. Со мной просит свидания Антонина Камышан.
Отвечай быстрей. Целую. Дмитрий.
ТЕЛЕГРАММА. Улетаю неделю командировку Караганду Целую Наташа.
С приездом, Наташа!
Но сначала надо поздороваться, обняться и поцеловаться. Здороваюсь. Обнимаю. Целую. Долго не отпускаю.
Как съездила? Наверно, много впечатлений. У кого брала интервью? Какие темы освещала? Имеет ли отношение к поездке Влиятельное Лицо?
Жду быстрого ответа. Вообще, твои письма должны быть длиннее моих. Кто из нас, в конце концов, получает журналистский диплом – ты или я?
Время идет к полной весне. На небе уже появились легкомысленные облачки – курчавые такие, знаешь! – и в самый бы раз сейчас прогуливаться под ручку с тобой около заборов и поленниц, раскланиваясь со знакомыми собаками. Но тебя нет; сослуживцы в основном семейные и многодетные, а Никиту на улицу не вытянешь: боится свежего воздуха, аллергия, видишь ли, у него, чих нападает на улице. «Узюм», кстати, уже весь слопал.
Недавно у нас с ним состоялся небольшой диспут. Я вслух размечтался: вот, дескать, просыпаюсь утром, открываю глаза и вижу: сидит на стуле рядом моя улыбающаяся жена. Может такое быть, Никита, или не может?
«Никак не могит», – категорически отвечает.
«Почему? Не веришь в чудеса?»
«Сколько лет живу, всего нагляделся, а чудес как не было, так и нет. Глупости неумные!»
«А вдруг? Вдруг сядет на самолет, ничего не сообщив, и прилетит на пару дней? Такое может быть?»
«Не могит».
«Почему, черт тебя дери?!»
«Черта не поминай. Боюсь. А уж этих женщин, худо-бедно, знаю. Все про деньги думают. Денег у них, видишь, никогда нету».
«Деньги вышлю».
«А все одно не прилетит».
«Ну, почему, почему, догматик?»
«На меня не кричи. Не обижай. Меня почитать надо. Делов, скажет, много, вот почему».
«Бросит дела!»
«Не бросит. Работящая, поди. Вроде тебя».
«Эх, Никита!»
«Вот тебе и эх. Сказку бы рассказал Никите. Все веселей было бы».
«Не до сказок сейчас».
А тебе расскажу. Но не сказку, а ту же самую быль.
Два дня назад у меня в кабинете была посетительница. Молодая женщина лет двадцати восьми, темноглазая, с темными Усиками. Шеина Мария Давыдовна, инспектор отдела культуры окрисполкома. Была очень подавлена. Плакала. Пила воду. Ты не поняла, зачем и по какому делу приходила?
Да, Чернышев. И она ему не родственница. И не просто знакомая. Отзывалась о нем в таких словах, что не знай я, о ком речь, мог бы подумать, что жизнь, вся жизнь, невосполнимо обеднела с его уходом. Тяжело было слушать и смотреть, Наташа. Я хотел сказать ей, что она заблуждается. Ее Шуру (так Шеина звала Чернышева), который полгода наведывался к ней и одарял вниманием, не все вспоминают с любовью и тоской…
Шеина хотела знать все. Я не мог сказать ничего, кроме того, что следствие закончено. Не описывать же ей подробно, как я это делаю для тебя, что Чернышев ушел из почтовой избушки ранним утром, а вскоре, еще в сумерках, скользил на лыжах по заснеженной глади Вилюя в сторону зимовья.
Ты помнишь, я побывал в зимовье, проделав этот же путь. Но я заходил еще в факторские дома – к жене Максимова, к дизелисту Старшинову, к заготовителю, к ветеринару Пальчикову, спрашивая, есть ли у них лыжи и не пользовался ли кто-нибудь ими в начале февраля, пока в семье Ботулу, кормачей зверофермы, не услышал ответ.
Тоня Камышан прошла по лыжне Чернышева, еще не занесенной снегом, часа на три позже его. Ночная ссора в медпункте кончилась тем, что она сделала Галочке Тереховой, бившейся в истерике, успокаивающий укол и выпроводила домой. Спать она уже не ложилась, и я вижу, словно сам был наблюдателем, как она несколько часов ходит по служебному помещению из угла в угол, стоит у окна и курит свой «Беломор», а с рассветом идет в дом Елдогиров. Но Чернышева уже нет. Она опоздала и хочет вернуться в медпункт, чтобы наглотаться снотворного и побыстрей уснуть, но на улице ей навстречу попадается с пустым ведром Люба Слинкина. У худенькой, невзрачной связистки, по-всегдашнему закутанной в шаль, такое взволнованное, потерянное и счастливое лицо, что Камышан невольно останавливается.
«Что с тобой?» – спрашивает она Слинкину.
«А что?» – лепечет та.
«Случилось что-нибудь?»
«Не-ет».
«Как нет? Чего ж ты такая?»
«Какая?» – улыбается и пошмыгивает носиком Слинкина.
«Ну я же вижу! Говори, что стряслось», – нетерпеливо настаивает Камышан, сама не понимая, зачем это делает.
Обе стоят на тропинке, спускающейся к реке: крупная, рослая Камышан в накинутом на плечи овчинном полушубке, без шапки (медпункт рядом), и закутанная в шаль, в огромных валенках, как в сказках иной раз рисуют нелюбимых падчериц, Люба Слинкина.
«Ну-ка идем!» – говорит Камышан и за рукав увлекает ее к медпункту.
Пять минут, а может, и меньше, требуется ей, чтобы выведать у Слинкиной, что «приходил Саша».
«Саша приходил? Зачем? Ну, говори же! Когда приходил?»
«Ночью», – отвечает Слинкина, прижатая к стене резкими, нетерпеливыми вопросами и напуганная лицом Камышан – темным, больным и незнакомым.
«А когда ушел? Не ври! Когда?»
«Утром», – лепечет та, напуганная.
Камышан опускается на кожаный топчан. Ей не хочется верить. Но скорее небеса солгут, чем эта простушка.
«А раньше ночевал?» – глухо спрашивает она.
«Нет… что ты!.. нет!» – радуется Слинкина перемене ее голоса: он стал спокойным.
«Ясно. А теперь скажи…».
И она спрашивает – безжалостно, грубо, напрямик – о том, что ей непременно надо знать. Доводит Слинкину до слез. Трясет за плечи. И добивается признания.
Он положил ей руки на плечи. Он привлек ее к себе. Она испугалась. У нее закружилась голова. Она говорила «не надо». Он говорил «надо». Он был нежным. Говорил всякие слова. Она боялась. Он ее успокаивал. Было темно, ничего не видно. Она заплакала. Он засмеялся. Он такой сильный! Он успокаивал. Просил никому не говорить. Она плохо помнит. Такого никогда не было. «Никому не говори, Тоня».
Уходит, бежит бегом на речку, позванивая пустым ведром, напуганная и обрадованная, что освободилась. А Камышан тепло одевается и идет к кормачам Ботулу, у которых, она знает, есть широкие камусные лыжи. До зимовья три часа ходу, но мне она сказала, что прошла за два по лыжне Чернышева. Когда она снимает лыжи и входит в избушку, он одетый спит на нарах крепким сном и не слышит скрипа двери. Железная печка растоплена, но уже прогорела. На столе миска с остатками жареного мяса, недопитая кружка с чаем. Она доливает воду из чайника, жадно пьет. Прежде чем разбудить Чернышева, выкуривает подряд две папиросы, окурки бросает в пустую банку из-под консервов. Затем трясет Чернышева за плечо: вставай! Он что-то бормочет – очень сладкий, крепкий сон. Она трясет сильней, и он открывает глаза, рывком садится. «Привет! Тебе что здесь надо?» – первые его слова. «Поговорить», – отвечает Камышан.
(– Я ничего не замышляла, – скажет она мне. – Хотела поговорить и уехать).
Может, и так. Не знаю. Это не установишь никаким следствием. Но начинает он агрессивно – не выспался, устал и вообще лучше сразу брать инициативу в свои руки.
«Подождать не могла с разговорами? Неужели вчера не наговорилась с Тереховой? Чем дело кончилось? Кто кого? Не изувечила ее, надеюсь, она же нежное создание, у нее ручки слабые-преслабые. Что за народ женщины! Не могут сесть за стол переговоров и спокойно обсудить конфликт. Нет, обязательно надо выдирать друг другу волосы! Так кто кого?»
«Никто никого».
И то хорошо! Она обязана лечить больных, а не умножать их число. И до чего договорились? Пришли к разумному решению?
«Ни до чего не договорились».
А вот это плохо! Он как третья сторона заинтересован в мирном исходе. Терехова психопатка, это козе понятно. Но она-то, Антонина, неужели не могла найти альтернативу? Так, мол, и так, кто-то из нас должен самоустраниться. Или лучше всего объявим его персона нон грата, не пустим на факторию. Пусть околеет в тайге. Вот так! «Ты не о том говоришь».
Не о том? А о чем же он должен говорить? Впрочем, действительно. Голова не соображает. Спать хочется.
«Отоспишься. Успеешь. Уеду – долго будешь спать. Как ты мог?»
Ну вот, начинается! Неужели семейная сцена? Только этого не хватало! Человек приехал работать, работать приехал человек, а ему поспать не дают. В двух словах, ясно и коротко: чего она хочет?
«Хочу понять, как ты мог».
Как мог что? Как он мог разрываться на части – это она хочет понять? Да, черт возьми, было нелегко! Но такой уж он добрый и слабовольный: видит, что кому-то плохо, что кто-то от скуки бесится, как Галочка, или окрысился на весь белый свет, как она, Антонина, и сразу должен помочь! Не может не посочувствовать, не протянуть руку помощи! Таким уж он родился в городе Москве, столице нашей Родины, ничего не поделаешь! И если уж спрашивать, «как ты мог?», то надо также спрашивать и себя, «как ты могла?», а не отвечать на человеческую поддержку злобными обвинениями в вероломстве. Он смог, потому что они смогли – вот самый точный ответ. Другого не будет.
«Но я же тебя полюбила».
А кто спорит?
«Я тебя сильно полюбила».
Понятно, понятно. Кто спорит? Кто ей предъявляет претензии? Он ей благодарен, и всегда благодарил как умел. Но пусть и она не будет эгоисткой и поймет других – ту же Терехову. Почему ее «люблю» сильней галочкиных страстей? Почему он должен предпочесть кого-то одного, если обе убеждают его, что он им необходим, и приводят веские тому доказательства? Предпочесть одну – значит унизить другую. Лично он на это не способен.