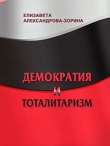Текст книги "Письма туда и обратно"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
А вот сейчас, к обеду, выяснилось, что заболел Никита. У него повышенная температура, кашель. Я скормил ему две таблетки аспирина, напоил горячим чаем с брусникой, хорошенько укутал, приговаривая: «Добегался, непутевый, добегался! Ведь старичок уже, а позволяешь себе такие выходки!» Знаешь, что он мне ответил? Они, домовые, «навроде собачек, привязчивые ужасть и все нюхом чуют». Когда у хозяина неладно, душевная сумятица, к примеру, или еще что, то и с ними обязательно беда приключается, какая-нибудь лихоманка. «Сам-то ты здоров?» – спрашивает. Жалобно так. «Здоров, здоров, Никита», – и кутаюсь в полушубок, и пью чай с брусникой. Даже две таблетки аспирина проглотил за компанию.
А где я их взял, по-твоему? Там же, где Чернышев пополнял свою походную аптечку.
Быстро он прижился в медпункте! Кулинаром оказался заядлым! Отбивные из оленины устраивают? Харчо по-эвенкийски? Картошка фри? Бефстроганов? А что, если смастерить рыбный пирог? Начинку беру на себя, а твое дело кофе бразильский, жаль, что всего банка осталась. А, привет, Егор! Ну и нюх у вас на застолье! Да, как видите, болею. Тоня, подтверди, что у меня вода в колене и дикий радикулит. Ну вот, Егор, слышите, Тоня подтверждает. Капканы? Успеется. К вам вернусь, Егор, когда выздоровлю. Только без пошлостей, Егор Хэйкогирович, а то Тоня вас выставит, а я ей помогу! Мало ли, что на мне кухонный фартук. Это еще не значит, что я тут хозяин. Спасибо Тоне: приютила, лечит, поит, кормит. Вашей фактории повезло, что у вас такая медичка. Молиться на нее должны, а вы только и знаете, что клянчить спирт. Ого, какое явление! Привет киномеханикам! В чем дело, Алексей? Не хочешь здороваться? Странно. То лезешь целоваться по пьянке, то не подаешь руки. Может, объяснишь, что случилось? Не здесь? А где? На улице? Пожалуйста. Я вообще-то лежачий больной – Тоня, подтверди! – но раз надо, так надо.
И минут через десять он возвращается, посасывая кровоточащую губу, слегка встрепанный, со злыми, веселыми глазами. Ничего страшного! Небольшой конфликт. Киномеханик набрался браги. Может, он и бывший подводник, может, даже на атомных лодках плавал, но дерется примитивно. Нет, уже не вернется. Его успела перехватить Нюра. Дома она ему добавит, надо думать. А интересно, с какой стати он охраняет тебя, как святую икону? Ладно, можешь не отвечать, не обязательно.
Приблизительно такой разговор, если беллетризировать протоколы допросов. Тебе не кажется, Наташа, что Чернышев уже по меньшей мере полгода живет в медпункте? На самом деле всего три дня и три ночи. Затем: «Надо в тайгу, Тоня. Соболи меня заждались». – «Да, конечно», – отвечает Камышан. Кто она ему, чтобы удерживать? «Спасибо и за то, Саша, что появился в моей жизни хоть на несколько дней. Полтора года с пьяным мужем. Грязь, перегар, тоска, мат, насилие. Только деньги, водка, кромешные ночи, мертворожденный ребенок. Никто никогда, Саша, после развода. Говорят о заезжем этнографе, ты не слушай. Вранье! Неужели тебе хорошо со мной? Повтори, пожалуйста. Я не верю. Мне кажется, я старуха рядом с тобой, а я ведь всего на год старше. Спать хочешь, устал?» И гладит его по русым волосам, целует в закрытые глаза.
Наутро он уйдет на лыжах в зимовье, а через два дня на реке зазвенят ботала, и к избушке подкатит оленья упряжка. Пожаловали нежданные гости: Антонина и Егор Чирончин.
«Здорово, Санька! Живой еще, не замерз? Не ожидал нас, ешкин-мошкин! Это все Тонька, ей спасибо скажи: поедем да поедем, пристала, как паут, надоела совсем! Спирт давай, Тонька, а то не повезу назад!» – грозится и шмыгает носом развеселый уже Чирончин, а Камышан с горящим от езды и мороза лицом, в меховой парке, шапке и унтах улыбается замерзшими губами:
«А я, может, не поеду назад, Егор».
«Конечно, никуда не поедешь. Спасибо, дружище Егор, что привез такую гостью! Налей ему побольше, Тоня, он заслужил. Ваше здоровье, Егор Хэйкогирович! Обязательно отметьте в своих отчетах, что проводите культурное обслуживание на отдаленных промысловых точках, я подпишусь. Одиночество, оказывается, страшная штука. Собака Брюханова, предательница, сбежала на факторию, и я чуть не взвыл от тоски. Что говоришь, Егор? Максимов грозится меня убить? Это с какой стати? А, понятно! Передай ему, что я готов на дуэль. Уехал в тайгу? Ну и отлично! Пусть там очухается. Заключаю с ним соревнование на промысловой тропе. Почин уже есть, Егор: вот шкурка. Правильно я ее обработал или нет? Да, конечно, можешь увезти и сдать Брюханову. Нет, Тоня не поедет! Мы вернемся сами. А тебе не кажется, Егор, что пора уже и честь знать? Спирта больше нет, Егор, а темнеет быстро. Вот так: усаживайся в санки, хорей в руки… осторожней, Егор, там на повороте есть незамерзающая полынья, не ухни туда… Все в порядке? Ну, до встречи!».
Звон ботал. Они остались вдвоем, Наташа.
Кажется, не обойтись без антибиотика. Аспирин не помог. Имею в виду Никиту. «Вот этазол, прими, пожалуйста. Да не бойся, дуралей, это не отрава», – убеждаю я его. Он брыкается, отпихивает меня, бормочет, что никогда ни в какие лекарства не верил, «всю жисть» лечился пылью запечной, паутиной да толчеными тараканами (а тараканов у Егора из-за холодрыги нет!). Чаю, однако, с брусникой выпил стакан и затих. А я предпочитаю писать, чем валяться на железной кровати с «убитым», как выражался классик, матрасом, под облезлой оленьей шкурой.
В одиноком таежном зимовье я хотел бы оказаться с тобой, Наташа. Мы бы жарко натопили печь, наварили мяса, вскипятили чай. Никто не стучит в дверь, не звонит по телефону. Представляешь такую тишину и такую огромную волю! Так уже было у нас в горах, в палатке. Но тогда мы лишь узнавали друг друга, насыщались новизной ощущений и не ведали, признаться, во что они выльются в будущем.
А Камышан зря поехала в зимовье. Три факторских дня рядом с Чернышевым – сильное, конечно, потрясение, но его еще можно пережить, стиснув зубы. Надо сказать себе что-нибудь вроде: «Хватит! Хорошего понемножку. Остановись вовремя!» – и едва таежник снова появится, встать перед ним на пороге медпункта: «Не надо сюда, Саша. Возвращайся к Чирончину. Так будет лучше для тебя и для меня». Он уйдет, пусть разозлится, но уйдет, а потом и совсем улетит, а она со временем забудет об этом прекрасном эпизоде своей жизни… силы воли ей не занимать. Вот так! Единственный выход.
После зимовья (а их встреча растянулась на два дня, во время которых охотнику некогда проверять капканы) сделать это – ты понимаешь, Наташа? – уже трудно, почти невозможно. «С кровью вьелся», – скажет она мне о Чернышеве, и первая, кто поразится перемене, произошедшей с подругой, – это Галочка Терехова, нарядная и веселая пассажирка Аэрофлота.
«Ой, Тонька! Ты как сюда попала?» – закричит она в аэропорту окружного центра, кидаясь к Камышан.
«На семинар вызвали, будь они неладны. А ты? Домой?»
«Ну да, назад в нашу дыру! Ох, неохота лететь, ты бы только знала! Здесь хоть какая-то жизнь есть. Смотри, сапожки купила! Ничего?» – «Да, красивые», – скажет Камышан рассеянно, а Галочка вдруг удивится: «Что с тобой? Ты какая-то не такая». – «Ерунда. Обычная я». – «Нет, Тоня, я же вижу. У тебя глаза блестят и вообще вся сияешь. С чего бы это?» – «Премию обещали за то, что никого не залечила до смерти», – грубовато отшутится Камышан.
Между тем в жилой половине почтовой избушки Кербо появилась новая книжная полка. «Ну как, Люба? Сойдет? Литературы у тебя негусто, прямо скажем. Я скажу в управлении, чтобы прислали. Обязаны, черт возьми, снабжать книгами отдаленные точки, а они манкируют. Что такое манкируют? Ну, пренебрегают, значит. Книги в такой глуши спасение. Без них можно свихнуться, а фильмы теперь будут нечасто, Егор – лентяй известный. Послушай, тебе сколько лет? Восемнадцать? А почему ты сутулишься, как старушка? У тебя же отличная фигура. И глаза вечно грустные… ты что, больна? Нет? Ну тогда улыбнись на пробу. Отлично получается, сразу похорошела! Я не шучу, ты симпатичная девчонка, если не куксишься. Ну что ты шарахаешься от меня, как от зверюги? Всего-навсего обнял за плечи, чудачка. Больше не буду. Извини. Не знал, что ты такая пугливая».
И так далее. Напор живой речи, деятельных движений, открытых улыбок. Причем заметь, делается это все, в общем-то, без задней мысли. Просто энергия бьет в нем ключом, и любой человек, даже желчный, многодумный резонер Гридасов, интересен и любопытен ему как представитель бесчисленного человечества…
Ну уж с кем проще простого найти общий язык, так это с нарядной – пыжиковая шапка, оленья дошка, унты, вышитые бисером, – и светлолицей незнакомкой, которая выпрыгивает из открытой дверки АН-2 с «дипломатом» в руке и магазинной коробкой под мышкой. «С ума сойти! Это что за явление! Девушка, здравствуйте. С приездом! Могу поспорить, что вы москвичка». – «А вот и ошиблись: совсем не москвичка, а омичка, и вообще, я живу здесь. А вы кто такой? Откуда взялись? У нас на фактории такие не водятся. Значит, приезжий. Интересно, что вы здесь делаете?» – «Вас встречаю, разве не видите? Специально прибыл из тайги к этому рейсу. Давайте „дипломат“. Неважно, что нетяжелый! Все равно приятно помочь. Заодно узнаю, где вы живете и напрошусь в гости. Я ведь бездомный, можно сказать. Правда, имею ключ от медпункта, но это ведь не дом, а заведение, есть разница, верно? А у вас, наверно, отличные хоромы, вы наверняка привезли бутылку сухого вина и не знаете, с кем ее распить за благополучное возвращение, угадал?» – «Почти. Только у меня не хоромы, а комнатка при интернате. По коридору бегают дети, вопят и постоянно стучатся. Но лучше скажите, как у вас оказался ключ от медпункта? Тоня отдала?» – «Нет, выкрал». – «Отдала, значит. Так, так! Странно, странно! Что бы это значило, интересно знать?» – «Все очень просто. Я тяжелобольной. Тоня меня лечит, но вот улетела, бросила на произвол судьбы. Как вас зовут? Меня, кстати, зовут Сашей». – «А меня, кстати, зовут Галей. Но, может быть, вы все-таки дадите мне умыться после дороги и привести себя в порядок?» – «Отлично! Я тоже приведу себя в порядок. Какая комната в интернате?» – «Крайняя справа, угловая. Но можно ли тяжелобольному ходить в гости?» – «Даже необходимо, Галя. Через час буду, ждите».
Не стоит удивляться, Наташа, такому скоропалительному знакомству. Чернышев и Терехова – родственные души, угадавшие друг друга с первого взгляда. Новая форма общения – обмен биотоками. При этом не требуется, в сущности, словесного материала. Слова – дань старомодной условности тех времен, когда мужчина должен был затрачивать умственные усилия, чтобы добиться расположения прекрасного пола. Атавизм в некотором роде. Сегодня без него можно обойтись, как без удаленного аппендикса.
Чернышев это понимает, и Галочка Терехова чувствует с внутренней дрожью роковое сочетание биополей. Какой парень! Это тебе не хамюга Леха Максимов, не тщедушный ухажер ветеринар Костя Пальчиков, не быдловатый пилот Вася, который только и знает, что гоготать да лапать руками. Умница, по всему видно! А какая бородка шелковистая! Такой может заколебать!
Обалдеть можно, какая девчонка! Урожденная кафе «Столичного», что на улице Горького! Типичная пожирательница пирожных с орехами, запиваемых коктейлями через соломинку. Заядлая курильщица. Белозубая болтунья с маленьким ротиком и быстрыми, смелыми глазами. Повезло, ничего не скажешь! Подарок судьбы. Наверно, погибает от тоски в этой глухомани. Да еще бутылка рислинга – полный кайф, как говорится.
«За что выпьем, Галя?» – спрашивает он, присаживаясь на подлокотник кресла, в котором она уютно устроилась, подвернув ноги.
«Ну, за знакомство, наверно», – смеется родственное биополе.
Ох уж эти дети! Маленькие, широколицые, бесцеремонные – то и дело стучат в закрытую дверь и со смехом убегают. Вопят в коридоре, устраивают возню, невозможно спокойно поговорить. «Иногда, знаешь, до того доводят, что так бы и отлупила!» – «И что, лупишь?» – «Нет, что ты, нельзя! Да и вообще я их люблю. Они хорошие… когда спят». – «А скоро заснут?» – «Скоро. Через полчаса. Не обращай на них внимания, рассказывай, мне страшно интересно. Я ведь в Москве всего один раз была, да и то проездом и с мамой. А с мамой не разгуляешься! Она у меня жутко строгая, тоже учительница, между прочим». – «Все мамы строгие. Со всеми мамами не разгуляешься. А вот вдвоем мы бы разгулялись, небу стало бы жарко!» – «Да-а, представляю…». – «Нет, Галя, не представляешь! Приезжие видят Москву через магазины и вокзалы. А Москва, если ее знать, это целая вселенная!».
Чернышев, по-видимому, в ударе. Красноречивый экскурс по столице и ее достопримечательностям. Эти иллюстрации из журналов на стене, особенно фотографии знаменитых эстрадников, они откровенно говорят о вкусах и пристрастиях хозяйки. Поэтому нет смысла задерживаться на музеях и выставках, на библиотеках и исторических памятниках, раз существуют огромные эстрадные залы, которые берутся с бою, ночные бары при гостиничных комплексах (жаль, многие позакрывали!), молодежные дискотеки и малоизвестные полуподвальные кафе, где можно неплохо провести время… не говоря уж о дачах его приятелей, да, собственно говоря, и у его родителей есть дача, не слишком шикарная, но вполне пригодная, чтобы приютить такую симпатичную знакомую, как воспитательница школы-интерната из Кербо!
«Ох, как я мечтаю побывать в Москве!»
«А что мешает?»
Его рука уже давно обнимает ее за плечи, и, само собой, Галочка Терехова не шарахается испуганно в сторону, как Люба Слинкина. В конце концов, не такая она дура, чтобы разыгрывать перед столичным гостем свою полную неискушенность, а он, само собой, не такой болван, чтобы в это поверить. Одно опасение у Чернышева: как бы не нагрянул сюда и не нарушил их уют дружище Егор Хэйкогирович. Тот, правда, не видел, как он спешил в интернат, но обладает, несмотря на увечный нос, сверхъестественным нюхом на все напитки крепче речной воды. Но, кажется, Чирончин в этот вечер удачно подловил другого пассажира-земляка, в чьем чемодане… ну понятно! Прекрасно, раз так! Можно крепче обнять Галочку за плечи, почувствовать ее ответное движение и, приподняв другой рукой ее подбородок, «нанести», как говорил один поэт, первый поцелуй. Очень долгий, перехватывающий дыхание. «Ого! – задыхается она. – А ты нахал!» Но звучит это, сама понимаешь, Наташа, скорее похвалой смелости, чем гневным возмущением. Так и слышится: «Поцелуй меня еще раз, пожалуйста, нахал». Или что-то в этом роде.
А тем временем в интернате наступает тишина (детей развели по спальням). Глухая ночь за окном, и огоньки фактории, того и гляди, погаснут, придавленные низким небом и подступающей со всех сторон тайгой. Вот-вот погаснет лампа и в комнате Галочки Тереховой. Гость уже давно заметил, где выключатель, но медлит, сдерживая себя и понимая, что страстный монолог хозяйки – «Господи, почему я такая невезучая? Угораздило меня сюда попасть! Все люди как люди, живут в больших городах, а здесь даже жениха не найдешь, если захочешь, и вообще тощища, хоть вой, ни театров, ни эстрады, ни телевидения, одуреть можно!» – это последний ее оплот, который рассыплется на отдельные бессвязные фразы: «Не надо! Подожди! Ох, Саня! Милый… С ума сошел… я сама…» – едва он выключит свет.
Слияние биополей, так сказать. Затем она спросит счастливым голосом в темноте: «Ну, признавайся, что у тебя было с Тоней?» А Чернышев закурит и ответит: «Спроси у нее. Я секретов не выдаю».
«А я без тебя знаю, можешь не говорить! Если приставал к ней, то заработал затрещину. С ней шутки плохи, имей в виду. Она – это не я. Я слабая дурочка, а она о-е-ей! Ненавидит мужчин, так и знай».
«Приму к сведению», – ответит темнота голосом Чернышева.
Пожалуй, лягу. Звон в ушах и кислый привкус во рту. Заразил меня Никита. Но ты не тревожься. Это так, до утра. Завтра встану здоровым, вот увидишь. Сама береги себя, не вздумай болеть. Эту семейную, так сказать, обязанность я полностью беру на себя. Меня не убудет от того, что иногда покашляю, почихаю и, прошу прощения, посопливлю за двоих. Если ты к тому же будешь ухаживать за мной, поить с ложечки чаем и время от времени целовать в безопасные места, то никакая холера дремучая или чума болотная меня не возьмет, обещаю.
Как я соскучился! Иди ко мне!
Дмитрий.
Любимый, дорогой Димка! Не представляешь, какой радостью был для меня твой телефонный звонок. Но эта связь… чтоб она пропала! Я кричала, как сумасшедшая, стучала по аппарату, взывала ко всем невидимым телефонисткам, но поняла лишь, что ты уже в Т., что жив-здоров, а в основном слышала космический треск, словно звонил ты из какой-то «черной дыры». Надеюсь, ты-то понял, что у меня все в порядке. Но твое письмо… Я получила его сегодня и, перечитав дважды, целый день брожу неверными шагами, как сомнамбула. Даже родители встревожились и попросили почитать, но я сказала, что письмо сугубо интимное.
А поразили меня и потрясли все твои девицы, все эти Тони, Гали, Любы, белокурые, смазливые, худосочные и мужиковатые – на любой вкус! – окружающие тебя, как вакханки, проливающие слезы, кающиеся, щедрые на исповеди и, прости за цинизм, видящие в тебе чуть ли не заместителя погибшего Чернышева.
Это надо же! Ты так изучил их подноготную, так вник в ситуацию, как, уверена, не предусматривает ни одна следовательская инструкция. Ты, Дима, добился поразительного эффекта собственного присутствия в темноте медпункта наедине с Камышан, а уж об этой бестии Тереховой не говорю: прямо вижу, как она виснет у тебя на шее, змея подколодная!
И нет, чтобы хоть в одном месте разразиться филиппикой по поводу «морального облика» этих факторских дев, заклеймить их гневными словами ради моего спокойствия… нет, напротив, сочувствуешь им! Твои симпатии на их стороне, это слепому видно. Они – жертвы, заблудшие души, бедные овечки, – та же ущемленная судьбой Камышан. А ей просто-напросто надо было думать головой, когда выходила замуж за алкоголика. А раз уж обожглась, то казни саму себя, свою нетерпеливость и неразборчивость, а не всех подряд, как она.
Ну, а эта смазливая Галочка… ох, как я ее ненавижу! Вот уж подлинный продукт эпохи. Их пруд пруди, этих Галочек. Они расплодились, как саранча, по всей стране, такие же длинноногие и всеядные, как саранча, с такой же способностью размножаться, как саранча, – никакой дефолиант беспомощных комсомольских призывов их не берет!
И такие, как она, воспитывают детей! Брр! Ее на пушечный выстрел нельзя подпускать к интернату, если, конечно, не ставить целью превращение ребятишек в духовных уродцев. Но ты и ей сочувствуешь, как Лука всепрощающий, и готов найти оправдание ее никчемной жизни.
О Слинкиной не говорю. Вызывает жалость, да. Радует тем, что невзрачная и имеет «прыщики на лбу». Безопасная, одним словом. Однако ты не поленился посвятить ей целыестраницы – больше, чем мне. Понимаю, что тебе это нужно «по делу», и как читательница благодарна, но как женщина и близкий тебе человек готова рвать и метать.
Ну ладно бы сухой протокол, это еще можно понять. А ведь на каждом шагу твои личные эмоции, да еще какие! Сострадание, сочувствие, чуть ли не нежность. Каково это читать мне?
Нет уж, любимый Димка! Я готова простить тебе всех твоих давних подружек, сколько бы их, безмозглых, ни было, но не знаю никакой пощады к сегодняшним твоим знакомствам – служебным или внеслужебным, безразлично!
Не буду целовать. Наталья.
Извини, пожалуйста. Перечитала написанное вчера и радуюсь, что не отправила. Я, кажется, была не в себе. Сегодня у меня иные чувства и мысли.
Во-первых, я тебя люблю. Из этого ты можешь заключать, что моя любовь питается ревностью. Но лучше все-таки не давать ей пищи, хотя прошу тебя писать обо всем, ничего не скрывая. Пожалуйста!
Оказывается, ты тоже ревнивый. Так вот знай: Влиятельное Лицо (его фамилия Поздняков) имеет жену и взрослого сына. Ему за сорок, и это такой суровый дядя с пронзительными глазами, что пить горячий кофе в его обществе – значит наверняка поперхнуться и обжечься. При встрече я намерена спросить его, звонил ли он в деканат, а есть признаки, что звонил, и заявить, что никто не уполномочивал его вмешиваться в чужую жизнь. Правильно? Правильно! Еще не хватало начинать самостоятельную работу с протекций.
На днях заходила твоя мама. Познакомилась с моими родителями. Встреча «на высшем уровне» была конфиденциальной. Пресса, то есть я, не была допущена. Но пресса, то есть я, подслушивала из-за двери. И вот тебе информация: наши родители нашли общий язык: «Дмитрий безумствует. Необходимо вернуть его в Алма-Ату. Для этого нужно воздействовать на Наталью».
А что, Дима? Может, ты уже достаточно намерзся, намытарился в тех краях и только ложная гордость мешает тебе сказать «хватит»? Как я была бы рада этому! Как бы сразу все упростилось! Подумай, родной Димка, подумай, пожалуйста.
Знал бы ты, какая прекрасная погода здесь! Мне больно думать, что ты мерзнешь, как бродяжка, лязгаешь зубами, жмешься к печке. Вот и заболел уже, а ведь здесь ни разу не болел, и Никиту простудил, хотя домовые, насколько мне известно, не подвержены ОРЗ.
«Коротко обо всем», как пишут в газетах.
Моя последняя передача по телевидению премирована. Вот так!
Маринка Баратынская – презабавное существо. При виде ее у меня текут слюнки… но всерьез думать об эскимосике я боюсь. Вот в Алма-Ате бы!..
Стас перебрался к родителям. Нина опухла от слез. «Узюм» Никите и тебе я выслала, а с ним книги.
Чуть не каждую ночь вижу тебя во сне, и ты делаешь со мной все, что хочешь.
Видишь, какой беззаботной получилась вторая часть письма. Молодец я, да?
Твоя Наташа.
Не молодец я, а пустая дура! Стоило вчера пригреть солнцу, и я защебетала, заговорила на птичьем языке. А сегодня вот нет солнца, хоть лопни, – серые тучи, мелкий противный дождь – и что же? А то, что вчерашние мои улыбки и шутки нужно считать недействительными.
Мучит вопрос: почему, собственно, я обречена на ожидание и одиночество? Это моя судьба? Да нет же! Это результат твоей прихоти, а если угодно, сумасбродства.
Долг жены следовать за мужем. Старинный постулат, я его не оспариваю. Согласись, однако, что одно дело, когда тебя, допустим, отправляют в ссылку, и совсем другое, когда ты сам, по собственной воле, мчишься к черту на кулички. А ты именно так и поступил: пренебрег моими просьбами, моленьями, даже слезами ради своих личных интересов. Это несправедливо. Да, несправедливо!
У нас равные права или нет? Равные. Почему же твои всегда оказываются весомей моих? Вот сейчас я говорю: хочу быть с тобой, возвращайся! Ты говоришь: хочу быть с тобой, приезжай! Почему же именно твой призыв должен быть услышан мной, а не наоборот? Подумай над этим. И прости, что испортила письмо.
Н.
Обидно, не получился разговор! Я кое-что разобрал, а ты, кажется, ни полслова. Веду дело бывшего связиста. Связь отказывает. Странно, да?
А теперь – здравствуй! Три дня, как прилетел в Т. Летел больной и с приключениями. На полпути между Кербо и Т. вдруг заглох мотор. (Для справки: АН-2 – одномоторный, винтовой самолетик на 10–12 пассажиров. Нас было пятеро, не считая безбилетника Никиты). Наступила тишина; все замерли, и я тоже. Ощущение не из приятных. Начали падать, верней, планировать. Ухватились за железные скамейки, друг за друга. Земля нежелательно быстро приближалась. Внизу замелькали, укрупняясь, сопки, белые излучины рек, болота, завалы. Я уже мысленно слышал треск ломающихся деревьев и крыльев, но проскользнули над верхушками и шлепнулись (ощутимо!) лыжами на лед какого-то озерка. Приземлились! Пилоты вышли мрачные и выразили сожаление, что произошло ЧП. После трех часов ожидания (жгли костер, чтобы не околеть) прилетел вызванный по рации другой АН-2. Нас перегрузили в него, а злополучный лайнер остался для ремонта на безымянном озерке.
Как ни странно, болезнь моя на следующий же день умчалась прочь. Никита в знакомом доме тоже быстро оклемался и сейчас напевает за печкой «Степь да степь кругом…». При аварии он, надо сказать, вел себя не лучшим образом. В панике выскочил из рюкзака, где сидел, и пытался открыть дверцу, чтобы выброситься вниз. При этом ругал пилотов и всю отечественную технику неприличными словами, чего я от него не ожидал. Хорошо, что домовые видимы и слышимы только своими хозяевами, иначе пришлось бы краснеть за него!
По-моему, ты грозишь мне кулаком… До меня доносятся твои крики: «Безмозглый! А если бы убился? Проклятый твой Север! Там даже самолеты не умеют летать!»
Заявляю, что Север тут ни при чем. Такие вещи могут произойти где угодно. Да и вообще подобные ЧП – полезная встряска, Наташа. Они лишают самоуверенности, с которой, сам того не замечая, живешь, и детских иллюзий, что бессмертен.
Воскресенье. Поэтому не на службе. Дал себе слово, что в этом письме ни словом не обмолвлюсь о деле Чернышева. Это непросто, но креплюсь. Скажу лучше, что дом наш (твой, мой и Никитин) не сгорел, не рухнул и не съеден мышами. Стоит, как прежде, на берегу Тунгуски и гордо, я бы сказал, дымит трубой. После жилья Чирончина он кажется роскошным люксом. Отсюда до центра поселка, где находятся моя контора и твоя редакция, пять минут ходьбы. Окрестности незаселенные, безлюдные, так что для летних походов раздолье. Грибные места, Наташа, ягодные, но вот яблоки и прочие райские плоды, извини, не произрастают. Но от цинги не погибнем, не трусь! По весне самоходками завозят всякое продовольствие, осенью – картошку, овощи. До первой самоходки осталось ждать недолго. В конце мая загудит как миленькая, а за ней и другие, и тогда тихий наш поселок очнется от спячки. Признаки весны уже есть: потепление, высокое небо, солнце. Скоро надо ждать пролетных пернатых, но меня волнуют не гуси-лебеди, а лишь одна любимая южная жар-птица!
Целую. Дмитрий.
Не успел отправить свое, как получил твое большое письмо. Ей-богу, это уникальный документ для психологического расследования, и я с особой бережностью буду хранить его в нашем семейном архиве. В нем вся ты – и гневная, и растерянная, и восторженная, и подавленная, – многоликая, одним словом. Вопрос: на ком же из этих женщин я женат? кого люблю? кто из них истинная Наталья, а кто примазался со стороны?
Послушай, Наташа! Откуда у тебя взялась такая оголтелая неприязнь к незнакомым людям? А твои нелепые подозрения – это что за чертовщина? Наташка, милая! Пойми, что мы не Адам и Ева, единственные на земле. Есть бездна судеб, тьма людей и обстоятельств, которые определяют и нашу с тобой жизнь. Как этого избежать? Невозможно!
Делаю скидку на твои эмоции. Иначе не понять, почему ты вдруг заговорила раздраженным языком язвенницы, считающей, что ее боль в желудке и есть страдания всего мира.
Ты обвиняешь меня в нарушении твоих прав. Но вспомни наш разговор сразу после посещения загса. Я признался, что меня уже давно мучит «охота к перемене мест», что я хочу избавиться от нежной опеки матери, от пуповины родного города, который столько лет питает однообразной, застойной кровью… И что же ты ответила? Вот твои слова:
«С тобой хоть на край света, Дима!»
Так почему я слышу сейчас горестные причитания Пенелопы, разлученной на двадцать лет со своим Одиссеем?
Ты просто устала, Наташа, сильно устала. А вот здесь ты воспрянешь духом и, помяни мое слово, назовешь себя дурочкой за свои прошлые страхи и слабости. Аминь!
Словечко «аминь» я произнес вслух, и Никита тотчас же высунулся из-за печки с вопросом, верую ли я в бога. Я дал ему пригоршню изюма, чтобы не мешал и не втягивал в дискуссию.
Ждешь продолжения дела? Оно есть, но невеселое. За трупом Чернышева приезжали отец и старший сын; его увезли в Москву и похоронили там. А вчера мне передали письмо матери Чернышева, Татьяны Давыдовны. Это не письмо, а крик боли. Она потеряла сына, младшего сына, чудесного сына, которого любила всей душой. Кто посмел поднять на него руку? Кто этот недочеловек, лишивший ее Сашу жизни? Сашу не вернуть, она понимает, но если есть справедливость на свете, то должно быть и возмездие за такое злодеяние! Объясните – за что?! Кому мог причинить зло ее мальчик? Его любили всегда и везде – в школе, институте, дома. Десятки друзей пришли на его похороны. Саша в земле, а его убийца, этот недочеловек, может быть, ходит на свободе – ест, пьет, живет! Разве может материнское чувство мириться с этим?
Нелегко было ответить матери Чернышева. Я избежал, надеюсь, казенных фраз, но какое ей дело до стиля изложения, если она ждет правды, а я ссылаюсь на судебные инстанции, которым принадлежит решающее слово. Несомненно прилетит на суд. Будь моя воля, я бы удержал ее от этого любыми средствами. Зачем ей знать то, что известно мне и что так или иначе будет предано гласности? Не лучше ли хранить в сердце образ того Саши, который безоговорочно светел и чист и не подлежит пересмотру, как святыня? Зачем ей отрезвляющие моменты будущего суда?
Но пока еще ее сын жив и медленно пробирается на широких камусных лыжах по таежному распадку. То завалы, то редколесье, то каменистые россыпи. Недвижный стылый воздух при каждом вздохе обжигает легкие; мгновенно почти немеют руки, вынутые из меховых рукавиц-кокольдов. Снег уже глубок и тяжел, да и капканы не радуют добычей, но настроение у Чернышева, наверно, все-таки приподнятое. В зимовье, куда он вернется через несколько часов, его ждет горячая еда, крепкий чай и веселая, быстроглазая хозяйка, взявшая трехдневный отгул в школе-интернате. Горячие руки, горячие губы, горячие слова… «Раздевайся скорей! Совсем замерз, бедненький! Вот так, вот так… Это тебе не Москва! А где моя шкурка, которую обещал? Шучу, шучу! Не надо мне никакой шкурки! Я тебя так ждала, уже тревожиться начала! Знаешь, я к тайге никак не привыкну, вот что значит горожанка! А тебе одному не страшно здесь ночью?»
«Страшно», – отвечает Чернышев с набитым ртом, предпочитая не уточнять, что ночевать одному в этой избушке ему приходилось не много раз. Но врать он тоже не собирается, во всяком случае отрицать очевидное. И когда Галочка Терехова вдруг делает следовательское открытие – окурки «Беломора» в мусорном ведре – и спрашивает: «А это кто курил? Ты ведь только сигареты куришь», – Чернышев, наверно, колеблется, но потом отвечает вполне честно: «Один из трех: или Егор, или Максимов, или Тоня».
«Как? – вскрикивает Галочка Терехова. – Тоня была здесь? Одна? Или с этими двумя?»
«Одна», – подтверждает Чернышев.
«Не может быть!»
«Почему?»
«Что ей здесь делать?»
«Помогала по хозяйству, как и ты».
Помогала по хозяйству, как она! Вот так новость! Помогала по хозяйству, как она! Что это значит? Топила печку, кипятила чай, варила обед? Но она же здесь не ночевала, нет? Пришла утром, а ушла вечером, да?