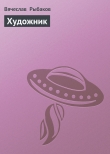Текст книги "НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА - ОСОБЫЙ РОД ИСКУССТВА"
Автор книги: Анатолий Бритиков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)

А. Ф. БРИТИКОВ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(1917-1991 годы)
Книга первая
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА – ОСОБЫЙ РОД ИСКУССТВА
Санкт-Петербург
2005
Пользуюсь случаем выразить сердечную признательность и благодарность всем, кто во время долгой работы над этими книгами поддерживал меня морально и материально. Особая благодарность за постоянное внимание и неоценимую помощь редактору этого издания Леониду Эллиевичу Смирнову, сотрудникам библиотеки Института русской литературы (Пушкинского Дома), Нине Александровне Колобовой, Татьяне Игоревне Черниковой и моему первому спонсору Андрею Викторовичу Яковлеву.
К.Бритикова
13 декабря 2005 года


А. Ф. БРИТИКОВ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(1917-1991 годы)
Книга первая
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА – ОСОБЫЙ РОД ИСКУССТВА
Издание второе, исправленное
Творческий центр «Борей-Арт»
Санкт-Петербург
2005
ББК 83.3
Б 87
© А.Бритиков, 1970, 2005
ISBN 5-7187-0627-1
Содержание
Ханойская башня (вместо предисловия) (А.Балабуха)...5
Введение......................................................................... 13
Страницы предыстории................................................. 28
Время "Аэлиты"............................................................... 55
"Создадим советскую научную фантастику"................... 93
Поиски и потери...........................................................119
После войны...............................................................155
Великое Кольцо..........................................................188
Дорога в сто парсеков..............................................227
Указатель имен..............................................................303
Анатолий Федорович Бритиков
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1917-1991 годы)
Книга первая. Научная фантастика – особый род искусства
Ответственный редактор Леонид Смирнов
Технический редактор Константа Росс Домино
Компьютерный набор Александры Стариковой
Оригинал-макет Леонида Смирнова
Творческий Центр «Борей-Арт»
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 58
Тираж 100 экз.
Ханойская башня (вместо предисловия)
1
Ну какие тут могут быть предисловия? И вообще-то критика критики – пожалуй, слишком уж изысканная область, наподобие тех "отражений в отражениях отражений", кои поминал в своем восхитительном рассказе "Сны – личное дело каждого" Айзек Азимов. Но Бог с ним, с жанром, – в иных случаях он, возможно, вполне уместен. Каюсь, и сам принес ему дань: моим (и жалостным, как теперь посмотреть) дебютом в критике стала опубликованная в октябрьском номере "Звезды" за 1970 год рецензия на бритиковский "Русский советский научно-фантастический роман"[1]1
Для тех, кто по случайности запамятовал: хотя заглавие и обещает исключительно исследование большой формы, в монографии находится достаточно места и для разговора о малой, поскольку для фантастики она является если и не преобладающей и определяющей (так бывало далеко не всегда, хотя и такие периоды выделить можно), то уж всяко достаточно значимой.
[Закрыть]. Теперь, тридцать два года спустя, круг, похоже, замыкается... Но это так, a propos... А вот вопрос остается: зачем этой книге предисловие, если ее и без того предваряет памятный темно-синий том, ставший событием для всех, кто хоть в малой мере интересовался фантастикой? который, сколь ни банально это звучит, по выходе в свет мгновенно стал библиографической редкостью? Откидываешь обложку – и словно из пресловутого сосуда с джинном, сгущаясь, воскуряется дымок, а в нем, вербальном облаке этом, будто в туманном шаре Аэлиты, рисуются картины истории отечественной НФ, от зарождения и до послеоттепельного упадка.
И все-таки кое-что сказать, наверное, стоит. Ибо бритиковский труд – итог жизни, исследований, размышлений человека, которого среди нас уже нет, но о ком хочется и вспомнить, и поговорить; чья монография заставляет шевелиться извилины и наводит на мысли, которыми хочется поделиться.
2
Понятия не имею, с чего молодой еще литературовед, только-только с блеском защитивший кандидатскую диссертацию по творчеству Шолхова, взял да и обратил интересы к научной фантастике – реприманд, прямо скажем, неожиданный. Почему-то мы с Анатолием Федоровичем ни разу речи об этом не заводили – и не оттого, что не проявил я должного интереса к старшему коллеге, другу, соавтору и учителю: просто говорить о литературе (или – об истории; или – обо многом и многом другом) ему всегда было интереснее, нежели о себе. Лишь однажды он мимоходом заметил, что в ефремовской "Туманности Андромеды" почувствовал шолоховский эпический размах... Но вряд ли дело только в этом. Думаю, еще и поманило то отроческо-юношеское увлечение, которого в поколении, разгуливавшем по улицам не с наушниками плеера, а с книжкой, не миновал ни один уважающий себя мальчишка. Недаром же к обиходным в тридцатые-сороковые авторам: Жюлю Верну и Эдгару Берроузу, Андре Лори или Гастону Леру, Александру Богданову, Алексею Толстому или Александру Беляеву – на всю жизнь сохранил Бритиков отношение поистине трепетное (хотя и не безудержно-восторженное, разумеется, а приправленное – в меру заслуг – должной долей иронии)
Впрочем, существенны не только (а порою – и не столько) причины; немаловажны также обстоятельства и следствия. Обстоятельства же были весьма и весьма грустными. Академическое литературоведение (как, впрочем, и почитающая себя высоколобой критика) до фантастики со своих заоблачных высот не снисходила: маргинальная де область, массовая, мол, культура... Да, существует она в своем бдительно охраняемом гетто, но выйти из него практически невозможно, ибо на всякого вошедшего туда мигом ставится несмываемое клеймо. Всерьез относились к НФ лишь читатели, каковых, разумеется, всегда хватало, да, пожалуй, недреманное государево око... Так что для серьезного ученого сделать фантастику областью своих исследований означало на практике неизбежную необходимость распрощаться с надеждой на скорое восхождение по ступеням академической карьеры. Бритиков рискнул. Он – единственный в стране! – умудрился сделать исследование отечественной НФ своей официальной научной темой в Институте русской литературы АН СССР, хотя добиться этого было весьма непросто. И, сложись жизнь чуть иначе, того и гляди прорвал бы блокаду и защитил на этом материале докторскую[2]2
В шестидесятые годы и кандидатская-то была защищена лишь одна, да и то потому, что соискателем был индиец Кулдиб Сингх Дхингра. В начале семидесятых число удвоилось – на этот раз стараниями казаха Абдул-Хамида Мархабаева. Не исключено, конечно, что кого-то я по неведению упустил, но дерзну утверждать: в любом случае для подсчета на пальцах второй руки не понадобится.
[Закрыть]. Увы, судьбы людские, подобно всякой истории, сослагательного наклонения, как известно, не ведают.
Мало того, что обращение к фантастике было шагом смелым, – оно еще и требовало освоения непомерного объема материала. Да, конечно, в отечестве нашем фантастику при всем желании не назовешь обильно издаваемым жанром – эта ситуация резко изменилась лишь в последнее десятилетие. Но все-таки каждый год приносил от нескольких книг до нескольких десятков. А теперь – помножьте это на сто с лишним лет. А вдобавок учтите, что иные из оных книг раритетны, их не сыщешь ни в БАН'е, ни в Публичной библиотеке, ни в иных первостатейных книгохранилищах – лишь у пламенных коллекционеров, кои над своими сокровищами трепещут и зачастую никому их не только не дают – даже не показывают. (Знавал я в начале семидесятых одного такого: набив книгами очередной шкаф, он намертво заклеивал створки – для вящей сохранности и во избежание соблазна взять какую-нибудь из книг даже в собственные руки; что уж тут говорить о передаче в чужие!) Как Бритиков управился с этой задачей, причем в срок если и не короткий, то вполне обозримый – по сей день остается для меня загадкой и свидетельством поистине фантастической работоспособности. Но так или иначе, а в семидесятом году итог был явлен миру – и книга эта по сей день остается непревзойденным курсом истории отечественной научной фантастики[3]3
Употребление именно этого термина следует оговорить особо: Бритиков изначально отсек все сказочное, притчевое, метафорическое, символическое, фантасмагорическое, фэнтезийное, ибо в противном случае границы оконтуриваемого пространства непозволительно размывались, тогда как материал становился и вовсе неохватен. Однако если говоришь, к примеру, о «Собачьем сердце» или «Роковых яйцах» Михаила Булгакова, не обойдешь ведь вниманием и «Мастера и Маргариту»... Так что разграничение оказалось до некоторой степени условным.
[Закрыть].
Любопытная деталь. Обширную библиографию, которой должен был быть оснащен том, взялся предоставить один из популярных тогда критиков НФ Борис Ляпунов. Увы, при ближайшем ознакомлении оказалось, что там ляп на ляпе, и едва ли не каждую позицию надо выверять и исправлять, а заодно – исключать и дополнять. Адов труд! Причем первоначальным замыслом и сроками никоим образом не предусмотренный. Но и он был исполнен. И притом библиография так и вышла за подписью Ляпунова – Анатолий Федорович наотрез отказался обозначить себя хотя бы соавтором... Комментарии излишни.
Но первый том – на то и первый, чтобы по выходе его работа продолжалась. Не остановилась она и после того, как Анатолий Федорович вынужден был покинуть стены Пушкинского дома. Здесь не время и не место объяснять, как и почему, скажу лишь, что Бритиков тем самым в очередной (и в который уже за свою жизнь!) раз доказал, что активная человеческая и гражданская позиция, готовность положить живот свой за други своя, дабы сохранить чистую совесть и чувство самоуважения, ему дороже всего – любых карьерных соображений и академических лавров, собственного здоровья, наконец.
Как заведено в ученом мире, рождался второй том по частям – этого требовала устоявшаяся традиция: каждая глава должна быть сперва опубликована в журнале или сборнике в качестве самостоятельного очерка, и лишь потом, пройдя таким образом апробацию, войти в состав монографии (некоторые другие этапы этого тернистого пути я опускаю, ибо не в них суть). В значительной степени метод диктовал и структуру: невзирая на всяческие связи и перекрестные отсылки, самодостаточность отдельных очерков-глав придает работе избыточную фрагментарность. Впрочем, побочный эффект оказался на сей раз во благо. Ведь если первый том – "Русский советский научно-фантастический роман" – представлял собой пусть аналитическую, но все-таки историографию жанра, то второй, не случайно озаглавленный "Отечественная научно-фантастическая литература. Некоторые проблемы истории и теории жанра", без малейшей натяжки можно отнести к его историософии. Эволюция для автора и его подхода естественная и закономерная.
Завершить работу Анатолий Федорович не успел. И вовек не увидеть бы этой книге света, если бы не подвижничество его жены, Клары Федоровны Бритиковой, не бескорыстная помощь его и ее друзей (вряд ли стоит перечислять их здесь поименно, но всем им – земной поклон!). Разобрать черновики, сличить тексты, сопоставить варианты (а их, учитывая бритиковскую творческую манеру, было, как говорится, mille e tre), свести их в один окончательный текст... Составленная же Кларой Федоровной библиография фантастики последних трех десятилетий и вовсе вне конкуренции. Но результат, который вы держите сейчас в руках, с лихвой окупает все труды.
Вот о нем, о результате, и поговорим.
3
Перечитав оба тома, я поймал себя на мысли, что мне так же интересно, как в первый раз. Да, с чем-то можно не соглашаться, с чем-то спорить, в чем-то сомневаться, против чего-то возражать... Однако – по частностям. Да и как иначе? Ведь и сам Анатолий Федорович нередко спорил с собой вчерашним, не говоря уже о позавчерашнем (во втором томе отзвуки этих споров местами слышны весьма отчетливо). И люди мы все разные. И взгляды у нас, слава Богу, разные. Но главное...
А в чем, собственно, главное? Ведь и в шестидесятые, и семидесятые, и во все прочие годы посвященные фантастике книги все-таки выходили. Не скажу, чтобы в большом числе, но время от времени появлялись они на рынке, радуя умы и грея души поборников жанра, и попадались среди них в высшей степени умные, глубокие, оригинальные – словом, достойные. Как тут не вспомнить их авторов: ленинградских критиков Евгения Брандиса, Владимира Дмитревского и Адольфа Урбана; свердловчанина Виталия Бугрова; москвичей – фантаста Георгия Гуревича и критика Всеволода Ревича; киевлянку Наталью Черную; профессора Иркутского университета Татьяну Чернышеву... И все же бритиковская монография заметно выделяется из их числа. И не удивительно.
В прошлом топографу, мне привычно рассуждать в землеописательных терминах и метафорах. Впрочем, дело, по всей вероятности, не только в профессиональном клейме: не случайно же свою книгу о фантастике английский писатель Кингсли Эмис, в чьем прошлом, насколько мне известно, ничего геолого-геодезического не было, назвал "Новые карты ада" (разумея под тем антиутопию). Бритикова, правда, больше привлекали карты рая: исторический оптимист, он больше интересовался утопиями – от богдановской "Красной звезды" до ефремовской "Туманности Андромеды" и "Возвращения" братьев Стругацких. Он даже доказывал – и небезосновательно! – что для нашей литературы этот жанр органичен и имманентен, особенно близок нашему общественному сознанию, от века чаявшему пути в Беловодье. Но что бы ни искал Бритиков, в любом случае он выступил в роли первооткрывателя, кладущего на карту контуры неведомого континента. А эта работа – при условии, что выполнена не на глазок, а инструментально – практически не может устареть, ибо является базовой, основополагающей, фундаментальной. Тем более, что Бритикову приходилось выступать в двух ролях разом: и навигатора с секстантом и хронометром, определяющего координаты, и математика-картографа, изобретающего саму систему координат...
Потом эту карту можно будет сколь угодно долго выверять, уточнять и дополнять. Можно даже выяснить, что вон тот мыс в действительности выдается в море на два километра дальше, а линия главного водораздела проходит не по этому, а по соседнему хребту. Вслед географической можно выпустить геологическую или дендрологическую карту... Но – вслед. Но – на ее основе. Можно селиться на этом континенте, обживать его, пахать землю и пасти скот, строить заводы и бурить нефтяные скважины. Но для всего этого нужна та самая, первоначальная карта, ибо без нее сориентироваться невозможно. Не зря же карты во все времена почитались ценностью высочайшей и хранились наравне с коронными ценностями.
Уверен, еще не одна литературоведческая работа будет посвящена отечественной фантастике. Но к какому периоду, чьему творчеству, какому жанру ни обращался бы исследователь, ориентироваться ему неизбежно предстоит по бритиковским портуланам.
Но можно использовать и другой образ. Помню по детским годам игрушку – развлекались с нею еще деды (за прадедов не поручусь), продается она и сейчас. Только нынешние родства не помнящие да на фантазию небогатые производители-продаватели называют ее по-разному, кто "елочкой", кто "конусом", кто и вовсе, со стереометрией споря, "пирамидой", тогда как искони называлось нехитрое изделие это "ханойской башней" – не знаю уж, почему. Диск, из центра которого торчит перпендикулярная ось, и на нее можно надевать множество колец разного цвета и диаметра.
Бритиковская дилогия – суть основание и ось "ханойской башни". Можно нанизывать сколько угодно колец, творить любые формы, изощрять воображение, и основа вроде как не видна, – а вынь ее, эту основу, и вся конструкция рассыплется самым что ни на есть хаотическим образом.
И что самое удивительное, самое радостное – метафора справедлива по отношению не только к литературоведческому труду, но и к его автору.
4
Хорошо помню первое появление Анатолия Федоровича на одном из заседаний секции фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей, куда его пригласил тогдашний наш председатель Евгений Павлович Брандис. Невысокий, щуплый, видом совсем не представительный и не академичный, Бритиков пришел со здоровенной пачкой книг, обвязанных бечевкой (впоследствии выяснилось: взятых у Брандиса на прочтение). Он скромно устроился на диване у стены и за весь вечер вроде бы и не сказал ни слова – имею в виду, во всеуслышание; так, поговорил о чем-то с одним, с другим...
Но уже через два-три месяца я начал замечать, что к словам его прислушиваются все: и Брандис с Дмитревским, и Лев Успенский, и Илья Варшавский, и два столь несхожих Александра – Мееров и Шалимов... Он не был ни оратором, ни душой компании, больше спрашивал, чем высказывал суждения, а вот каким-то неявным центром всеобщего притяжения стал. И уже к концу сезона секция казалась без него непредставимой. Мы еще почти не читали его работ (монография вышла года два спустя), но каким-то внечувственным путем ощутили: среди нас появился человек, с чьим мнением стоит считаться и над чьими словами всякий раз стоит призадумываться.
Именно Бритикову свойственна была если не всеохватная и всеобъемлющая (такого не бывает), то всенаправленная эрудиция, отзвуки которой ощущаются и при чтении дилогии, – как ни ограничивал себя Анатолий Федорович, вписываясь в надлежащий академизм изложения, но прорывались таки неожиданные аналогии, ассоциации, сопоставления. Но ведь по сравнению с тем, что открывалось в статьях, выходивших в неакадемических изданиях, не говоря уже о личном общении, – это сущие крохи. Как и откуда набирал он все эти сведения – суть тайна за семью печатями; можно сказать, из эфира впитывал. Но я не могу припомнить темы, при разговоре на которую Бритиков не мог бы сказать чего-то интересного и оригинального. В последние годы он, например, всерьез заинтересовался историей и особенно праисторией славян – какие же увлекательные дискуссии завязывались у него с великим эрудитом Александром Щербаковым! Дай волю, их можно было бы слушать часами... Литературовед и писатель – казалось бы, два дилетанта; но ни в одной книге профессионального историка не встречалось мне столько сведенных воедино интереснейших фактов, такой логики выстраивания ситуаций и самого исторического процесса.
Именно Бритикову пришла в голову идея организовать всесоюзные Ефремовские чтения. И что же? – "Пробил", как в свое время неортодоксальную свою научную тему. И было проведено несколько весьма интересных конференций, проходивших поочередно в Николаеве, в Комарове под Ленинградом и в Москве, на которые со всей страны съезжались фантасты, критики, литературоведы и даже всепроникающие фэны... Не кто иной, как Анатолий Федорович собственноручно привинчивал мемориальную доску к стене дома в Вырице, где родился Ефремов... Как же нам нужна была эта роскошь не только профессионального, но и просто человеческого общения!
Именно Бритиков внедрил в головы функционеров Союза писателей СССР мысль отметить столетие со дня рождения Александра Беляева, из чего родились и торжества на родине писателя, в Смоленске, и выпущенное ленинградской "Детской литературой" пятитомное Собрание сочинений, и – хотя с большим отрывом по времени – Беляевская премия.
Именно Бритиков, неброский, казалось, даже специально, хотя и без малейшей нарочитости стремящийся быть неприметным, воздвигался скалой, ощутив, что с кем-то (не с ним самим – вот единственный случай, когда он был не боец) поступают несправедливо. Ибо вслед за поэтом считал, что в подобной ситуации
Лучше встать и сказать,
Даже если тебя обезглавят -
Лучше пасть самому,
Чем душе твоей в мизерность впасть.
Наконец, именно Бритиков всей душой откликнулся в 1983 году на идею Александра Сидоровича, тогдашнего председателя городского Клуба любителей фантастики «МиФ-ХХ», организовать при клубе Студию молодых фантастов. И до самой смерти оставался ее бессменным руководителем. Оказалось, он умеет тонко чувствовать не только текст, но и автора; и автора этого учить – вроде бы мягко, вроде бы ненавязчиво и тактично (во всяком случае, за двадцать лет не могу припомнить случая, чтобы кто-нибудь на него обиделся), но в то же время достаточно твердо, чтобы процесс был успешным. И студия мало-помалу становилась «ханойской башней», основанием и осью которой служил Анатолий Федорович. Больше того, этим внутренним свойством он помимо собственной воли, одним фактом существования заражал, намагничивал студийцев. Это, наверное, самая трудная наука и самое высокое искусство – намагнитить все кольца так, чтобы башня держалась, даже когда основание с осью исчезнет.
5
Известное изречение Теренциана Мавра в привычно усеченном виде гласит: "Habent sua fata libelli"[4]4
Книги имеют свою судьбу (лат.)
[Закрыть]. Пока судьба бритиковской монографии складывалась трудно – в чем-то неизбежно повторяя или отражая жизнь своего создателя. Однако если обратиться к подлинному тексту жившего семнадцать столетий назад римского грамматика, то окажется, что фраза неполна: «Pro captu lectoris habent sua fata libelli», то есть «От читателей зависит, какими окажутся судьбы книг».
Вчитайтесь – и, может быть, вспомните (если знали Анатолия Федоровича) или впервые услышите его голос, ощутите движения его мысли. Вчитайтесь – и, надеюсь, он войдет в ваш внутренний мир так же, как вошел некогда в наш круг.
И тогда судьба этой книги станет такой же светлой, каким светлым человеком был Анатолий Федорович Бритиков.
Андрей БАЛАБУХА
Введение
На карте литературоведения, если бы такая была, научная фантастика выглядела бы малоисследованной страной. Один из многих парадоксов этой литературы в том, что, хотя она давно пользуется завидным успехом, но научная критика обходила ее стороной. Положение мало изменилось с той поры, когда Французская академия, присудив премию Жюлю Верну за «романы для юношества», так и не рискнула ввести знаменитого писателя в число «сорока бессмертных». Ценители изящной словесности с большими или меньшими оговорками, откровенно или молчаливо относят научно-фантастический «жанр» к литературе второго сорта. Работники детской литературы более снисходительны, но, видимо, потому, что считают ее отделом своего департамента. Популяризаторы науки ценят заслуги научной фантастики в своей области, а «приключенцы» полагают своим филиалом. Получается, что все ценное в научной фантастике – не от литературы, а что от литературы – настоящей художественной ценности не имеет
Не по этой ли причине или, скорее, недоразумению литературоведы слабо изучали научную фантастику? Написано о ней немало, но до последнего времени это были большей частью негативные журналистские статьи и рецензии, необычайно пестрые по профессиональному уровню и на редкость противоречивые по взглядам на фантастику. Пожалуй, только в 60-е годы литературоведение стало менять свое отношение к "побочной сестре" большой литературы[5]5
См., например, в библиографии работы К.Андреева, Е.Брандиса, В.Дмитревского, К.Дхингры, И.Ефремова, Ю.Кагарлицкого, С.Ларина, Б.Ляпунова, Р.Нудельмана, Е.Парнова, В.Ревича, Ю.Рюрикова, А.Урбана и др.
[Закрыть].
Такое положение объясняется, по нашему мнению, непониманием специфики научной фантастики, но непониманием, которое не равнозначно капризам вкуса или непросвещенности присяжных "реалистов" в научно-технических вопросах (хотя и это, конечно, сказывается). Здесь возможна параллель с историческим романом (первоначально он тоже помещался где-то между научной и художественной прозой) или кино: должно было пройти какое-то время, чтобы они доказали свою принадлежность к настоящему художественному творчеству.
С научной фантастикой, однако, еще сложней. Ее специфика по многим параметрам (если употребить такой техницизм) выходит за пределы искусства и в то же время – это несомненно художественная литература, хотя и особого рода. Т. е. научно-фантастический роман не только жанр, как например философский роман или роман приключений и путешествий, с которыми он тесно соприкасается: он относится к особому виду или типу искусства. Это самое главное, что предстоит нам выяснить в настоящем введении.
Недооценка научной фантастики оттого и происходит, что под нею подразумевают не совсем то, а порой и вовсе не то, чем она является, – нечто вроде занимательной науки и техники в фантастическом исполнении. Такой научная фантастика была в начале и в некоторые периоды своей истории; такое направление в ней осталось и сегодня, но теперь она им ни в коей мере не исчерпывается.
1
Популяризаторская функция, во времена Жюля Верна составлявшая ядро научно-фантастического жанра и метода (но, впрочем, уже тогда вовне не единственная), со временем отошла на второй план или, точнее сказать, модифицировалась. Ведь Жюль Верн популяризовал не текущую науку и технику, а «будущую», т.е. тенденции и динамику развития. Впоследствии фантасты стали смелей заглядывать во все более отдаленное будущее.
Уже некоторые из "Необыкновенных путешествий" Верна, как показали советские исследователи К.Андреев и Е.Брандис, были замаскированными социальными утопиями. Первоначально научная фантастика вообще существовала внутри жанра утопии (показательна в этом отношении "Новая Атлантида" Ф. Бекона). Тем не менее утопическая и социально-критическая функции выдвинулись в научно-фантастической литературе уже в нашем XX в. Отцом современной социальной фантастики явился Г.Уэллс. Он как бы подверг сомнению просветительскую веру Жюля Верна в то, что научный прогресс автоматически усовершенствует общество. Одним из первых Уэллс обратил внимание на двойственность этого прогресса. Не понимая марксистского учения о социальной революции, он все же пришел к выводу, что только радикальное изменение общества способно обуздать развязанные капиталистической цивилизацией тенденции.
Заслуга Уэллса также в том, что он соединил социальный прогноз именно с научной фантазией. Великие социалисты-утописты, за редким исключением, уделяли науке и технике в своих конструкциях идеального общества незначительную роль. Уэллс приблизился к пониманию социально-преобразующей роли объективных законов научно-индустриального развития. Он уловил существенно иную социальность науки и техники и иные, нежели в эпоху Верна, закономерности научного прогресса. Вот это и определило в конечном счете различие метода двух великих фантастов хотя сами они выдвигали другое – свою субъективную трактовку фантастики.
"Если я стараюсь, – говорил Верн, – отталкиваться от правдоподобного и в принципе возможного, то Уэллс придумывает для осуществления подвигов своих героев самые невозможные способы"[6]6
Интервью Ч.Дауберну; на русском языке напечатано в газете «Новое время», 1904, №10-17 (Приложение).
[Закрыть]. И Уэллс как будто соглашался: «Нет решительно никакого литературного сходства между предсказанием будущего у великого француза и этими (т. е. его, Уэллса, – А.Б.) фантазиями»[7]7
Г.Уэллс – Собр. соч. в 15-ти тт., т.14. // М.: Правда, 1964, с.349.
[Закрыть]. Он признавался, что в своих романах использует «фантастический элемент... только для того, чтобы оттенить и усилить»[8]8
Там же.
[Закрыть] обычные чувства, а не для того, чтобы высказать те или иные прогнозы. С помощью внешне правдоподобного предположения Уэллс стремился создать чисто художественную иллюзию. Именно в этом, говорил он, состояла принципиальная новизна его книг по сравнению с научной фантастикой Жюля Верна.
В самом деле, Уэллс, биолог по образованию, вряд ли не знал, что человек-невидимка сам бы ничего не видел; что придуманный мистером Кэйвором материал, экранирующий тяготение, невозможен; что нельзя ездить по времени, как по мостовой, и никакой доктор Моро не в силах превратить собаку в разумное существо.
И вместе с тем Уэллс понимал, что, например, его "Машина времени" была одной из первых попыток внести в умы новое, поистине революционное "представление об относительности, вошедшее в научный обиход значительно позднее"[9]9
Там же, с.346.
[Закрыть]. Рядовой человек просто был бы психологически не готов принять эйнштейнов парадокс времени, если бы герой Уэллса задолго до Эйнштейна не продемонстрировал «эластичность» времени[10]10
В этой связи см., например: Л.Успенский. – Братски ваш Герберт Уэллс. / Сб.: Вторжение в Персей. // Лениздат, 1968, с.448.
[Закрыть]. Фантазия, ошибочная с точки зрения буквальной научной правды, все же зароняла плодотворное сомнение в абсолютной жесткости времени и тем самым пролагала путь новому принципу естествознания.
Здесь мы сталкиваемся с одним из главных недоразумений: и ученые, и литераторы зачастую отказываются понять метафоричность, условность научно-фантастической идеи, хотя прекрасно сознают условность художественного образа в литературе реалистической. К научно-фантастической идее неприложим критерий буквальной научной правды; она всегда метафорична и своей многозначностью больше напоминает художественный образ, чем логическое понятие.
К тому же фантастические предсказания чем они конкретней, тем менее достоверны, ибо реализуются, как правило, по совершенно новым принципам, которые художник-фантаст не в силах предусмотреть. Зато фантастическое изобретение, ошибочное в конкретном технологическом решении, может содержать верную общую идею. И даже неверная, но оригинальная фантастическая идея в силу своей образности, т.е. многовариантности, может натолкнуть на плодотворный поиск, что не раз подтверждали видные ученые[11]11
См., например, в кн.: Е.Брандис – Жюль Верн. Жизнь и творчество. // Л.: Детгиз, 1956, с.7-8 и др.
[Закрыть].
Уэллс не отбросил принципы фантастики, выдвинутые его предшественником, он лишь сделал дальнейший, хотя и очень смелый шаг. Верн мысленно развивал отдельные выводы из "незыблемых" законов физической реальности, Уэллс применил домысел к самим законам, и его фантастика в какой-то мере предвосхитила коррективы, внесенные в естествознание в XX в. Их творчество принадлежало двум разным эпохам в науке. В конце прошлого столетия казалось, что человечество подошло к пределу познания. Жюля Верна это наполняло оптимизмом. Он писал: "Все, что человек способен представить в своем воображении, другие сумеют претворить в жизнь"[12]12
Цит. по комментарию Е.Брандиса в кн.: Ж.Верн. – Собр. соч. в 12-ти тт., т.4. // М: Гослитиздат, 1956, с.464.
[Закрыть].
А Герберт Уэллс иронизировал: "В последние годы девятнадцатого столетия считалось... что человек... покорив пар и электричество", добился "завершающего триумфа своего разума"[13]13
Г.Уэллс – Собр. соч. в 15-ти тт., т.4, с.308.
[Закрыть]. Он насмешливо цитировал слова современника: «Все великие открытия уже сделаны. Нам остается лишь разрабатывать кое-какие детали»[14]14
Там же.
[Закрыть].
Нельзя более метко сказать о фантастике Верна. Своими предвиденьями он исчерпывал частности "почти познанного" мира, Уэллс дал почувствовать его неисчерпаемость. Верн открыл для художественной литературы не столько самую науку (наука была введена в роман, например, еще Ф.Беконом в "Новой Атлантиде"), сколько эстетику науки и техники эпохи пара и электричества. Жюль-верновская серия «Необыкновенных путешествий» запечатлела красоту механистического мышления, освященного гением великих естествоиспытателей. Верн утверждал здравый смысл, основанный на ньютоновской физике, познанной географии Земли, уже описанных видах животных и растений.
Уэллс, улавливая новые, только складывавшиеся научные принципы, разрушал иллюзию об исчерпанности знания механическими закономерностями и тем самым содействовал становлению более сложного мировоззрения. "Пора старого примитивного материализма давно миновала, писал его современник В.Брюсов, – ...границы естественного раздвинулись теперь гораздо шире чем столетие назад"[15]15
В.Брюсов – Не воскрешайте меня!: НФ рассказ-памфлет. // «Техника – молодежи», 1963, №12, с.16.
[Закрыть].
В своих поздних произведения Верн тоже это почувствовал. В романе "В погоне за метеором" он выдвинул, например, чисто уэллсову "невозможную" идею антитяготения. Она и по сей день спорна, но зато была высказана за десятки лет до того, как природа тяготения привлекла внимание ученых. Атомное оружие, описанное Уэллсом в романе "Освобожденный мир" накануне первой мировой войны, имеет мало общего с современной атомной бомбой, но зато мысль об использовании внутриатомных сил высказана была задолго до ее осуществления, и главное даже не то, что раньше, а что было высказано принципиально новое соображение об овладении силами природы.
2
Отношения художественной фантазии с наукой не укладываются в простую "доводку" научной гипотезы: научно-фантастическая идея является и художественной условностью. Фантаст добивается правдоподобия не только тем, что обставляет свою гипотезу реальными бытовыми деталями; это только один и, на наш взгляд, не главный путь. Другой и более важный, – когда "невозможный" вымысел опирается на внешне правдоподобный, хотя последний бывает порой не менее фантастичным. То, что Верн отправил своих героев на Луну в пушечном ядре, приводят как классический пример исторической ограниченности фантазии писателя. Но есть другая сторона дела. В книге "Герберт Уэллс" (1963) Ю.Кагарлицкий предположил, что Верн, возможно, догадывался о нереальности пушки для космического путешествия, но все же выбрал этот вариант в расчете на иллюзии читателя. Трудно согласиться, что бы Верн, проверявший свои фантазии математическими выкладками и в романе "Вверх дном" высмеявший ошибки "поэтов артиллерии", пытавшихся повернуть земную ось с помощью гигантской пушки, не учел той простой вещи, что развиваемые пушечным ядром скорости недостаточны для преодоления земного притяжения.