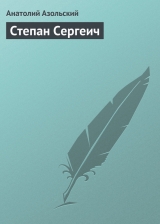
Текст книги "Степан Сергеич"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
5
В середине января капитан Шелагин заступил на дежурство по училищу был выходной день. С обычным старанием осматривал он увольняющихся, обходил ротные помещения, выслушивал рапорты дневальных и дежурных в батареях и дивизионах, сгонял с коек приспнувших курсантов, брал пробы в столовой и записывал, что завтрак (обед) приготовлен плохо.
Походив по училищу, Шелагин понял твердо и непреложно: где-то что-то делается, не разрешенное им и другими офицерами. Быстро и осторожно начал он высматривать все вокруг. Оставшиеся в училище курсанты вели себя как-то странно. Казалось, имели какую-то тайну, перешептывались, довольно посмеивались и с еле уловимой насмешкой встречали дежурного. Сурово сжав губы, комбат возвратился в комнату дежурного офицера. Ускорил шаг и взбежал на вышку, откуда просматривалась территория части. Так вот оно что!
Шелагин увидел с вышки, что в снегу протоптана дорожка к заброшенной, назначенной к слому старой бане и по дорожке туда и обратно снуют курсанты.
Выходящие из баньки (над ней струился легкий дымок) шли медленно, довольно, успокоенно. Направлявшиеся в баньку, наоборот, торопливо пересекали снежную целину и скрывались в предбаннике, что-то неся под гимнастеркой. Было все непонятно, таинственно, странно… Дикие картины замелькали в голове Степана Сергеича. Пьянка в расположении воинской части! Вертеп – там же!
Стремглав бросившись вниз, Шелагин ворвался в дежурку и немедленно позвонил Набокову.
– Товарищ полковник! – приглушенно закричал он в трубку. – Странные вещи происходят в училище! Требуется ваше присутствие!
Набоков уточнил, что называет дежурный странным, и приказал собрать всех офицеров.
Дома офицерского состава – на территории училища, поэтому минут через пятнадцать собрались все. Шелагин с фронтовой краткостью доложил обстановку, разработал вчерне операцию: надо перейти в учебный корпус и оттуда рывком достичь глухой, без окон, стены бани. Набоков добавил: идти для скрытности не всем, а некоторым. Желающих набралось четыре человека, остальные отказались. Шелагин и Набоков – по долгу службы, лейтенант Суровцев, любопытный, как галчонок, и майор Шкасло, холостяк со стажем, большой любитель патрулировать в городском парке.
Штурмовая группа распылилась и сошлась в учебном корпусе. Шелагин переложил пистолет в карман и первым бросился к бане. У двери ее группа остановилась, офицеры собрались с духом и вкатились внутрь.
Около полувзвода курсантов, раздевшись в жаре до пояса, сидели на лавках и курили. У низкой печки стоял Виталий Игумнов и держал над огнем котелок на палке. Как только офицеры ворвались в баньку, сидевшие вскочили и вытянулись. Лишь один Игумнов, не решаясь бросить котелок в огонь, продолжал держать его на палке обеими руками и на появление начальства реагировал тем, что повернул в сторону офицеров голову и посмотрел весьма враждебно – как человек, которого оторвали от очень полезного дела.
– Что здесь в конце концов происходит? – взорвался после недолгого оцепенения Набоков.
– Как что? – удивился Игумнов. – Картошку варим.
Это была правда. Раздобыв картошки, курсанты носили ее в баньку и здесь варили. Поняв наконец, чем занимаются его воспитанники, полковник Набоков круто повернулся и вышел красный от возмущения и стыда, направился к своему домику.
Оставшиеся в баньке офицеры не знали, что делать им дальше и что хотел выразить Набоков своим уходом – суровое осуждение или, наоборот, нежелание заниматься пустяками. Первым опомнился Шелагин. Он вытащил блокнот и переписал всех курсантов, не преминув заметить, что они нарушают форму одежды. Затем приказал загасить печку и вообще прекратить безобразия.
На следующий день Набоков собрал в училищном зале весь первый курс.
Неслужебным, мягким голосом заговорил о том, что страна не оправилась еще от военной разрухи, что он, начальник училища, понимает, как непривычно после гражданки попасть на паек, что он сам лично не раз проверял раскладку продуктов в столовой, выгнал двух интендантов, отдал под суд повара, что сейчас курсанты получают грамм в грамм свою норму. Пройдет несколько месяцев – и они привыкнут к рациону. Ведь не жалуются же старшие курсы, хотя питаются тем же! А пока не следует ли пойти на такой вариант: изменить часы приема пищи (обеда и ужина) так, чтобы они падали на самое «голодное» время дня?
Полковник оглядел притихшие ряды курсантов – они сидели, как на лекции.
– Вот я вас спрашиваю, друзья, в какое время дня вы больше всего хотите есть?
Никто не успел еще поразмыслить над вопросом, как Игумнов громко выпалил:
– После обеда, товарищ полковник!
Только Шелагин не рассмеялся, наполненный подозрениями и догадками.
– Сорока, плохо воспитываем, – подытожил он. – Крути гайку.
Старшина, получив указание, гайку крутил до срыва резьбы. Курсанту Игумнову запретили после зимней сессии ехать в Москву – чтоб не отъедался и не пропитывался пережитками. В первое же увольнение Виталий напился, пришел в училище и заорал:
– Где Шелагин? Где эта брянская дубина? Подать его сюда!
Пьяных слушают только в милиции, в армии с пьяными не говорят, их укладывают на койку, а утром уже разбираются: с кем пил, сколько, где, когда и на какие деньги. Шелагин брезгливо оглядел Виталия и приказал окатить его холодной водой. Появился приказ: «Курсант Игумнов, сознательно приведя себя в бессознательное состояние путем распития 0,5 л водки…» Короче – десять суток ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Стращая первокурсника, Мефодий Сорока напутствовал:
– Ты у меня побалуешься на гауптической вахте!
6
Гимнастерка обрезана почти до ремня, воротник свободолюбиво расстегнут, сапоги (офицерские) начищены до неправдоподобного блеска – таков курсант на танцах. Виталий не отличал мазурку от гавота, офицерских сапог не имел, но лихо отплясывал фокстрот и танго. Очень скоро он познакомился с сестрами Малиниными, ходил к ним по воскресеньям, слушал, как старшая, консерваторка, выстукивает на рояле что-то из Глазунова. Младшая обучалась в пединституте и красиво рассуждала о воспитании. Мамаша, дама из профсоюзного актива, помогала дочкам, оттеняя их интеллигентность не очень искренней простотой домашнего обихода. В этой семейке Виталий встретил майские праздники, даже целовался с кем-то. Потом все разлетелось вдребезги.
В начале мая объявили о подписке на новый заем. Виталия назначили агитатором и послали на ткацкую фабрику. С заполненными ведомостями зашел он в партком и увидел сестер. Тоже агитаторы, они упрашивали какую-то женщину подписаться на две зарплаты. Женщина скучно и рассудительно доказывала, что никак не может подписаться, потому что ее сынишка идет в первый класс и много ему надо – и портфель, и форма, и учебники, и обувь, и пальтишко.
Сестры, увидев Игумнова, улыбнулись ему и ужимками дали понять, что вот оформим эту женщину и будем свободны. Виталий сидел, ждал, слушал… Сестры не понимали женщину, не верили ей и настойчиво советовали меньше тратить на еду, на развлечения, тогда и останутся деньги на пальто и книжки.
– Сыну, что ли, меньше кушать?
– Ну да. И вам. Надо же помогать родине.
Двадцатилетняя Аня, более сообразительная, воскликнула вдруг:
– Что мы все говорим о вашей зарплате? Муж ваш тоже ведь зарабатывает!
– У меня нет мужа.
– Как так нет? Погиб? Пенсию, значит, получаете!
– У меня нет мужа, – с прежним упрямством повторила женщина, но рука, защищаясь, поднялась к горлу. – И не было.
Нина, младшая, обидчиво округлила рот:
– Сами тогда виноваты…
Женщина встала, не то крякнула, не то прохрипела что-то и ушла, не отрывая рук от горла… У Виталия противно дрожали колени, чем-то закупорились уши, сестры разевали рот, что-то спрашивали, он не слышал их.
– Какие вы дряни…
Они не поняли, не поверили. Уходя, он сказал еще раз:
– Вы, вы – дряни.
7
Газеты известили о появлении «плесени». Причисленные к «плесени» молодые люди круглыми сутками сидели в ресторанах, пропивали родительские денежки, а если и покидали ресторан, то для того лишь, чтоб, сев за руль подаренного папашей автомобиля, задавить прохожего с умеренной зарплатой.
Отсюда – от родительских денежек – и преступность в стране, и все беды.
Генерал Игумнов бывал в Москве редко: служба протекала в заграничных командировках. Начитавшись газетных фельетонов, генерал прислал капитану Шелагину письмо. Генерал писал, что приветствует стремление капитана привить сыну истинно офицерские навыки и впредь будет поддерживать Шелагина во всем.
К письму прилагался документ, дающий комбату право получать курсантскую стипендию Виталия Игумнова. Деньги ему выдавать на руки только на самое необходимое.
Комбат оповестил офицеров о предоставленной ему свободе и с жаром продолжил воспитание.
В летний отпуск Игумнов не попал: отсиживался на гауптвахте. Узнав об очередном ударе, он решил, что не попросит у комбата ни копеечки. Не стал записываться в увольнения. Но Шелагин по собственному курсантскому опыту знал, как губительно долгое сидение в казарме. Он заставил Игумнова одеться, вручил ему увольнительную, дал деньги – на кино и трамвай. Виталий швырнул их на улице в канаву и до полуночи ходил вокруг училища.
Остряки советовали ему утешиться тем, что к выпуску он станет миллионером. Утешение слабое.
В пяти километрах от города – пристань, сюда и приехал в воскресное утро Виталий. Снял погоны с шинели, выдрал звезду из шапки, сошел за демобилизованного солдата, до вечера таскал мешки под тяжелым ноябрьским небом. Спина не гнется, суставы побаливают, зато в кармане сразу две стипендии. Три таких воскресника – и денежная проблема решена. Теперь можно насладиться мщением, напиться и поскандалить в батарее.
На этот раз он не попадает на гауптвахту, его выручает плеврит.
Температура подскочила до сорока, Виталий очнулся в госпитале, открыл глаза – в изножье койки сидела жена врага, Катя, женщина ничем не примечательная, серенькая особа, без претензий. Многие, правда, находили Катю Шелагину симпатичной. А что в ней такого? – возражали знатоки из курсантов. Курноса, ноги тонкие, как спички, в фигуре ничего женского, худа, длиннорука.
Виталий поспешил закрыть глаза… Но Катя не вставала и, странно, действовала как-то успокаивающе: спать хотелось под этот голос и неприятно было не слышать его.
Как все медсестры, Катя преклонялась перед искусством врачей и, как все медсестры, полагала, что не хуже их разбирается в медицине. Так это или не так, но Виталий поправлялся быстро. Попросил Катю ускорить выписку, с улыбкой слушал ее милую дребедень по утрам, когда обход закончен и все микстуры выпиты.
Подполковник-танкист, редко открывавший рот, произнес однажды с лирическим надрывом:
– Бывают же такие женщины… Ничего не надо, пусть только сидит рядом и говорит о погоде… Век бы слушал.
Навещали курсанты, приносили новости. Перед самой выпиской предупредили: комбат ищет повод, чтоб не пустить его, Игумнова, в зимний отпуск, грозится вновь посадить на гауптвахту.
– Я его сам посажу! – Виталий отбросил одеяло и долго ругался.
8
Все училище следило за этой парой – Шелагин и Игумнов. Комбат хранил письмо генерала рядом с партийным билетом и размахивал им, когда его начинали урезонивать. Сорока и тот чувствовал что-то неладное. Письмо он тоже прочел и выразился туманно: «С етим делом надо бы помягче».
В схватках с Шелагиным затачивался характер Игумнова. Он стал осторожен, стремителен и нападал без предупреждения. В мелких стычках себя не истощал, сохранял силы для крупных операций.
Однажды Шелагин обходил строй увольняющихся, дошел до Виталия, подергал пуговицы на его шинели. Все как будто в норме, но нерадивому воспитаннику надо напоминать и напоминать. Вдруг Игумнов прервал его:
– Но и вы тоже одеты не по форме.
– Как? Где? – Степан Сергеич отступил на шаг и оглядел себя. Не нашел ничего подозрительного и уставился на курсанта.
– У вас на кальсонах, – процедил Игумнов, – пуговицы неформенного образца.
Строй дрогнул. Дневальный убежал в уборную – отсмеиваться.
Рассерженный комбат тут же отправил Виталия на гауптвахту.
Офицеры уже в полный голос говорили о том, что Шелагина надо умерить, а тот упрямо доказывал Набокову, что его, Шелагина, требовательность основана на статьях устава, а уклонение от устава – гибель для армии.
– Верно, – кивал Набоков. – Правильно. Но устав не может охватить все случаи жизни, типовые обстоятельства – это да. Он дух, а не буква.
Устав говорит, что к военнослужащим, не выполняющим приказа, применяются все меры воздействия. Насколько я знаю, вы же не занимаетесь рукоприкладством.
– Это оговорено уставом, – возражал комбат. И цитировал: – Своими действиями командир не должен унижать человеческое достоинство.
– Вот-вот… А что такое человеческое достоинство? Не только требование не тыкать подчиненного. Здесь тонкость, здесь индивидуальный подход…
– Мои действия в отношении курсанта Игумнова одобрены его отцом.
Полковник умолкал: спор с самим генералом Игумновым невозможен.
Все же он написал обстоятельное письмо генералу Игумнову.
Игумнов-старший инспектировал учения, письмо получила Надежда Александровна и на самолете вылетела в город на Волге. Она сняла номер в гостинице военного коменданта, два-три телефонных разговора – и сын, живой, и здоровый, с отпускным билетом в кармане входил к ней.
Встреча была безрадостной. Виталий позволил обнять себя, отстранил мать, сел у окна, на нее не смотрел.
– Набоков предлагает перевести тебя в ЛАУ – ленинградское училище.
– Все равно…
Гостиница находилась в одном здании с комендатурой, окна номера выходили на плац, где арестованные носили кирпичи, мели двор. И он недавно тоже под винтовкой таскал здесь дрова, махал метлою. Скорей бы выпуск, попросить у отца назначение в глушь, на Сахалин или Камчатку, это отцу понравится; это он сделает. Послужить год или больше, обдумать жизнь.
Перевестись в Московский округ, поступить в академию. Все, кажется, просто, а вдуматься – сплошной туман. Как сложится служба, с кем придется служить?
Надежда Александровна возобновила старые знакомства, умело обработала окружное начальство. Шутя поговаривали, что жена Андрея Васильевича Игумнова по пробивной силе равноценна артиллерии резерва главного командования.
Собрался консилиум. Удивленный оборотом событий, Виталий послушно подставлял грудь и спину, его выслушивали и выстукивали. Много раз простужаясь на пристани, Виталий подпортил себе легкие и ко времени консилиума чуть-чуть прихварывал. Врачебная комиссия присоединила к этому нервное расстройство, и росчерком пера командующего округом курсант Игумнов был уволен из рядов Вооруженных Сил.
– Ты поправишься и поступишь, если захочешь, на третий курс училища… этого или другого, там видно будет. Так, сынуля?
Он промямлил что-то в ответ… Защемило грустью, какая-то часть жизни прожита, и, оказывается, напрасно. Уже началась летняя практика, в училище пусто. Виталий побродил по коридорам, постоял у кабинета Шелагина. Ни ненависти, ни радости, ни огорчения – только равнодушие и еще что-то похожее на признательность. Он догадывался, что Степан Сергеич заложил в него, сам того не понимая, свою страстность, научил его, не подозревая, изворотливости и осторожности.
На стене – новинка, свежая русская пословица: «Крепка рука у советского моряка». Виталий нащупал карандаш, хотел написать на плакате что-то озорное, но настроение не то и взвод, с которым он так и не простился, уже в прошлом.
К отходу поезда подошла Катя, спотыкаясь под взглядами Надежды Александровны, принесла в кулаке остатки курсантских стипендий Виталия.
Отдала незаметно деньги, робко протянула руку. Надежда Александровна понимающе улыбнулась: благодарю вас, девушка.
– Твоя знакомая?
– Да.
Поезд набирал скорость, проплывали окраины. Надежда Александровна продолжала улыбаться, посматривая на почему-то хмурого сына. Все людские несчастья, верила она, происходят от козней «мужчин» или «женщин» и поэтому мягко, по-дружески напомнила:
– В Москве много красивых девушек, сынуля.
– Отстань.
Мать обиделась, заговорила резко и быстро:
– Эти умники не могли ничего лучшего придумать, как определить у тебя зачатки туберкулеза. С таким же успехом они нашли бы эпилепсию. Слава богу, все позади. Поступишь осенью в институт, и… все пойдет нормально. Я давно говорила отцу, что офицера из тебя не получится. Но он паникер.
Отодвинулась дверь соседнего купе, кто-то выглянул и загнусавил с типично московской бесцеремонностью:
– Надеж Санна? Какими судьбами! Какая радость!
И голос знакомый и все, впрочем, знакомо.
9
Курсанты вдоволь наупражнялись в летних лагерях, отгуляли отпуска, вернулись к своим командирам. Капитан Шелагин прошел вдоль строя батареи и растерянно посмотрел на Сороку… Чего-то не хватало Степану Сергеичу, будто забыл он, спеша на службу, что-то взять с собою. Фуражка на голове, китель и брюки выглажены, документы в кармане, часы, папиросы, ключи от сейфа – все при нем. Так что же?..
Игумнов, догадался Степан Сергеич, Игумнова нет.
Странное было это чувство, непонятное. Много раз в тот день доставал Степан Сергеич письмо от генерала, вчитывался в обратный адрес: Москва, улица, дом, квартира. Как поживает там его бывший курсант, помнит ли о нем?
Через полгода завыли сирены и гудки, в весенних лужах стояло выведенное на плац училище, прощаясь с вождем. Плакал Степан Сергеич, плакали курсанты, плакал полковник Набоков, плакали офицеры…
Степан Сергеич проснулся утром и не понял, жив он или нет. Странно:
Сталин умер – а он жив. Дикость какая-то. Степан Сергеич прислушался.
Каплет с крыш, дергается ветром форточка. Выглянул в окно – солнце стоит на месте, не падает. Странно. Люди ходят, училищный грузовик проехал работают, следовательно, двигатели внутреннего сгорания. Странно.
Как жить-то дальше? – задумался комбат. Тяжело, непривычно. Некоторое облегчение принесла свежая установка: жить по заветам Ленина, идти по сталинскому пути, руководствуясь указаниями ЦК. О ней, установке, поведал Степану Сергеичу сосед, интендант Евсюков.
Вот уж кого смерть вождя взбодрила. Погоревав со всеми, интендант развил кипучую деятельность, продовольственно-фуражные дела свои забросил, в перерывах между занятиями собирал вокруг себя курсантов и вел однообразные, но зажигательные речи, давшие многим повод подумать, что нет, не интендантом рожден Евсюков, не интендантом! Нужны решительные меры, ораторствовал Евсюков, дабы в зародыше пресечь появившиеся шатания и брожения. Мировой империализм не преминет воспользоваться случаем, требуется максимальная бдительность, армия должна продемонстрировать свою готовность отразить любые удары, и показать эту готовность следует в ближайшее же время, иначе несдобровать, иначе… И Евсюков разворачивал выдранную из атласа карту, прокуренным рыжим ногтем водил по Восточному полушарию. Затем понижал голос и сообщал, что пришло ему в голову, каким показом своей высокой боеготовности должно ответить училище на происки врага.
Степан Сергеич обозлился, когда услышал, каким образом Евсюков хочет пригрозить мировому империализму. «Каша третий день пригорает в котлах, а ты…» – выругался он и прогнал от себя завиралу интенданта. Мелькнула мысль даже: а не сходить ли в политотдел да предупредить? Уж очень вьется Евсюков среди офицеров и курсантов явно в поисках людей, способных идею интенданта претворить в жизнь.
Два года войны с Игумновым рассорили капитана Шелагина с политотделом, с начальником училища и даже с курсантами его батареи, он их, курсантов, как-то разучился понимать, все силы свои бросив на борьбу с одним-единственным шалопаем. Правда, он сделал попытку встретиться с Набоковым, но к тому попасть было практически невозможно, полковника отправили в окружной госпиталь, удалялся осколок, очень не вовремя давший о себе знать накануне первомайского парада. А начальник строевого отдела, исполнявший обязанности Набокова, явно, как догадывался Шелагин, поддерживал Евсюкова, склонялся к тому, что на параде училищу надо, обязательно надо показать всему городу свою несмотря ни на что возросшую боеготовность. Как показать – это выяснилось уже после парада. По давно заведенному порядку в гарнизоне курсанты училища проезжали мимо трибун, сидя в бронетранспортерах, по сигналу с ведущей машины поворачивали голову направо. Вот и весь парад, подготовка к нему особых усилий не требовала, матчасть, то есть соединенные с транспортерами орудия, не проверялась, казенная часть орудий закрыта чехлами, стволы их подняты на небольшой угол возвышения. Идея же Евсюкова, активно поддержанная начальником строевого отдела, была такова. Под чехлы на места вертикальных наводчиков тайно посадить курсантов. По команде с головной машины они должны завращать штурвалы механизмов вертикального наведения, чтобы стволы плавно задрались кверху. Главное – добиться синхронности, вздыбить стволы одновременно, поразить трибуны.
Ровно в пять утра поднялся Шелагин в первый день мая, не ведая еще, что днем этим обрывается его служба в армии. Небо хмурилось, ветерок посвистывал, но такое бывало и прежде, и ничто уже не могло остановить парад и демонстрацию, и ничто не предвещало позора.
Парад начался. Прошел сводный офицерский батальон курсов усовершенствования, протопало пехотное училище, за ним другое, пошли армейские подразделения, на площадь вступила техника. Начальник строевого отдела дал команду – и скрюченные под брезентом курсанты завращали подъемные механизмы. Эффект получился неожиданным. Бронетранспортеры растянулись на четыреста метров, самая задняя машина еще не появилась на площади, осторожно ползла по улице, и поднятый ствол орудия дульным тормозом зацепил металлический трос, который стягивал два фонарных столба на разных сторонах улицы. Бронетранспортер вздрогнул, налетев на невидимое препятствие, водитель прибавил обороты, столбы выдернулись из земли и поволоклись. Празднично одетые горожане бросились врассыпную, чего не мог видеть курсант под чехлом. Волочащийся слева столб разогнал сводный оркестр, а правый уже подбирался к гостевым трибунам, на них пожаром вспыхнула паника. Все смешалось на площади, из вопящих глоток сыпались приказания и команды, истошно кричали женщины. Сводный оркестр перегруппировался и бодро грянул «Прощание славянки»…
На последнем, столько бед наделавшем бронетранспортере находились курсанты Шелагина. В числе первых арестовали и его. Одиночная камера, куда поместили Степана Сергеича, показалась ему обжитой, в ней еще сохранялось человеческое тепло. Восемь шагов от стены к стене – и так несколько часов подряд. Степан Сергеич готовился к самому худшему, вымеривая шагами истертый участок бетонного пола. На допросах вины своей не отрицал. Да, о том, что задумал Евсюков, знал, дважды хотел доложить Набокову о готовящемся, но его не пустили к нему, а потом было уже поздно, полковника отправили в госпиталь. И за курсантами недоглядел, контакт с ними нарушился, все силы свои истратил на перевоспитание генеральского сынка. В следственном деле косвенным доказательством лежали письма генерала Игумнова, адресованные комбату Шелагину, и письма эти, внимательно изученные следователями, решающе повлияли на судьбу арестованного. Ему вернули брючный ремень и – по недоразумению, конечно, снятые – погоны, вывели из камеры и приказали идти домой и там уж дожидаться решения командования. Было это под утро, трамваи еще не ходили, да и ни копеечки денег не оказалось в кармане. Больные, измученные глаза Кати встретили Степана Сергеича дома, и по глазам ее он понял, что дела его плохи, очень плохи, и даже срочно покинувший госпиталь Набоков не спасет его.
Под суд офицерской чести – таково было единодушное мнение комиссии, и полковник Набоков подписал приказ.
На суде Шелагину припомнили все прегрешения. Набоков вывозил его как мог, попросил рассказать, как воевал комбат в Венгрии, в Манчжурии. Степан Сергеич потупился и сказал, что и воевать-то он не воевал, всего в пятнадцати боях участвовал, и орден последний неизвестно за что получил. Это произвело неприятное впечатление…
Степан Сергеич истуканом выслушивал все речи, промычал что-то вместо оправдания… Растолкали его после возгласа: «Встать! Суд идет!» Шелагин одернул китель, расправил грудь. Выслушал приговор и продолжал стоять, пощипывая пальцами борта кителя. Тяжело вздохнул и поплелся к дому.
Катя все уже знала, прижала Колю к себе, защищая сына неизвестно от кого, сидела в темноте. Так всю ночь и просидели без света, без слов. Под утро Катя переложила сына на кровать и сказала обыденно, словно дров попросила наколоть:
– Жить надо, Степан.
Жить… А где жить? Куда ехать? Где, как и кем работать?
Степана Сергеича охватил страх, небывалая растерянность, никогда еще не испытанное чувство полной беззащитности. В ожидании приказа он не выходил из дому, тыкался, расхаживая, в стены. То впадал в отчаяние, вспоминая, что у него нет никакой специальности, даже какой-нибудь завалящей, единственное, что он может делать – это выстругивать сыну игрушки. То упрямо твердил себе, что нет, не бросит партия на произвол судьбы преданного ей человека.
Полная разруха царила в душе Степана Сергеича, зато в Кате стали пробуждаться мощные силы созидания. Все чаще задерживалась она у коек некоторых исцеляемых ею больных, вознаграждалась верными советами, кое-что выпытала у своего непутевого мужа и однажды обрушила на него предложение: надо ехать в Москву и жить там! Дотла сожженная деревенька Степана давно уже не существует, родичи погибли или вымерли, начало войны застало Степу в Москве, в гостях у тетки, родственницы дальней, но все же – родственницы, там же в Москве его забрали служить, туда и могут отправить после демобилизации, и сама она родилась в Москве, это тоже учтут…
Несколько озадаченный бойкостью жены, Степан Сергеич отправил тетке путаное письмо. Та ответила телеграммой: «Приезжайте».
Опять громыхающий вагон, опять поездные волнения. Наконец семья с чемоданами вышла на площадь трех вокзалов. Степан Сергеич оробел. Громадный город подавил его шумом, самоуверенностью людей, криками, звонками, мгновенно образующимися очередями. Ошеломленный, боясь выпустить из рук чемодан, стоял он, и страх обволакивал его. Прошел мимо таксист, спросил шепотом, куда им надо, обещал подвезти, но торговаться не стал, пробурчал что-то о «деревне» и пропал в толпе. Степан Сергеич вспылил, бросился было вдогонку, но Катя удержала его. Придерживая сына, ухватившись за мужа, она, тоже подавленная, жадно смотрела и слушала. Москву она подзабыла: мать увезла Катю на восток много лет назад, но шумы и запахи родного города, ворчание толпы пробуждали в ней воспоминания о себе – умненькой и бойкой московской девочке. Отдав сына мужу, она смело врезалась в толпу и привела молоденького шофера. Тот помог вколотить чемоданы в багажник, удобно рассадил всех, и такси покатило в глубь грохочущего, как поезд, города.
Полуглухая и полуслепая тетка встретила их радушно. Сказала, что переселится в чулан, а уж им отдаст все остальное, то есть пятнадцатиметровую комнату.
Дом стоял на улице Юннатов, рядом со стадионом «Динамо». Окна выходили во двор. Пенсионеры рубились в «козла», мальчишки неистово гоняли мяч.
– Проживем, – уверенно сказал Шелагин. Начинать новую жизнь не казалось ему теперь диким. Есть свой угол, найдется работа. Живут же люди.
– Проживем! – еще более уверенно произнес он.
Катя быстро и ловко разбирала вещи, на ходу кормя Колю, объясняя что-то тетке, советуя Степану.
Через десять дней Шелагин уже работал начальником охраны филиала швейной фабрики. Катя устроилась поблизости, в медсанчасти академии Жуковского. Коля под надзором тетки бегал по двору.






