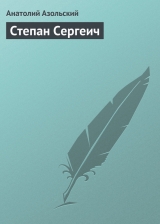
Текст книги "Степан Сергеич"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
58
Петров вспомнил вдруг о «Кипарисах», о «послеобеденном эффекте» экземпляра No 009 и улетел в Кызылкумы. Хватило двух дней, чтобы разобраться в причине дефекта. В душные летние месяцы геологи начинали работать в пять часов вечера, когда «Кипарисы» от сорокаградусной жары накалялись до шипения и потрескивания. Бареттеры канального блока и стабилизаторы анодного не выдерживали высокой температуры, полупроводниковые диоды выпрямителя скисали. Пять часов вечера среднеазиатских радиометров соответствовали часу дня того московского «Кипариса», на котором обнаружилось удвоение показаний, «Кипарис» (это вспомнил Петров) стоял рядом со включавшимся утром калорифером.
Труфанов получил телеграмму. К блокам питания придали вентиляторы, изменили условия приемки.
Каракумские и кызылкумские «Кипарисы» везли в Ташкент на верблюдах и самолетах. Петров снял номер в гостинице. Слонялся по древнему базару, бродил в сизых сумерках по предместьям. Сбросил рубашку, восстановил бронзовый отлив кожи. В чайхане у рынка под старческий клекот аксакалов пил, спасаясь от жары, зеленый чай. Что влекло его сюда, в этот город? Неужели древность? Когда жизнь может пресечься завтра или послезавтра, всегда хочется коснуться вечности, спуститься в подземелье бани, где на зеленые склизкие стены плескал воду Ходжа Насреддин.
Почти каждый день писал он Лене и почти ежедневно получал от нее исписанные крупным почерком листки в авиаконверте с одним и тем же рисунком – медвежатами, приветствующими самолет. Он мало говорил о себе, бродя с Леной по Кутузовскому проспекту; худшая часть жизни его кончилась, он уверен был, в тот день, когда Лена пришла в цех. Зачем вспоминать о старом? Он писал из Ташкента о нравах базара, о детях в халатиках и тюбетейках, о древних, уходящих под землю банях, о мангалах и сочащихся шашлыках, о том, что ему двадцать девять дет, а жизнь потекла вспять.
Совсем безобидные письма. А она что-то видела между строк, читала ненаписанное и отвечала: «Тебе плохо в этом городе, Саша, ты чем-то взволнован…»
Петров дивился. Написал о вокзальной суете ничего не значащие слова.
Получил ответ. Лена просила его не тревожить себя местами, с которыми что-то связано, не наводить себя на плохие мысли.
– Это что-то непонятное, – сказал Петров. – Мудрый эмпиризм греков, которые, отбросив каменный топор, создали атомистическую теорию. Изначальная мудрость.
Он тоже умел читать письма. В них проскальзывали тревожные сведения. В регулировке происходило что-то непонятное. А Мишель отстукал странную телеграмму: «Якорь поднят, вымпел алый плещет на флагштоке».
59
На подходе к своему тридцатилетию Мишель стал одеваться солиднее, лицо его пополнело, лоб при раздумье рассекался умной морщиной, у магазинов его уже не окликали. Пил он умеренно, но слухи о его пьянстве ширились и ширились. Общежитие – десять трехкомнатных квартир в институтском доме; в каждую квартиру вселяли столько, сколько туда влезало. Мишель хорошо ладил с соседями, но те вскоре переженились, в квартиру нагрянули молодые специалисты, подобрались они один к одному, умно трещали о цивилизации, до хрипоты спорили о физиках и лириках, выбили себе максимальные оклады. Мишеля они презирали, брезговали им, кричали на всех этажах, что не для того кончали они вуз, чтоб терпеть рядом с собою наглеца и хама. В полном составе пошли к Баянникову, чтоб тот выселил отъявленного проходимца, позорящего звание советского инженера.
Ну, решили в НИИ, Стригунков пробкою вылетит из общежития, уж очень недолюбливал его заместитель по кадрам и режиму, ненавидел даже неизвестно за что. Кое-кто утверждал, что в истоках ненависти – общие татарские корни обоих, но более осведомленные припоминали событие пятилетней давности: Мишель в те времена был начальником бюро технической информации, обязанности свои понимал слишком широко и на каком-то совещании о Баянникове отозвался так: наш подручный.
Виктор Антонович одобрил инициативу молодых специалистов, создал комиссию по проверке морального облика Стригункова и всячески содействовал ей. Но комиссия, ко всеобщему удивлению, полностью оправдала Мишеля, а специалистам пригрозила.
И вдруг он уволился – по собственному желанию. Рано утром положил на стол Баянникова завизированное Немировичем заявление об уходе. Виктор Антонович вонзил в Стригункова свои окуляры. Трудно что-либо прочесть глаза опущены, лицо мертвое, неподвижное… Но на долю секунды из-под век сквозь ресницы мелькнул торжествующий огонь радости, мелькнул и сразу погас, Мишель покинул кабинет, а Виктор Антонович все протирал окуляры да двигал недоуменно своими как бы обожженными бровями. Он знал, что когда-нибудь Стригунков уволится, вернее, его уволят. Виктор Антонович умел угадывать судьбы людей, почти точно определял он, будет ли инженер связывать свою жизнь с институтом, доволен ли будет рабочий порядками на заводе.
Нет, не так представлял себе Баянников расставание с Мишелем Стригунковым. Впереди еще две недели, что-то будет! Неизвестно, как посмотрит на заявление Труфанов, какой цепью прикует должника.
Анатолий Васильевич узнал о заявлении от Немировича. Надел очки, прочел… Произнес гневно:
– Мерзавец!.. Как волка ни корми… Слава богу, я не либерал.
Прекраснодушие – оно у меня есть – в данном случае применено не будет. Я дам знать охране…
Предупрежденные директором вахтеры обнюхивали по утрам Стригункова угрюмого, с бутербродами в пакетике. Он курил только в обеденный перерыв, в столовую не ходил, анекдотов не рассказывал, вообще ничего не говорил.
Когда двухнедельная пытка кончилась, он получил деньги, трудовую книжку, пересек улицу, стал напротив института и исполнил бешеный танец, грозил всему корпусу кулаком, бесчинствовал, выкрикивал неразумные проклятия… Больше его никто не видел, уехал ли куда он, не уехал – не знали. Был человек – и нету его.
60
Где-то в середине июня, в день, ничем не отмеченный, Дундаш появился на работе в костюме, предназначенном для Станфордского университета. Думали, что он поносит его до аванса и снимет. Но и двадцать второго, после аванса, он пришел в нем. Так и ходил теперь на работу, стилем одежды не отличаясь от десятков молодых инженеров. Пока Петров разъезжал по геологам, бригадиром назначили Сорина. У него Дундаш не клянчил по утрам ключ от сейфа. Пить он, видимо, не перестал, но никто не видел его сидящим в «Чайке» или призывно стоящим у входа в магазин на Песчаной. Он учился на третьем курсе заочного, переселился к молодым специалистам – на пустующую койку Стригункова. Часто наезжал в знакомый пригород, чинил телевизоры и приемники, у него водились деньги, он не скрывал, что держит их в сберкассе.
– Жениться вздумал, – предположил Петров, когда, вернувшись, услышал об этом от Сорина и пригляделся к преображенному Дундашу.
О мелких шкодах регулировщика Фомина стали забывать. К новому обличью не подходило и прозвище, он на него не откликался. Бешено учился: писал контрольные, читал по-английски. На собрании по итогам месяца поразил всех сдержанной страстностью выступления.
Когда после собрания переодевались в регулировке, Петров произнес:
– Шестая колонна подняла голову? А ты уверен, что настал подходящий момент? Не ошибись…
Дундаш будто не слышал. Повесил халат, пристроил на шею галстук, надел станфордский пиджак.
В киоске у метро Фомин покупал газеты, читал их по утрам внимательно, как инструкцию по настройке. Некоторые статьи повергали его в тихое раздумье. «Приму» не курил, перешел на «Казбек». Познакомился с парикмахером, стригся только у него, под Жерара Филипа, прическа занизила высокий лоб, получилось выразительно и скромно: решительный по-современному молодой человек, знающий цену словам и поступкам, такого не проведешь на мякине. Охотно давал деньги в долг, не требуя быстрого возврата, доволен был, когда у него просили их, и доволен был, залезая за ними в карман.
Иногда казалось: встанет Дундаш, одернет халат, постучит по генератору отверткой и произнесет нечто выдающееся. Петров как-то присмирел, притаился, боялся чего-то, а чего боялся – не знал. Потом присмотрелся, прислушался и огорошено присвистнул: Дундаш охмурял Степана Сергеича, вился вокруг него, дублировал все призывы диспетчера, побывал и в гостях у него. «Да мы с ним земляки почти…» – такое объяснение выдавил из себя Дундаш. Поверить ему мог только мальчишка Крамарев, уже начинавший подражать Дундашу. А Петрову вспоминался давний разговор, совет регулировщику Фомину «организоваться в общественном смысле».
61
О первых «послеприказных» радиометрах потребители не отзывались, и это радовало директора: значит, работают на славу!
Вскоре организовали выставку, Труфанов и Тамарин отобрали на нее кое-что из старых приборов и три новеньких радиометра. Выставку посетили представители министерств, безжалостные пояснения давал референт из другого министерства. Труфанов ушам своим не поверил, когда все его приборы отметились наилучше. Референт начал с заупокойной, предательски точно заявив, что представленные радиометры – будущее НИИ, а не его настоящее, потому что НИИ только недавно вышел из прорыва. Прорыв как-то забылся, когда слушали аннотации на радиометры. Безжалостный референт прочел выдержку из черт знает откуда полученного отчета: «Сравнение показывает абсолютную надежность русской аппаратуры и оригинальность ее конструкторов. С полной очевидностью следует признать, что они все могут делать не хуже нас, а при соответствующей гибкости и быстрее, что необходимо учесть комиссии…»
Институтских инженеров (список подработал директор) премировали. Из заводских – Чернова и Сорина.
Шелагина среди премированных не было. Труфанов ждал, когда диспетчер заявит о своих заслугах, пожалуется на несправедливость.
Вместо Шелагина пришел Фомин. Сказал, что работает на заводе с первых дней. Не канючил, не требовал нагло-подобострастно, говорил веско и кратко, уважая себя и директора.
Анатолий Васильевич коротко глянул на просителя и отвел глаза… В его сейфе лежали три убийственных документа из вытрезвителей столицы, последний датирован ноябрем прошлого года. Их Труфанов никому не показывал, предполагал, что может возникнуть необходимость немедленного увольнения Фомина – и тогда документики заставят завком не либеральничать. Ну, а поскольку регулировщик Фомин производству нужен, то зачем его травмировать, зачем вызывать.
Сейф открылся. Директор поманил к нему Фомина, показал три убийственных документа и закрыл сейф на все три поворота ключа. Фомин сделал шаг назад и скрылся…
Глухое раздражение вызывал у Труфанова диспетчер – походка его, военная привычка одергивать, как китель, халат, посадка его за столом, прямая, как на лекции. Анатолий Васильевич стискивал зубы, напрягал себя чтоб не разораться на совещании. Вспоминал разговор с Тамариным: не лучше ли было бы придушить в зародыше нововведения? Убеждал, успокаивал себя, что без Шелагина пришлось бы не один выговор заработать, без него не стал бы он уважаемым директором, прокладывающим новую дорогу.
Но тягостно видеть человека, от которого в любой момент жди непредвиденных неприятностей. Как говорится, пошумели – и хватит.
Благоговейная тишина должна быть теперь в НИИ и на заводе.
62
Петров получил отпуск, но никуда не поехал, потому что Лена поступила в институт. Встречались они редко. В четверг и вторник Лена занималась вечером, Петров поджидал ее на «Бауманской», довозил до дома, рассказывал цеховые новости, целовал в подъезде. Она входила в лифт, кабина уплывала вверх, Петров отходил к стене и прослушивал набор звуков, отдалявших его от Лены, – мягкий скрип лифта, щелчок остановки, лязг закрываемой двери, минуту тишины и привычно раздраженный голос матери: «Ты опять опаздываешь…»
Выходил на проспект. В том же квартале на углу – дежурный гастроном, тепло, свет и обилие еды – это почему-то радовало, приятно было смотреть на розовое, красное и желтое мясо, на консервные башенки, в винном отделе радужное разнообразие бутылок, чуть дальше – россыпи конфет и пахнет свежемолотым кофе.
Пустота в квартире угнетала, Петров дал Сорину второй ключ от нее с решительным условием: девиц не таскать. Ключ Сорин взял, но к Петрову не ездил.
День воскресный, Лена с группой за городом, Петров поехал в центр с желанием напиться и поскандалить умеренно. Выбрал ресторан при гостинице, куда ходят иностранцы. Соседи по столику немного выпили, жаловались на тренера, который лупит по икрам тренировочной перчаткой. Русские ребята. Еще русская компания – молокососы с юными дамами. Мальчишки уже в подпитии, горделиво посматривают вокруг, девчонки неумело курят длинные сигареты и хлещут крюшон бокалами. Боксеры заспорили («с чего это школьники пить стали?»), заспорили намеренно громко. Петров предположил, что юнцы продали подержанные учебники, прибавили к ним «Детскую энциклопедию» и сэкономленные копейки. Мальчишки, забыв о школьных уроках вежливости, картинно порывались в драку, благоразумные дамы повисли на них, какой-то худосочный мальчик разрешил унять себя и бросил Петрову: «Я тебя схаваю вместе с котлетой!» Тот проявил большое миролюбие.
– Вы, ребята, ищете синяков, я вижу… А в нашей стране кто ищет, тот всегда найдет.
Боксеры заулыбались. Юнцы в притворном бешенстве вооружались тупыми для чистки фруктов – ножами. Появились дружинники. Петрова, главного зачинщика, поволокли на расправу к администратору, метрдотелю или как он здесь называется… Радуясь, что денег хватит на самый грабительский штраф, Петров спокойно шел к столу.
– Здравствуй, Саша, – кисло произнес упитанный человек, восседавший в кабинете.
– Здравствуй, Мишель! – сообразил Петров. – Отправь-ка свою челядь подальше…
Слабым мановением белой ручки Стригунков очистил кабинет.
Первоначальное смущение прошло, взятый Петровым тон придал встрече старых друзей непринужденность. Традиционное рукопожатие, улыбки – и Стригунков посадил друга за дружеский столик. Открыл ликер-бар, вынул русскую водку с иностранной наклейкой, коньячные рюмки. Щелкнул зажигалкой.
– Живу. Обитаю. Руковожу.
– Чудесная сигарета.
– Наша, отечественная. Иностранное дерьмо не держу. Что, кстати, случилось у тебя?
– Привязались какие-то сосунки по причине мировой скорби… Я в командировке был, когда ты скоропостижно отвалил из НИИ.
– Я давно хотел уйти оттуда…
– Тебе – и плохо жилось? Наперсник директора, креатура, так сказать…
– …Уйти оттуда! – зло повторил Стригунков. – Давно собирался. Не ко двору я там пришелся. Никто меня всерьез не принимал за инженера, хотя я не хуже других добивался выходного импульса такой-то длительности, такой-то полярности, такой-то амплитуды… В отделе снабжения тоже не любили, потому что доставать шайбы Гровера поручали не мне, а им, меня берегли для особых заданий, как глубоко законспирированного шпиона. С тем и другим мириться можно. Когда я в военно-морское поступал… как ты думаешь, поступал я туда ради адмиральских погон? Никто туда, единицы разве честолюбивые, за адмиральской пенсией не идет. Простой расчет показывает, что адмиралов в тридцать раз меньше, чем капитанов первого ранга, не говоря о втором…
Поступал с ясно осознанным желанием вести труднейшую жизнь. Была жертвенная цель прожить с толком и умереть достойно, не ждал от жизни ничего теплого…
Не получилась служба, попал в струю, тогда, в пятьдесят третьем, гнали с флота за ничтожную провинность – оздоровляли флот. Не обиделся, когда выгнали, за кормой было у меня уже предостаточно. Потом, уже на гражданке, я скурвился окончательно, а оставался в сознании момент этот славный, жертвенный – жить для приказа о смерти, для жизни других, – оставался в чувствах момент этот… Забрал меня Труфанов к себе. Я, думаешь, шел к нему с мечтой аферы крутить во славу НИИ? Работать хотел честно, воли хватило бы наступить на свою пьяную глотку. Но Труфанову не такой Стригунков нужен был.
И жалость, конечно, была у него и человеколюбие, но и то и другое – не главное. Анатолий Васильевич человек умный. Дальновидный даже. Водка его не пугала, нет! Он что понял? Что взял? Что азарт во мне есть, что, кинь мне идейку, заданьице – побегу, как щенок за палкой. Ну и крутился и радовался, спасал-веселил – себя, его и вас всех, между прочим. Ну, а на смысл глаза закрыты. Когда не видишь и не хочешь видеть смысла, это для собственной шкуры весьма полезно. Степана Сергеича уважают в НИИ за смысл, который он, зная или не зная этого, вкладывает во все…
Дверь приоткрылась, человек в смокинге известил, что скоро придут музыканты, а микрофон испорчен.
– Я вам не радиомастер, – ответил со злостью Стригунков, – позвоните куда надо… А тут еще общежитие. Устроил меня Труфанов к молодым специалистам, нормально устроил, ребята правильные. Переженились, разошлись, другие пришли, новенькие, современные, последней модификации, принюхался я к ним – и тошно мне, Саша, стало. Они меня презирали за опохмеления по утрам, за пьянство, заметь это себе, но не за лакейство перед Труфановым. И я их молча презирал. Помнил моментик жертвенный… Ведь они, эти пятеро специалистов, не о благе народа, институт кончив, думали… Нет. О себе, только о себе! Наиболее способные хотели прославиться и швырять небрежно идеи коллегам из Харуэлла, а идеи разрабатывать в четырехкомнатных квартирах на Ленинском проспекте. Середнячки накрепко усвоили, что талант – это пот и труд, задницей мечтали высидеть докторов наук и опять же получить квартиру, окладик и современную жену, умеющую накрывать стол, модно танцевать и восторгаться Борисовой в «Иркутской истории»… Тебе, может, неинтересно слушать?.. – Петров возразил взглядом… – И у всех пятерых какой-то ненормальный зуд к загранице и заграничному. Видел бы ты, как смотрели они на референта одного академика, часто бывавшего на конференциях во Франции и Испании! Восхищало их не то, что референт умней стал, наглядевшись на новое.
В трепет приводил голый факт пребывания за границей – один голый факт, подкрепленный безделушкой. Ну и сцепились.
– Не понимаю, на что сдались тебе эти подонки. Их жизнь обломает. Я их повидал в регулировке достаточно. Год пройдет, два – и у большинства нет уже кандидатского зуда…
– Я к тому повел этот отвлеченный разговорчик, что… понял однажды, что я – во сто крат хуже! Что я вообще ничтожество, что мною помыкают и брезгуют, имея на то полное право. Что употребили меня и выжали с радостного моего на то согласия. Вот что противно! Добровольцем пошел!
– Ну, а вообще? Как ты попал сюда? У тебя же два диплома.
– Анатолий Васильевич позаботился. Никто меня не брал ни инженером, ни снабженцем, ни переводчиком. Могли некоторые директора взять, но что им я?
Будут они из-за меня портить отношения с Труфановым. Да и самому не хотелось идти загаженной дорожкой. А сюда – случайное знакомство с бывшим моряком.
Комнатку снял у одного пенсионера. Днем стиляжничаю на пианино, стоит инструмент у пенсионера, фильмики смотрю. К вечеру – сюда. Дежурный администратор со скользящим графиком работы. Вот какой я есть, нравится вам это или не нравится, но я живу, и не влезайте в мою душу. Бо я человек есмь.
– Стригунков отпил – самую малость. – Неудобство раньше испытывал, а сейчас хоть бы хны. Иногда подумываю злорадно: нате вот вам! Довольны?..
Веселясь, оглядывал Петров ультрамодный кабинет, сошедший с рекламных роликов кино.
– Кого же ты укорить хочешь, Мишенька? Труфанова? Никому ты ничего не докажешь, друг мой Мишель.
– Не собираюсь доказывать!.. Насчет Труфанова ты, может, и прав, а если подумать не о Труфанове, а об обществе… нет, Саша, обществу не должно быть безразлично, что думаю я, что думаешь ты. Пойдем провожу тебя, быстро сказал он, заметив нетерпеливое движение Петрова. – Ты-то сам, кстати, как?
– Да ничего… Тоже мне невидаль – сын врагов народа… Пора забывать. Забываю уже… Никуда не лезу, живу скучно, скоро женюсь и невесту себе выбрал такую же серую и скучную: не дура и не умница, не урод и не красавица.
– Друг мой, не притворяйся. В упрощенчестве – твоя гибель. Ты – и какой-то регулировщик… В тебя столько вложено.
– А ты уверен, что в меня вложено то, что надо?
По холлу сновал краснощекий кругляшок. Увидев Стригункова, он обрадовано вздернул руки, покатил навстречу; заговорил по-английски, зажаловался: в ресторане нет скоч-виски, что делать?
В ответ Стригунков улыбнулся с дипломатической тонкостью, открывавшей в вопросе собеседника нечто большее, чем тягу к шотландскому напитку. Он изменил походку, выражение глаз – не вживался, а с быстротой электромагнитных процессов трансформировался в новый образ.
– Подозреваю, мистер Моррисон, что тон ваших корреспонденций не изменится… благодаря мне. Скоч-виски действительно нет. Примите совет: мешайте старый армянский коньяк с нарзаном, вот вам и скоч-виски.
– В какой пропорции смешивать, мистер Стригунков?
– Не помню… Начните так: один к одному. Когда доберетесь до нужного соотношения, вам наплевать уже будет на скоч-виски, цензуру и соседа…
Мистер Энтони вчера очень обиделся на вас…
Еще один приблизился, тот же человек в смокинге, и разъяренно зашептал, что микрофон до сих пор молчит, а директор… При очередной трансформации друга Петров отвернулся стыдливо, потому что никогда еще не видел Мишеля таким испуганным и жалким. Да и смотреть было не на кого: вальяжный администратор давно уже – прытким щенком – унесся в зал.
Сухо щелкнул заработавший микрофон, слышно стало, как настраиваются скрипки. Мишель виновато стоял перед Петровым: не мог войти ни в одну из прежних ролей.
– У меня есть знакомые, я к ним не обращался, но могу обратиться, медленно произнес Петров. – Этим знакомым рад бы бухнуться в ноги твой властелин Труфанов… Они могут забрать тебя отсюда. Куда ты хочешь, Миша?
Скажи. Ну, куда?
– Куда? – Стригунков задумался. И ответил с полной серьезностью, тихо: – В кочегарку хочу. Самое теплое место на земле.
Штраф Петров уплатил в другом месте – «за нарушение общественного порядка».






