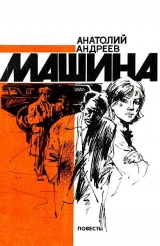
Текст книги "Машина"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
6
Несмотря на выходной, конструкторы работали. Начала поступать электроника, в цехах были уже готовы некоторые узлы и детали. Со дня на день должен был поступить сам автомобиль – «тележка», как его все называли.
Работа заводских конструкторов отличается от работы конструкторов в институтах. Сами они разрабатывают мало. Не конструируют. Основная их задача – обеспечить производство документацией. Они следят за тем, чтобы конструкция изделий наилучшим образом соответствовала требованиям производства.
Сейчас они спешно подчищали чертежи. Чертежи, в принципе, были готовы. Мелкие неточности можно было пока и не устранять. Фросин знал, что после первого образца будет множество изменений. В них наверняка попадут и эти уточнения. Но говорить ничего не стал.
Он расспросил о полученных электронных блоках, поговорил с ребятами, которые на неделе присутствовали при испытаниях изготовленных на заводе узлов.
Да, машина становилась реальностью. Это чувствовалось по всему. Это чувствовалось и по деловитой озабоченности конструкторов. Правда, Фросину эта озабоченность показалась излишней, и он так и сказал об этом Дюкову, начальнику четвертого отдела. Отдел организовался недавно. Начальника его, Дюкова, невысокого плотного мужчину, Фросин хорошо знал по старым производствам. Его молодое круглое лицо, всегда непроницаемое, сегодня было заметно оживлено. На правах старого знакомого Фросин и сказал ему вполголоса:
– Слушай, Володя, чего это ты горячку порешь? Что за необходимость работать в воскресенье?
Дюков покосился назад, туда где шуршали бумагами и негромко переговаривались его подчиненные:
– А это не я, это они сами решили. Я только не стал их отговаривать.
Он повернулся и пошел-покатился по коридору, подальше от дверей отдела, чтобы там не было слышно. Речь Дюкова, размеренная и какая-то весомая, резко контрастировала с его обликом, обликом круглого плотного мальчишки. И неподвижное лицо, и отличные (всегда почему-то светлые) костюмы, и степенные движения Дюкова – все казалось Фросину нарочитым, и он всегда ждал, что вот сейчас Володя Дюков расхохочется, подмигнет и отколет какую-нибудь совсем мальчишескую штуку. Но он штук не откалывал, был неизменно ровен в обращении, голоса никогда не повышал. В отделе его любили и побаивались – спуску он не давал, хотя был неизменно справедлив.
Чуть отойдя от двери, Дюков повернулся к Фросину:
– Понимаешь, пощупали они блоки, покрутили их и заволновались. Машина-то вот-вот придет.
Он достал сигарету, размял ее и закурил. Курить в коридоре запрещалось, и он, не торопясь, повел Фросина к курилке, хотя все сегодня пустовало и заметить нарушение порядка было некому.
– Им сейчас беспокойно, и пусть себе беспокоятся.– Дюков стоял, навалившись спиной на подоконник, щуря от дыма свои и без того узкие глаза.– По-моему, это лучше, чем потом их накачивать – давай, давай!.. Ну, а ты как съездил?– спросил он Фросина после паузы.
– Можно подумать, что ты там не бывал,– буркнул Фросин. Начинать серьезный разговор не хотелось, но все-таки он не выдержал:
– Чего спрашивать, как там? Там все в норме. Разрешили нам отступления от чертежей. Причем, с радостью разрешили,– он немного лукавил, не хотел говорить о тех боях, которые пришлось вести в институте.– Посмотрим, что нам здесь разрешат! Боюсь, что ничего...
– Ну, это мы поглядим,– протянул Дюков. Он тоже был упрям и свою точку зрения мог отстаивать где угодно и перед кем угодно. Фросин знал это, но буркнул:
– Не плюй против ветра, пригодится водицы напиться...
– А ты не пугай...– обиделся Дюков. Они докурили и вернулись в отдел.
Дюкова с порога окликнули, и он сразу закопался в какую-то техническую проблему. Фросин посмотрел еще немного на их работу и тихо, не прощаясь, вышел.
Жил Фросин недалеко от завода, в получасе ходьбы. Но сейчас ему не хотелось оставаться одному, тянуло к людям, и он сел в подошедший трамвай. В вагоне включили освещение и изнутри стало видно, что на улице уже сгущаются ранние зимние сумерки.
Дома было пусто, темно и одиноко. Не зажигая света, Фросин разделся и прошел в комнату. От батарей веяло сухим теплом. Фросин порадовался этому. С теплом всегда связано представление об уюте.
Синел из комнаты прямоугольник окна. С папиросы упал на пол столбик пепла. Фросин не шевельнулся – убирать все равно некому и ругать тоже некому. Но, встав с дивана, перешагнул через то место, куда упал пепел, чтобы не растоптать, и включил торшер.
Щелкнул выключатель проигрывателя. Фросин сунул на вращающийся диск первую попавшуюся пластинку, заранее убавил громкость, чтобы не спугнуть привычную уже тишину. Комнату наполнил приглушенный, рвущийся из динамика голос Высоцкого.
Фросин слушал и не слышал. Вчера ночью, в самолете, она рассказала, что была в Венгрии и Болгарии – по туристической путевке. Его остро кольнула зависть: он нигде не бывал, ему всегда было некогда. Но раньше он не жалел об этом. Чтобы заглушить сожаление, свести его к шутке, он напомнил ей Высоцкого: «Куда мне до нее, она была в Париже...» Она не поняла. Она мало знала Высоцкого. И он с грустью подумал: «Они не знают Высоцкого. Ансамбли там разные, трали-вали – это да, это знают. А Высоцкого – нет». Он немного кокетничал сам перед собой: ансамбли и трали-вали он тоже знал. И они знали Высоцкого. Но он так и подумал – «они». О ней и о ее сверстниках и друзьях, как бы проводя границу между собой и ими. И подумал, что это другое поколение, хотя между ним и ими легло всего лишь лет десять-пятнадцать.
С внезапной жесткостью он сказал ей об этом – о Высоцком и о поколениях. Он помнил полет Гагарина, который был для нее историей. Он помнил, как начинали выступать Эдита Пьеха и Эдуард Хиль, помнил Братскую ГЭС и мост через Енисей. Он помнил все, что составляло его молодость. Об этом он тоже сказал ей. Ее это мало задело. Да и почему бы это должно было ее задеть? Но слушала она с интересом, как слушают захватывающую сказку...
Пластинка кончилась. Фросин выключил проигрыватель, открыл форточку и лег. Дотянулся до торшера, щелкнул выключателем. Торшер погас. В темноте медленно разматывалась лента воспоминаний...
Он прошел вперед, спросил: «Разрешите?» – уверенный, что она ответит согласием – и сел, глядя перед собой и не торопясь повернуть голову и взглянуть на нее.
Включили полный свет. Прошла стюардесса, проверила, все ли пристегнулись. Фросин помог соседке укоротить привязной ремень.
Теперь он хорошо рассмотрел ее. Она почти не пользовалась косметикой. Лишь легкими мазками были подкрашены губы. Ее лицо, стремительное и необычное, не нуждалось в красках. Оно было ярким само по себе. Ровный красноватый загар, правильные черты лица, волнующе очерченные губы, вороненое обрамление волос. Ей было лет двадцать, от силы – двадцать два, и Фросин почувствовал непрошенную горечь от того, что через полтора часа она встанет с кресла, выйдет из самолета – уже не соседка ему, а одна из множества пассажиров,– и затеряется в многотысячном городе, и ему останется только память об этом мимолетном ощущении горечи.
Фросина подхватила и понесла мистическая волна удачи. Он решил разговорить свою попутчицу. Это можно было сделать легко, используя инерцию того взаимопонимания, которое мелькнуло между ними у трапа, которое позволило ей, не оборачиваясь, чувствовать, что он идет следом и сейчас сядет в соседнее кресло.
Мощно взревели перед разбегом двигатели. Самолет задрожал и присел на амортизаторах. Скрипнули отпускаемые колодки тормозов. Самолет коротко пробежал по полосе, чуть приподнялся и сразу накренился, поворачивая на свой заранее вычисленный и выверенный курс.
Полтора часа полета. Девяносто минут. Это много, если в минуты впрессован простой на первый взгляд, но важный скрытым своим смыслом разговор. Надо только внимательно следить и за разговором, и за собеседником, за выражением его лица, за настроением, за теми бесчисленными оттенками, которые может принимать любой разговор и которые не всегда легко уловить.
С ней было легко разговаривать, стоило только стронуть с места тоненький ледок отчужденности. Скоро он знал о ней очень много. Знал не только из слов – знал из выражения ее лица, из реакции на его слова. Надменность и взрослость слетели с нее, как защитный чехол с парашюта в момент прыжка.
В тоне ее он уловил благодарность за то, что оказался ненавязчивым и лёгким собеседником, и почти испугался этого и того, что сам испытывает к ней что-то вроде благодарности за то, что она сидит с ним рядом, доверчиво слушает его и отвечает ему.
Самолет приземлился. Все вышли. Багаж задерживался. Некому было выгружать, не явились рабочие – досматривали где-то короткий предутренний сон. Фросин обрадовался этому. Он помахал прощально своей спутнице рукой, вскарабкался в грузовой отсек и начал бойко распоряжаться там, поднимая и передавая вниз сумки, портфели, чемоданы.
Наконец все было выгружено. Он подхватил свою сумку, спрыгнул вниз и сквозь крепкий – уже не московский, а уральский – морозец зашагал к аэропорту. У самого здания аэровокзала он догнал медленно идущую фигурку в черной шубке.
Трудно сохранять достоинство, ожидая кого-то или что-то. Да еще на морозе. Но у нее был такой же неприступный вид, как и тогда, когда он впервые увидел ее. Она ждала его, но умела не подавать вида, что ждет. Он, пожалуй, все-таки обрадовался ей. И тут же огорчился – все это было ни к чему.
– Шикзаль!– сказал он, больше себе, чем ей. Она не поняла.– Судьба,– пояснил он. Она промолчала.
Они прошли к ночному автобусу. Скорее, это был утренний автобус. Они остановились на задней площадке.
Их руки в перчатках лежали на поручне почти рядом. Тряхнуло, и они соприкоснулись. Автобус бежал уже по ровной, накатанной дороге, но ее рука все еще лежала на его. Он чувствовал прикосновение и знал, что она тоже чувствует. Оба делали вид, что ничего не замечают, но разговор прервался и, когда молчание затянулось дольше, чем на это можно было не обращать внимание, она убрала руку и смутилась, как будто выдала какую-то тайну.
«Ну что?– подумал Фросин.– Ты этого хотел? Этого добивался? Заговорил, заморочил девчонку. А для чего? К чему эти разговоры – с угадыванием ответов и вопросов, с повисшим рядом, между вами и над, «родством душ», которое так и ждет, чтобы заявить о себе, которого нет и вовсе не нужно? Зачем это все, если в тебе вдруг на какой-то короткий миг ворохнулась забытая, усохшая, давно и навсегда умершая надежда на что-то, чего все равно не будет, а может быть, и не бывает и уж точно не должно быть между тобой, Виктором Афанасьевичем Фросиным, тридцати шести лет отроду, человеком без семьи, иллюзий и царя в голове, и ею, твоей умной, чуткой, случайной и очень молоденькой попутчицей...»
Они вышли в центре. Было около шести утра. С перекалом горели фонари. На улицах было пусто. Они прошли вместе до остановки троллейбуса. Фросину надо было на трамвай, но он стоял рядом с ней и молчал. Молчание надо было разрядить. Он начал злиться, что ведет себя как мальчишка, злиться на себя и на нее. От злости он грубо спросил:
– Ну так что, приглашаешь в гости? Чаем напоишь?
Только сказав, он понял, как грубо это прозвучало, и мрачно обрадовался. Действительно, все это ни к чему, и пусть у нее не останется сожалений и приятных воспоминаний. Пусть она вычеркнет его из памяти раз и навсегда.
Она не ответила. Настроение Фросина окончательно испортилось.
Показался троллейбус. Она повернулась к Фросину и быстро сказала:
– Приходи... Но не сегодня и не завтра... Приходи в понедельник. Угощу чаем...– И она вымученно улыбнулась.
Фросин растерялся и от растерянности ненужно спросил:
– Куда приходить?
Она торопливо выхватила из кармана шубки бумажку. Фросин, путаясь в шарфе, достал из внутреннего кармана ручку. Она написала адрес. Троллейбус подкатил к остановке, с шипением открыл дверцы. Она передала Фросину бумажку и ручку. Он, не глядя, сунул их в карман. Она подхватила портфель, но вагон уже тронулся.
– Шикзаль,– опять сказал он. Он вычитал где-то это слово, кажется, у Шефнера.– Судьба, по-немецки. Даже не судьба – рок. Ты учишь немецкий?
– Нет, английский,– она покачала головой. Она не уехала и теперь чувствовала неловкость оттого, что поддалась порыву и пригласила его.
Говорить было нечего. Все уже было сказано, и что бы еще ни сказать, все оказалось бы лишним. Он украдкой разглядывал ее. Она вновь стала неприступной – маленькая беззащитная дама в черной пушистой шубке.
Он знал, что не пойдет к ней и почувствовал сожаление, что все уже кончилось. Кончилось, так и не начавшись.
– Троллейбус...– он тронул ее за локоть. Его ладонь была без перчатки, и он вновь, как тогда, у самолета, ощутил шелковистую мягкость шубки и податливость ее руки. Не было лишь того ощущения удачи и везения. Она вошла в салон. Фросин подхватил сумку и пошел, не дожидаясь, пока троллейбус тронется. На ходу достал из кармана бумажку, развернул одной рукой. Это был ее авиабилет. На обороте было нацарапано: «Короткая 27 – 172». Он смял бумажку и бросил в урну. Все кончилось. Он поспешил на трамвай.
7
Фросина тянуло прийти пораньше, осмотреться. Но в этом не было смысла, и он пришел в цех почти к восьми. Показав вахтеру у входа пропуск, он медленно прошагал внутрь, с любопытством огляделся – просторный пустой пролет, раздевалка в углу, длинные столы посередине. У стены – отгороженные двухметровыми перегородками службы цеха. Он прошел вдоль них, читая таблички на дверях: «Лаборатория», «Архив», «БИХ», «Нач. цеха».
В крохотном «предбаннике» приютился столик табельщицы. Дверь кабинета была не заперта. Он снял пальто, мельком окинул кабинет взглядом: два стола, у стены ряд стульев, шкаф, железный ящик, именуемый сейфом.
Вышел в цех, остановился, наблюдая. На него не обращали внимания – не знали. А он цепким взглядом схватил сразу все: и торопливо входящих, скидывающих на ходу пальто рабочих, и необжитую пока пустоту помещения, и то, что рабочие мало между собой разговаривают – не перезнакомились еще.
Появился Василий Фомич. Вошел уверенной походкой, отдуваясь от ходьбы. Перед ним расступались, здоровались. Он направился прямо к Фросину, крепко сдавил пухлой рукой его руку. Вслух подивился:
– Ну и рука у тебя, Виктор, как сучок. Жму ее, а она, понимаешь, как деревяшка – твердая и не поддается!
Видно было, что он рад Фросину и ждет одобрения. И Фросин не преминул сказать:
– Просто не верится, Фомич,– ведь цех уже! Когда успел?
Василий Фомич довольно ухмыльнулся:
– По твоему же заданию все заранее готовил!– И деловито спросил, показывая, что не обратил внимания на похвалу, считает ее ни к чему, и без того все сделано, как положено.– Цех сейчас пойдем смотреть или попозже?
– А чего тут смотреть?– удивился Фросин.– Я и так вижу, что все в порядке. Давай начинать работать.
На первое в истории цеха диспетчерское совещание собрались все ИТР. Почти половину Фросин знал. С этого он и начал:
– Кое-кого из вас я знаю. С остальными познакомлюсь в работе. Вы меня теперь тоже знаете. Зовут меня Виктором Афанасьевичем, прошу любить и жаловать.
Фросин смолк. Наступила тишина. Слова были самые банальные, никакой реакции не требовали, и все выжидали. Он продолжил:
– У нас была неделя на раскачку. Сейчас цех практически полностью укомплектован. Люди еще будут приходить, но мало. Давайте начнем работать. Вы – механик?– он обратился к сидящему у двери низенькому, бесцветному, словно полинявшему, мужчине лет тридцати. Тот встал.– Сидите, сидите! У меня к вам пока два вопроса. Первое, в каком состоянии кран-балка? Второе, как обстоит дело с подводкой напряжения на столы монтажниц?
Фомич тихонько хмыкнул – и когда углядел, что напряжение не подано? Механик тихим, каким-то испуганным голосом ответил Фросину, глядя в пол. Это Фросину не понравилось. Не любил он таких людей. Но говорил он толково. Видно было, что во всем уже разобрался, и Фросин переборол в себе антипатию. Все же голос его прозвучал сухо:
– Сколько времени вам потребуется на монтаж крана и подводку питания?
– Дня четыре...– прикинул механик и повторил уверенно: – четыре дня.
– Хорошо. Добавим еще четыре дня на всякие случайности. Итого – восемь. Через восемь дней, к следующему вторнику, чтобы все было готово. И еще одно – сегодня же сделайте в дверях архива окошечко для выдачи документации.
– Да ведь дверь-то железная...– растерянно сказал механик.
– В самом деле?– язвительно осведомился Фросин. По лицам сидящих проскользнула улыбка. Механик растерянно замолчал. Нет, он Фросину определенно не нравился. А Фросин уже обратился к начальнику лаборатории:
– К тебе я зайду сразу после планерки. У всех, у всех побываю,– обратился он ко всем сразу. И опять начальнику лаборатории: – А к двум часам подготовь перечень контрольно-измерительной аппаратуры.
– Есть!– бойко отрапортовал тот. Он уже успел поработать с Фросиным, успел почувствовать, что дело тот знает. Успел также усвоить, что Фросин терпеть не может разгильдяйства. Свое дело начальник лаборатории тоже знал; в том, что у него в лаборатории все в порядке, был уверен, а потому и вообще чувствовал себя уверенно.
Планерка шла хорошо. Бойко шла. В темпе. Впервые Фомич присутствовал на совещании, сидя не на стульчике у стены, а за столом. Дела, которые обсуждались сейчас, были простые и нужные. Фросин говорил то, что нужно, что сказал бы и сам Фомич. Впервые за последние две недели он почувствовал облегчение. Как-то вдруг оказалось, что не нужно все помнить и обо всем беспокоиться, и он поймал себя на том, что опять, понимаешь, попал в зависимость от Фросина. И он опять внутренне заершился, сам зная, что это смешно.
Диспетчерское закончилось. Все разошлись. Фросин делал в календаре какие-то пометки.
– Останься,– сказал он Фомичу, видя, что тот тоже собирается идти.– Ну, Василий Фомич, ты молодец! За неделю, собственно говоря, основную работу сделал!
Фомич возмущенно фыркнул, хотя от похвалы было приятно. Фросин отложил карандаш:
– Тебе у меня персональное задание: проследи за получением блоков и деталей машины. Все блоки, что прошли проверку ОТК, забирай из цехов-изготовителей, тащи сюда и организуй склад. И еще – на завтра я думаю пригласить товарищей из парткома, пусть проведут собрание. Пора нам выбирать секретаря парторганизации. Так что ты обдумай этот вопрос хорошенько, кого мы будем рекомендовать. Как ты насчет Логашова? В общем, подумай, а вечерком переговорим.
Василий Фомич ушел. Фросин встал из-за стола, прошелся пружинисто по кабинету. Потом вызвал табельщицу, дал ей задание – подобрать кое-какие данные – и заторопился в лабораторию. Проходя мимо архива, он заметил, что двери там уже нет. «Оперативно работает механик»,– подумал он с одобрением, входя в лабораторию.
Прошла неделя. В цехе избрали партбюро, комсомольское бюро и цеховой комитет. В четверг после работы Фросин решил провести заседание «четырехугольника» цеха.
Фомича он тоже попросил остаться.
Все были в сборе. Не хватало только парторга, начальника цехового бюро труда и заработной платы Логашова
– Ну что, может, проведем заседание треугольника раз четвертый «угол» не явился? – в шутку спросил Фросин, приглядываясь к присутствующим. Те тоже присматривались к нему и друг к другу.
Секретарь комсомольской организации слесарь Саша Белов явно не успел освоиться со своей новой ролью. Он смущался Фросина и Фомича, то прятал ноги под стул, то закладывал их одна на другую. Его лицо, с тонкой незагоревшей кожей, порозовело. От смущения он хмурил густые пшеничные брови, иногда вскидывал на Фросина ясные зеленоватые глаза. Он не знал, куда девать свои большие красные руки, далеко вылезающие из рукавов: халат был ему маловат.
Фросин черкнул в настольном календаре: «АХЧ – халаты». «Не забыть завтра накрутить хвоста – лень халаты большого размера получить!» – подумал он.
Послышались голоса. В кабинет вошли Логашов и с ним Макаров.
– Сидите, сидите! – махнул рукой Макаров, хотя ни кто и не подумал вставать.– Не возражаете, если я поприсутствую? – Он обошел всех, пожимая руки, и уселся в уголок.
«Мог бы и предупредить»,– подумал Фросин, открывая совещание.
– Ну что, познакомиться мы с вами познакомились, пора начинать работать,– несколько замедленно начал он.– Я напомню вам наши задачи, изложу свои соображения по поводу первоочередных мероприятий и подумаем вместе, что можно еще сделать. Согласны?
Все промолчали, только Саша Белов шевельнулся было на стуле, открыл беззвучно рот: «Согласны!», но застеснялся и тоже промолчал.
– Ну так вот, машина уже в пути. К концу недели будет здесь. Блоки и узлы на первые два комплекта полностью настроены, проверены и получены. Сложены на стеллажах в дальнем углу,– пояснил Фросин Макарову. Тот молча кивнул головой.– Из Москвы вылетает бригада разработчиков. Первую машину будут собирать они. С помощью наших монтажниц и слесарей. И заберут себе для испытаний и исследований. Вторую мы будем делать уже сами.
Его телеграфный стиль завораживающе действовал на слушателей. Фомич поймал себя на том, что кивает головой каждой его фразе, и рассердился на себя – чего кивать-то понимаешь! Можно подумать, что не он, Фомич, принимал эти блоки и складывал их на стеллажи, и распорядился закрыть стеллажи пленкой от пыли и от соблазна – мальчишки ведь одни в цех набраны! – покрутить и потрогать их.
– Это, так сказать, общая постановка задач,– Фросин достал из стола папиросы, закурил, подвинул папиросы приглашающе на край стола.– Теперь, что мы имеем в наличии. Наши три участка – слесарно-сборочный, монтажный и регулировка – человек по тридцать каждый. И из этих человек только регулировщики имеют о машине представление. Самое смутное, успели «по диагонали» прочитать описание и просмотреть схемы.
– Учиться всем придется на ходу,– продолжал он.– Наша с вами задача – настроить людей на важность работы. Они должны знать, что для успешной работы надо отдать все. И не только знать, но и быть готовыми трудиться, не считаясь со временем. Для этого нужно провести следующие мероприятия.– Он придвинул ближе исписанный лист бумаги и мельком глянул в него.– Во-первых, проведем общее собрание или митинг, как вам больше нравится. Чтобы это не прошло впустую, чтобы людей задело, собрание проведем, когда прибудет «тележка». Я думаю, готовить выступающих заранее, как это обычно практикуется, не следует,– он поморщился.– Народ к этому с недоверием относится. Надо выступить для начала самим, да так, чтобы расшевелить остальных.
Как это, не готовить собрание? Фомич запыхтел неодобрительно, глянул на всех – сидят, переваривают. Глянул на Макарова – вид у того непроницаемый. Фомич тоже промолчал. Не нравилось ему это. Разве можно собрание на самотек пускать?
А Фросин продолжал:
– Во-вторых,– оформление цеха.– Он покосился на Макарова.– Вы здесь у нас официально или нет? Ах, неофициально! Тогда я признаюсь – я взял художника. На ставку слесаря. Завтра он выйдет на работу, и мы ему сразу поручим всю наглядную агитацию. Василий Фомич, щиты еще не готовы?
– Готовы, сегодня с двадцать четвертым цехом говорил. Завтра с утра можно забирать.
Ну так вот, у нас десять щитов. Два из них тебе, Саша. Оформляй на них «Комсомольскую жизнь». Пойди посмотри в других цехах, посоветуйся и подойди с материалами ко мне. Дальше... Четыре щита – профсоюзу.– Фросин улыбнулся предцехкому.– Передовиков у нас пока нет, но ты помести туда соцобязательства, график чистоты...
Логашов негромко пробасил:
– Хорошо бы и ту, торцовую стену занять агитацией. Лозунг большой написать, что ли...
Фросин удовлетворенно кивнул, сразу же записал в свою бумажку:
– Лады. Я художнику так задачу и поставлю. Пусть подумает. Да не просто лозунг, а панно... Если только,– он опять покосился на Макарова,– мне нарушение финансовой дисциплины не припаяют.
Все засмеялись. Макаров тоже засмеялся:
– Да бери своего художника! Я же говорю – я здесь неофициально!
Ободренный смехом и хорошей деловой обстановкой, в разговор вступил Саша Белов:
– Вот бы кружки для молодежи. И красный уголок...
– Об этом я и хотел говорить сейчас, о молодежи.– Фросин придвинул к себе стопку листков с какими-то не то таблицами, не то списками.– Я дал задание табельщице, и она подготовила мне такие сведения по всему личному составу цеха: возраст, семейное положение, образование, стаж работы на заводе. Ну и еще ряд данных – где живет, с родителями или один, далеко ли ездит на работу... Полностью я обработать не успел, но предварительно можно уже обсудить. Средний возраст – двадцать два года. Средний стаж работы на заводе – два с половиной года. Образование: с десятью классами – сорок три процента, с неполным средним образованием – семнадцать процентов, со средним техническим и незаконченным высшим – двенадцать процентов и двадцать восемь процентов – с высшим образованием. Для справки: самый старый человек в цехе – Василий Фомич.
Фомич, тоже вдруг проникшийся этой несерьезной атмосферой, выкрикнул:
– Ну да! А Евграфовна?
Все сразу вспомнили уборщицу Евграфовну, сухонькую бойкую старушонку, и расхохотались.
– Ну так что,– спросил, отсмеявшись, Фросин,– ясна картина? Придется нам и кружки организовывать – это по твоей части, Логашов,– и стенгазеты выпускать, и в школу рабочей молодежи загонять, и за морально-политическим состоянием следить...
Он вздохнул, и всё с готовностью улыбнулись – и вздоху его, и казенным словам «морально-политическое состояние».
– Нет, я говорю совершенно серьезно – придется. Я намеренно умолчал о производственных вопросах. Это наша с Василием Фомичом забота. Вас я сюда не впутываю, мы с ним сами знаем, что делать надо. Так что давайте без улыбок, и оформление, раз уж с него начали, должно быть сделано быстро и качественно. И договоримся,– в голосе Фросина проскользнули жесткие нотки, и Макаров подумал про себя: «Ого!»,– это не моя блажь, а первоочередная задача!
Фомич не поднимал головы, разглядывал свои руки с толстыми ногтями – руки не начальника, а слесаря, монтажника – руки мастерового. Обстановка становилась напряженной. Фросин, словно не замечая этого, гнул свое:
– И еще одно. Коллектива у нас пока нет, работа тоже... скажем, специфическая... Так что, если кто сачковать вздумает, а это пока легко,– это уже ЧП. Ясно?
Он замолчал. Все тоже молчали – показалось, что крутовато Фросин забирает. Еще и работать не начали, а он уже: «сачковать», «ЧП». Макаров подал голос из угла, чуть разрядил напряжение:
– Могу дать совет: не бегите к начальнику бегом. Сначала сами разберитесь, при всех скажите о непорядках. Если обо всем будет говориться прямо и при всех, люди поймут правильно, сами будут стремиться поддерживать дисциплину!
Фросин пожал плечами:
– Я, в общем-то, это же имел в виду... Это само собой разумеется... Вроде бы у меня все. Кто еще хочет добавить? Вопросы есть?
Вопросов и добавлений не было. Все разошлись. Фросин шел между Макаровым и Василием Фомичом. Макаров придержал его:
– Не беги так. Чай, Фомич у тебя самый старый в цехе. Да и я не моложе...
– Набрали, понимаешь, мальчишек... Черта лысого с ними наработаешь...– проворчал Василий Фомич.
– В самом деле, Виктор Афанасьевич, удивил ты меня сегодня своей статистикой,– голос у Макарова был недовольный.
– Во-первых, после драки кулаками не машут,– отозвался после паузы Фросин.– А во-вторых, цех создается не ради двух-трех машин!
– Ну-ну, ты поясни! – все таким же недобрым голосом сказал Макаров.
– А тут и пояснять нечего. Производство будет расти. Вот и надо молодежь брать. Это же резерв! Они же, как освоят машину, играючи все планы выполнять будут!
– Ты смотри, резерв,– передразнил его Макаров.– Шею себе не сломай, пока машину с детским садом своим осваивать будешь.
– Да вы что, не понимаете, что со старыми рабочими нам ее не поднять? – всерьез разозлился Фросин.– На хрена мне их опыт, если изделие совершенно новое? В машине молодежь имеет такой же опыт, что и старики,– никакой! Так молодежь, по крайней мере, ориентируется быстрее! Нам бы только пару машин сделать! А там уже я и не беспокоюсь, дело пойдет!
– Вот именно: нам бы только сделать, а там пойдет...– ворчливо, но уже без прежнего недовольства съязвил Макаров. Видимо, вспышка Фросина убедила его в чем-то.– А вот как твои мальчишки и две-то машины сделают, это еще вопрос... Ну ладно, вон твой трамвай. Беги, а мы с Фомичом пройдемся по-стариковски, пешочком.
Фросин еще не остыл и потому ушел от них к трамвайной остановке.
Макаров проводил его взглядом и неожиданно захохотал.
– А ведь и меня провел – приказы-то по личному составу я сам подписывал! И ведь знал бы, кого он набирает, ни за что бы не допустил!
Фомич, за все время перепалки не проронивший ни слова, буркнул:
– Мальчишка...– И опять не понять было, осуждает он Фросина или нет.
– Точно, мальчишка! По всем повадкам – мальчишка! – Макаров Фросина явно одобрял.– Но ведь умеет работать! Нам бы с тобой так в его годы...
И хотя его годы от Фросинских отделяло всего около пятнадцати лет – не так уж и много, и сам Макаров был еще мужик хоть куда,– но он, а за ним и Фомич вздохнули каким-то своим мыслям.
Некоторое время шли молча. Фомич поднял – задувало с севера – воротник и буркнул, как будто не было паузы:
– Два щита – рационализация, два – передовики... Да чтобы места свободного не оставалось... А в цехе верстаков не хватает, паяльников нет. Да что говорить – тапочки до сих пор не получили!
Он ожесточенно крутанул головой. Макаров коротко хохотнул:
– Да брось ты к нему цепляться! Ты в корень смотри – вишь ведь, за оформление ухватился, да крепко! Стало быть, ему виднее. Может, с этого и нужно начинать? А как он об этом говорил – дело пятое. Может, он по-другому и разговаривать не умеет...
– Должен уметь, на то и начальник...– Раздражение не исчезало из голоса Василия Фомича, и Макаров заговорил уже холодно:
– Правильно, начальник! А сам-то ты догадался бы заняться этими планшетами? На месте Фросина? Вроде и не главное это дело на первый взгляд, а?
– Чего на месте Фросина? Я на своем месте сижу!
Мне эта агитация по штату не положена. У меня своей работы, понимаешь, хватает!
– Ну-ну, работай, работай...
Фомич надулся. Макаров тоже смолк, искоса поглядывая на его тучную фигуру и думая, что не так все просто, и не одной только этой «агитацией» недоволен Василий Фомич. Не на жесткий же тон Фросина в конце совещания он отреагировал – его, Фомича, и криком не возьмешь, всяких он видал крикунов и по столу колотунов. Нет, не в этом соль, а во всем стиле работы Фросина, который кажется порой, и не одному Фомичу, легковесным, без той освященной временем истовости, какую многие еще считают единственно допустимым подходом к делу.







