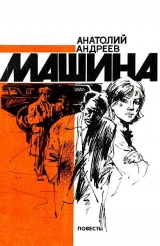
Текст книги "Машина"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
32
Наступило воскресенье. Вставать и спешить куда-то было не нужно, но не спалось. Проснулись все трое и лежали, лениво переговариваясь в темноте – светало уже по-зимнему поздно. Алия чувствовала, что тело, впервые за эти долгие горькие дни, налито веселой бодростью. Она с удовольствием вспомнила свой сон и Фросина в нем и с улыбкой прислушалась, как ее однокурсница Валентина поддразнивает букваришку. Та уже несколько раз ходила в кино с мальчиком из своей группы. Мальчик был красив и застенчив. Валентина тоже была красива – налитая девица, с тонкой талией и яркими пухлыми губами. Пока мальчик, стесняясь, ждал свою подружку, Валентина расхаживала по квартире, вызывающе покачивая бедрами и отводя назад плечи. Свитеры на ней всегда были на два размера меньше, чем надо, а лифчиков она дома не признавала. Ей нравилось, что мальчик краснеет и отводит взгляд.
Сейчас Валентина рассказывала сон. Во сне она видело этого мальчика и целовалась с ним. Сон она пересказывала с подробностями. Она врала самым бессовестным образом, девочка-первокурсница это отчетливо понимала, но страдала. Сегодня они с мальчиком опять должны были идти в кино.
Алия не выдержала и прикрикнула:
– Перестань, Валька! Ты ее не слушай, она все врет.
Потом она выскочила из постели и прошлепала к окну – открыть форточку. С улицы пахнуло талым воздухом – первые, не то еще осенние, не то уже зимние морозы сменились оттепелью. Постояв так и озябнув, Алия шмыгнула к Валентининой кровати и, завопив:
– Ты угомонишься, наконец? – прыгнула к ней.
Началась веселая возня, прекратившаяся только после того, как обе изнемогающие от хохота противницы вывалились на пол, потянув за собой одеяло и подушку. Первокурсница включила настольную лампу и весело посверкивала на них глазами. Ей тоже хотелось принять участие.
Все утро Алия была беспричинно весела. Сходив с девчонками в столовую, она поплескалась под душем и долго наглаживала выстиранную вчера юбку. Одевшись, она покрутилась перед зеркалом, размышляя, стоит ли подмазаться, но решила, что не стоит и только чуть тронула за ушами стеклянной пробкой от духов. Тонкий аромат чувствовался некоторое время, потом исчез, но Алия знала, что просто привыкла к нему, он никуда не делся, он здесь, с нею. Это были хорошие духи. Рижские. Подарок Фросина – она сама сказала ему, какие подарить.
Алия вышла из дому в шубке и чуть не вернулась надеть пальто, но вдоль улицы подул ветерок. Он был сырым и весенним, заставлял зябко ежиться, и она не стала переодеваться. Снег на тротуарах, уже притоптанный за последнюю неделю, отволг, стал серым и податливым. Он похрупывал под ногами, не сухим льдистым хрустом, а влажноватым коротким всхлипом.
Фросина дома не оказалось. Никто не отозвался на ее условные звонки. Она постояла с бьющимся сердцем перед дверью, еще позвонила, потом нехотя вышла из подъезда.
Фросин мог отправиться в магазин, а мог оказаться и на заводе. В магазине его не было, не встретился он ей и по пути, поэтому она решила подождать пару часов, зная, что заполдень он уж точно вернется из своего распрекрасного цеха.
Чтобы не удаляться далеко от дома, Алия спустилась вниз, к набережной. Пруд уже застыл. Он был припорошен снежком. На нем выделялись тропки. Там и сям на нем пингвинами сидели рыбаки.
Алия двинулась по набережной, время от времени поглядывая на часы. Стрелки словно примерзли к циферблату. Она даже послушала часы – нет, идут. Потом Алия поравнялась с ветлами, одиноко торчавшими на ветру, графический рисунок их ветвей на снегу и белесом небе, черно-белый и четкий, вызвал в памяти давний вечер, когда они с Фросиным провожали Сергея с Ритой. Алия тогда впервые увидела Шубиных. Они славно посидели у Фросина и славно шли по морозцу. Алия только что с головой кинулась в любовь к Фросину. Она ничего не могла с собой поделать, ей хотелось все время быть с ним рядом, видеть его, разговаривать с ним, касаться его руки. Они не торопясь шли по набережной, и Алия краснела в темноте. Ей казалось, что Рита и Сергей догадываются, что она сегодня не пойдет к себе в общежитие, а вернется к Фросину. Она боялась, что Рита и Сергей будут меж собой говорить об этом, как только останутся одни.
Алии приятно было вспоминать себя, тогдашнюю, и свое тогдашнее счастливое нетерпение. Нынешнее ее состояние было таким же счастливым и нетерпеливым.
За ветлами обширный участок пруда был выметен ветрами и блестел. Он манил прокатиться. Алия вспомнила, как в тот вечер они с Фросиным катались здесь и упали, и он поцеловал ее. Сергей с Ритой стояли на берегу, и Сергей очень нервничал и что-то сердито кричал.
Скоро должен был прийти Фросин. Осталось совсем немного подождать-погулять и можно будет вернуться и стоять перед дверью, слушая хлопотливый дребезг звонка и быстрые шаги... Все-таки как глупо было оставить ключ – все хотела доказать что-то. А как бы здорово получилось, если бы без Фросина войти домой, раздеться и лечь на диван, свернувшись клубочком и притворившись спящей, чтобы, подглядев сквозь ресницы его неуверенные шаги, обхватить неожиданно его за шею и проворчать сердито: «Конечно, и поесть нечего, и к чаю ничего нет... Совсем разленился без жены...»
Время еще оставалось, и Алия решительно сбежала по некрутому откосу. Надо было прокатиться разок-другой, может быть, упасть, как тогда, на спину. Правда, Фросина сейчас нет, и когда, поднявшись, побежишь к берегу, не будет слышно за спиной затаенного негромкого смеха. Но зато он уже пришел с завода, ждет в пустой квартире, поставив на газ чайник и по глупой мужской привычке сторожа его, словно чайник может куда-то деться...
Один из тех смешных рыболовов на льду поднялся на ноги и замахал ей руками. Чудак, боится, что она испугает рыбу! Алия засмеялась и махнула в ответ рукой в варежке: «Сиди спокойно, дядя! До тебя вон сколько, а я катнусь вот тут, где блестит и скользко, да и побегу обратно. Мне некогда, я спешу!»
Она разбежалась и лихо покатила по льду, балансируя разведенными в стороны руками. Она не успела ничего сообразить, услышав предательский треск льда. Она не успела испугаться и не почувствовала холода, оказавшись в ледяной воде. Лед вдруг оказался совсем близко, перед самыми глазами, и она инстинктивно задрала голову. От всплеска на лед вокруг набежала вода. Алия попыталась ухватиться за кромку, но она обломилась и Алия окунулась с головой. От неожиданности и от обжигающего холода мысли остановились. Вынырнув, она увидела, что рыбак, махавший ей руками, медленно, как в кино при ускоренной съемке, бежит к ней. Там, за его спиной, так же медленно вставали на ноги и поворачивались в ее сторону еще люди. Разом, словно лопнула в ушах какая-то перегородка, она вдруг услышала слабый плеск воды и шипение, с которым она выплескивается на лед. Потом вдруг в уши ворвался крик Сергея Шубина. Он стоял на берегу и кричал о родниках и о промоинах, и она осознала, что он кричит о ней, о том, что родниками подмыло в этом месте лед и это здесь она тонет. Она так и подумала: «Тонет»,– и ей захотелось повернуться и посмотреть, здесь ли еще Сергей, но у нее не было сил, все силы уходили на то, чтобы удерживать над поверхностью голову. Да и не могло тут быть Сергея, ведь Сергей там, где лунная ночь и хорошо, где Фросин и все в порядке, а сейчас день, и тот мужчина бежит и все не может добежать до нее.
Холод наконец добрался до Алии. Он дошел до самого сердца, и она поняла, что эта боль, пронизывающая ее, острая, как нож, означает конец. Она попробовала вздохнуть и не смогла. Еще смотрела она низко вдоль льда, еще видела, как рыбак подбежал поближе, потом лег плашмя и пополз. Алия успела подумать: какой молодец, поступает по всем правилам, где-то я читала, что когда проваливаются под лед, надо всегда ложиться и ползти, а Фросин ждет, ее и ничего не подозревает. Ах, как жаль, как жаль! Бедный Фросин, и ничего нельзя сделать. Почему же мне не страшно? Это у меня шок от холода и страха, страшно будет потом, а сейчас от шока и холода может остановиться сердце, оно уже остановилось. Тогда что же так стучит в ушах? Бедный Фросин! Как все глупо...
33
От совещания, которое проводил директор, увильнуть не удалось. Фросин захватил с собой блокнот и славно поработал, подготовив проект приказа по заводу и подробнейший план мероприятий, касающийся централизации внутризаводских перевозок и вообще погрузочно-разгрузочного хозяйства. Фросин не мог спокойно смотреть, как на территории завода целый день толчея – все куда-то бегут, что-то тащат, доставляют и перемещают. И это при хронической нехватке рабочих рук! Если удастся пробить приказ, то сутолока заметно поредеет...
Директор благосклонно поглядывал на Фросина. Ему нравилось, что тот все время что-то записывает. Фиксирует, так сказать.
Фросин перехватил директорский взгляд и внутренне ухмыльнулся. Васеньку перевоспитывать поздно. С понятиями о том, как нужно руководить, он все равно не расстанется. И так грех на него жаловаться – он показал себя достаточно гибким руководителем, рискнул довериться специалистам в таких ситуациях, когда весь его опыт хозяйственника старого закала кричал: «Нельзя! Прихлопнуть их, чтоб не шевелились, и ни в какую!». Но директор сломил себя, нехотя пошел на поводу у обстоятельств, подталкиваемый подчиненными,– и вышел неожиданно на новый фарватер, широкий и свободный, и смотрел с удивлением на своих лоцманов: неужели они это предвидели? Требовать от него чего-либо сверх этого было нельзя. Оставалось примениться и делать вид, что с увлечением играешь в игру под названием «совещание». Вообще говоря, Фросин не был против совещаний как таковых. Отнюдь. Он слишком хорошо помнил, что получилось, когда за дело принялся новый, энергичный и шибко прогрессивный начальник производственного отдела. Едва появившись на заводе, он принял активное участие во внедрении селекторной связи. Он страстно желал увеличить оперативность решения всех вопросов. На него это было похоже – страстно желать.
Невысокий, тонкий в талии и широкоплечий, с узким и смуглым сумрачным лицом, он втайне страдал от своего роста и носил, туфли на высоком каблуке. К его чеканному лицу очень подошла бы фамилия Бек-Мурад или Хаз-Мухамедов, но фамилия у него была исконно русская, да и имя простое – Афанасий. Мужик он оказался жесткий, но справедливый, хотя кое в чем и перегибал, например с оперативками по селектору. За непреклонность и сумрачную твердость характера заводские острословы быстро прозвали его «черным полковником». Прозвище неожиданно пришлось впору его внешности и темпераменту и прижилось. Помимо утреннего часа селекторной оперативки «черный полковник» ввел и вечерний, с Пяти до шести, иногда – до семи и дольше. Пока по кольцу ругались двое-трое начальников цехов и Афанасий принимал «суровое, но справедливое» решение, остальные начальники изнывали, не смея отойти от «матюгальника», то бишь селектора. Правда, они быстро научились связываться между собой по телефону, комментировали события, травили анекдоты. Безвестные изобретатели из числа начальников цехов сообразили создавать второе, телефонное, кольцо, в отличие от селекторной кольцевой связи – тайное. Оно бывало куда оживленнее и интереснее первого. Так длилось до тех пор, пока битый и хитрый начальник шестого цеха не завлек обманом к себе на это время Васеньку. Он изобразил на лице ужас и смущение, когда директор догадался включиться во второе кольцо, молча весь час слушал информацию по тому и по другому, а потом ушел с непроницаемым лицом. В результате оперативки резко сократились, а начальник шестого цеха получил от директора один за другим два незаслуженных выговора. Он не расстроился и на сочувственные вопросы отвечал коротко и загадочно: «За отсутствие солидарности...» Фросину он сказал более определенно, хотя тоже непонятно: «За донос...»
После совещания Фросин вернулся к себе. По директорскому каналу он связался с главком и вновь напомнил об импортной поточной линии, с которой его водили за нос уже три месяца. В Москве еще не закончился рабочий день, а здесь уже наступил вечер. Фросин быстро рассортировал бумаги, выключил настольную лампу и начал одеваться. В дверь постучали и сразу, не дожидаясь ответа, вошли. Фросин раздраженно обернулся, но увидел Василия Фомича и раздражение погасло, не успев выйти наружу.
Василий Фомич совершенно не изменился, заняв место Фросина в сорок четвертом цехе. Да и как, собственно, было ему меняться – цех был настолько же его, насколько Фросина. Вместе они начинали с нуля, обживали просторное гулкое помещение, лихорадочно торопили сборку первых машин, стараясь в то же время не допустить нервозности, пагубной для только еще складывающегося коллектива.
И если Фросин занимался в значительной мере политикой, направлял вкупе с конструкторами развитие нового для завода изделия, то Фомич оставался заземленным, в эмпиреях этих не летал, твердо знал, что нужно делать – и делал. Они неплохо дополняли друг друга – начальник цеха Виктор Фросин и его зам Василий Фомич. А теперь, когда машина пошла в серию, когда Фросину предложили стать заместителем главного инженера, трудно было бы найти более подходящего человека на должность начальника сорок четвертого цеха, нежели Василий Фомич. Некоторые опасения Фросина относительно недостаточной инициативности Фомича не оправдались. Возможно, Василий Фомич набрался-таки от Фросина за время совместной работы, возможно, Фросин не давал ему полностью развернуться, подавлял и оставлял в тени, но Василий Фомич работал, и претензий к нему не было. Он вступил в должность начальника по-фросински, и на эту тему долго хохотал директор, заговорщицки Фросину подмигивая. Василий Фомич начал с того, что переставил местами мастеров, заставил переделать половину наглядной агитации и передвинул в цехе второстепенное оборудование. Доказав таким образом, кто есть начальник, Василий Фомич сурово приструнил разболтавшихся было работников и зажил припеваючи – все время до предела занятый, умело и толково работающий сам и заставляющий работать подчиненных, принимающий своевременные и не дурацкие решения начальник цеха. И сразу оказалось, что цеху только и не хватало суровой воркотни и мрачного юмора нового начальника, и уход из цеха Фросина прошел безболезненно, а этого только и было нужно Василию Фомичу.
– Ты по делу?– в лоб спросил Фросин, перестав застегивать пальто.
– Да нет, домой пошел, дай, думаю, загляну...– пробасил в ответ Фомич.
– Ну ладно, пошли...
Они спустились по гулкой лестнице, миновали проходную с вращающимся никелированным турникетом и пошли рядом – стройный подтянутый Фросин и грузный Василий Фомич.
Зима пришла рано, засыпала, запорошила все снегом. Он лежал плотно, утоптанный многими тысячами ног. Этого было мало – он сыпался сверху, неприметный и легкий, взблескивая в свете фонарей невидимыми кристалликами.
Василий Фомич покосился на Фросина: «Вот, понимаешь, заместитель главного инженера, а никакой солидности. До сих пор в демисезонном пальте бегает. Как, все равно, надеть ему нечего!» Сам Фомич с первым же снегом облачился в драповое солидное пальто с шалевым воротником.
Словно почуяв его взгляд, Фросин повернулся – нет, не мог бы Фомич сказать сейчас, сей момент, глядя в моложавое Фросинское лицо с чужими, распахнуто и неподвижно глядящими глазами, что несолидный Фросин человек. Не такое бывает лицо у несолидного человека, не такие глаза. А Фросин улыбнулся, и лицо ожило, и дошел до Фомича смысл вопроса, и он ответил, подвигав бровями и с расстановкой:
– Да есть у меня предложение, есть... Я вот все думаю – надо бы в «Парус» заглянуть, отметиться. А то вроде как давно там не бывали...
Синим неоном горела вывеска рыбьего кафе «Парус», специализированного, от фирмы «Океан». На бойком месте было кафе, у самой проходной. Давно грозился директор закрыть его, да руки то ли не доходили, то ли коротки были... Во всяком случае, «Парус» процветал, и Фросин с Василием Фомичом свернули к тускло освещенному стеклянному параллелепипеду, прилепившемуся к подножию жилой двенадцатиэтажной башни.
В зал не пошли, остановились у стойки. Фросин показал бармену пальцами. Бармен кивнул, и перед Фросиным с Василием Фомичом, появилось по бутылке пива.
– Для разгону...– буркнул Фросин.
Фомич пил пиво, молчал и сопел. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Пиджак был ему тесен, и на стойку он не мог так небрежно, как Фросин, навалиться – комплекция не та, смешно к стойке пузом прижиматься.
Фомич бывал здесь всего несколько раз. Он вообще редко бывал в ресторанах, а также в барах и кафе. Потягивая пиво, он исподтишка оглядывался – приглушенный свет, блестящие металлические цилиндры светильников, свисающие с потолка. Дерево и кожа. На стенах – чеканка,, набившая оскомину в зубах даже у него, старого шиша Василия Фомича. Не нравилось ему здесь. И публика не нравилась – полно молодежи, совсем пацанов. Пьют и курят, а на стене плакат: «Курить воспрещается». И девки тоже курят. И пьют.
Фросин, не глядя, сказал:
– Не все, конечно, подонки. Хорошие ребята тоже бывают. Культурно, так сказать, отдыхают...
Василий Фомич неожиданно вновь ощутил сложное чувство, которое раньше всегда вызывал у него Фросин. Черт его знает, как все равно мысли читает! Невольно ощущается при этом его превосходство. И всегда у Василия Фомича бунт в душе поднимался, восставало в нем что-то. Чувствовал Фомич себя ничуть не ниже фросина. Во многом он, по логике вещей, должен бы и первенствовать – старше и опытнее все же. Но вот появился новый какой-то штрих, и все вернулось на свои места. Проявлялось это всегда по-разному – и на работе, и по технике, а и то в простом каком-нибудь житейском вопросе, в котором сам бог велел Фомичу первее быть. А временами думалось Василию Фомичу, что невыявленное их соперничество-то и заставляет его не складывать оружия, не пуститься по воле волн, а двигаться, бороться, выходить победителем в борьбе с обстоятельствами и расти. Внутренне – служебный рост всего лишь отражение роста внутреннего.
Парень рядом, крепко уже на взводе, возмущенно завозился, услышав фросинскую реплику. Фросин глянул на него в упор, как на неодушевленный предмет, и так же спокойно добавил:
– Но и дерьма тут тоже, конечно, хватает...
Парень отвел глаза и стих, и Фросин спокойно закончил:
– «Парус» этот давно надо прикрыть, прав Васенька. В обыкновенную пивнушку превратился, даром что музыка играет.
Фомич опять почувствовал укол – везде Фросин чувствует себя как дома. Слов не выбирает, но все у него к месту получается. И парня взглядом утихомирил, а тот явно на скандал начинал нарываться. И вообще – Фросин здесь бывал не чаще Фомича, а смотри ты – и пивко нашлось, и бармен по знаку Фросина налил по рюмке водки, а как только Фросин покачал головой и пальцем показал на фужеры, кивнул чуть заметно и поставил перед ними по полному фужеру, чуть наклонившись и сказав доверительно:
– Только побыстрее, ребята. У нас ведь тоже контроль...
Фомич взял толстыми пальцами хрупкую стеклянную ножку и смотрел на Фросина. Взгляд Фросина был устремлен прямо, но Фомич мог поклясться, что тот ничего сейчас не видит. Лицо у него было такое, как только что, когда они вышли из проходной.
Сегодня был год. Ровно год, день в день. Сегодня был понедельник, а год назад в этот день случилось воскресенье, Фросин был в командировке и должен был прилететь назавтра, а Алия не знала этого и спешила, бежала, торопилась домой. Не застав Фросина, она пошла бродить по городу, чтобы убить время до его возвращения, и забрела на набережную...
Фомич помнил сегодня весь день, что прошел год. Он боялся за Фросина. Фросин тогда окаменел. Он начал оттаивать только спустя несколько месяцев. До конца он так и не отошел. Фомичу стало страшно – ведь сегодня годовщина, и вдруг Фросин опять станет таким, каким был тогда – все понимающим, делающим все, как надо, разумным и спокойным, спокойным, спокойным... Функционирующим – нет другого слова. Как машина.
А Фросин не заметил паузы. У него был холодный взгляд и твердая рука. Пальцы его не дрожали. Он не вспомнил о годовщине только потому, что ни на миг об этом не забывал. В нем словно шли какие-то часы, отсчитывающие время с той роковой минуты, когда Алия заскользила по предательской зеркальной глади, раскинув для равновесия руки. Они шли в нем весь этот год, не останавливаясь даже тогда, когда он с головой бывал увлечен каким-нибудь делом или книгой, или еще чем. Они стучали в висках, когда Фомич, испуганный его рассудительностью, ровным голосом и спокойными замедленными движениями, заманил его к врачу. Кабинет был хирургическим, врач выслушал Фросина, потом быстро царапнул по животу, с интересом наблюдая непроизвольное сокращение мышц. Все это время он разговаривал с Фросиным и выспрашивал его. Фросин без возмущения или удивления спросил его в лоб:
– Вы психиатр!
Тот смутился:
– С чего вы взяли?
– Я не сошел с ума. Хотите, я скажу вам, какое сегодня число и как зовут президента Франции?– И он улыбнулся.
Врачу стало жутковато от этой улыбки. Он действительно был психиатром и навидался всякого. Но этот случай был не по его части, и он так и сказал об этом Фомичу, когда тот, выйдя с Фросиным из больницы и пройдя с ним для отвода глаз пару кварталов, поспешно вернулся обратно. Подумав, он добавил, что Фросин, по его мнению, еще находится в шоке и не осознает всего.
Врач ошибался. Фросин осознавал. Потому и был в шоке. Именно шок дал ему возможность перенести ощущение вины перед Алией – груз, который дано вынести не каждому.
Фросин не сошел с ума. Он продолжал жить, дышать, работать. Он пришел сейчас с Василием Фомичом сюда, и держал в руках фужер с водкой, и молчал. В нем стучали несуществующие часы, отсчитывая секунду за секундой, секунду за секундой. А может, это кровь пульсировала, стучалась изнутри в барабанные перепонки, разносила тепло и жизнь по всем клеткам его большого, сильного и живого тела.
Фросин не забывал о случившемся. Он пришел сейчас сюда, потому что единственное, что он мог для Алии сделать,– это помнить. Хотя для нее это уже не имело никакого значения, это было важно. Для него и, значит,– для нее. Он не мог бы объяснить, он просто чувствовал это. Единственное, что остается живым – память.
Фросин повернулся к Василию Фомичу, и они молча подняли фужеры и молча выпили не чокаясь. Потом Фросин подозвал бармена и коротко сказал:
– Еще...
И тот не смел ослушаться. Что-то в них было, что выделяло из толпы обычных посетителей. Насмотрелся бармен на всякую пьянь. Работа приучила его к философским рассуждениям. И он понял, что – надо, налил им опять по полному и даже не напомнил про контроль. Плевать на проверки – достаточно он получает «на хвост» от обычных посетителей, чтобы позволить себе не убояться штрафа или там потери премии. Надо иногда делать то, что нужно, пусть даже и не положено.
Водка догнала Василия Фомича. Ему стало тепло и исчезла скованность. Он прислушался к музыке, гремевшей в зале. Играли что-то незнакомое Фомичу – он не знал этой современной музыки,– но приятное. Это было что-то печальное, несмотря на четкий джазовый ритм. Гитара вела соло. Не рисунок мелодии и не окраска звука, а что-то неуловимое пронизывало воздух тоской, легкой и тоже неуловимой, подчеркнутой почти человеческой жалобой электрооргана.
Фомич сидел на высоком табурете, упершись локтем в стойку и подперев кулаком щеку. Сизое бритое лицо его мягко съехало набок. Он слушал, забыв, что всегда осуждал и эту «хипповую» музыку, и эти табуреты, называемые им «пеньками», и вообще очень многое. Он отмяк.
Когда музыка кончилась, накопившаяся от нее тоска закопошилась в душе, и Фомичу остро захотелось домой, в окружение привычных вещей и в привычную воркотню жены. От воспоминания о жене его охватило чувство вины перед Фросиным. Но Фросин сам – Фомич готов был поклясться, что тот колдун – встал, положил на стойку деньги и полуобнял на мгновение Фомича:
– Пора... Пойдем, Фомич...
На крыльце Фомич полез было за кошельком. Фросин только глянул на него в упор, ничего не сказав, и Фомич аж чуть не присел – такой у него был взгляд. Василий Фомич понял того парня у стойки – взгляд был безжалостный, не обещающий ничего хорошего. Это был взгляд человека, не ожидающего ничего, человека, которого ничто не может остановить. Это был мертвый взгляд. И тут же глаза Фросина потеплели, он дружески качнулся к Василию Фомичу:
– Ты уж меня, Фомич, извини – я сегодня немного не в себе... Я тебя провожу до трамвая...
Он проводил, и они молча подождали нужный маршрут. Фомич косолапо полез в вагон, а когда обернулся, увидел, что Фросин стоит, заложив в карманы руки, и в фигуре его нет горя, отчаяния или тоски. Если бы не жуткие его глаза, в которые удалось заглянуть Василию Фомичу, он бы не заметил этого – что в облике Фросина нет тоски, отчаяния и горя.
Снег пошел гуще. Теперь он был хорошо виден в потоках света над вечерними улицами. Снежинки несло ветром. Фросин шел по улицам, снежок похрустывал в такт его шагам. Водка на него совсем не подействовала, только разболелась голова и начало постукивать в висках. Он шел уверенной, размеренной походкой и думал, что грубоватый, нарочито простоватый Фомич на редкость, удивительно деликатен. Он молчал и сопел рядом, и так и не решился прямо сказать: «Помянем Аленушку...» – как сказала и заплакала мать Алии на сороковой день. Она приехала сюда, жила несколько дней у Фросина, сдерживалась изо всех сил и заплакала лишь дважды: когда поминали и на следующий день, когда уезжала и жалобно попросила:
– Витя, ты приезжай ко мне хоть на несколько денечков...
Фросин был единственной нитью, связывающей ее с Алией, вернее – с памятью о ней. Фросин торопливо кивнул, зная, что не приедет – точно так же, как она отказалась переехать в город к нему. Оба отлично понимали, что между ними вечно будет стоять память об Алии и им этого не вынести.
Потом Фросин принялся думать о Машине и о том, что сейчас, наверное, где-то идет или стоит, окруженная снегами, Машина. Он ей так много отдал, что она стала для него почти одушевленным предметом. Он попытался представить рев ее мотора в лесной тишине, но память сорвалась, соскользнула, покатилась вспять, и уже ревели самолетные двигатели, и несло ветром колючую снежную пыль, и он вспоминал и не мог вспомнить – мучительно ускользали, не давались, не возникали перед мысленным взором,– иссиня черные пряди волос в мертвенном свете аэродромных прожекторов, летящую легкую походку, строгие и замкнутые в себе глаза Алии.
А Машины шли в ночи. Они работали. Ночь была обычной, не праздничной, не новогодней. Днем были замеры, днем бурили мерзлый грунт, днем были другие дела. Но время не ждало, время торопило. Их, Машин, было так еще мало, а Земля – так велика, что не следовало терять впустую эти никчемные ночные часы. И Машины пробивались сквозь темноту вперед и вперед, чтобы оказаться наутро еще на десяток километров ближе к «точке», чтобы взять еще одну «станцию», чтобы выполнить то, для чего они, Машины, и существуют.
г. Ижевск
1978—1982







