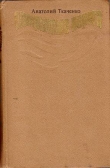Текст книги "Открытые глаза"
Автор книги: Анатолий Аграновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
– Как бы вам объяснить?.. – Мой собеседник задумался. – Был Алексей человек обыкновенный. Вы из него не делайте «сверхгероя». Простой был парень, у нас много таких. И в то же время редкостно был умен, храбр, талантлив. Может, жизнь поставила перед ним такие задачи, что он смог раскрыться до конца… Я хочу сказать, совсем не прост Гринчик, это личность выдающаяся. Он один из первых понял все значение реактивной авиации. А сколько тогда недоверчивых было! Конструкторы иные сомневались, большие ученые. Должен вам сказать, Гринчик отлично сознавал, что делает великое дело. Сказал мне как-то: «Ты не думай, что один переживаешь за эту машину. Не тебе она нужна и не мне. Знаешь, следят за нами!..» Понимаете, есть люди – видят ближнюю перспективу, есть – дальнюю видят. Есть такие, что горой встанут на защиту своего дома, а есть такие, которым вся страна – дом. Алексей истинный был патриот в том высшем выражении, когда не словами доказывают преданность, а делом… Ну, что еще? – сказал конструктор. – У нас до того дня очень сложные бывали полеты. То масло подтечет, то вибрации, то еще что-нибудь. Прерывали испытания, в лаборатории сидели по многу дней. А тут все шло удивительно гладко. И настроение было отменное. Ну, отвезли мы его с парашютом на полосу. Фотография? Нет, этого не помню. Помню, как он в машину садился. Сам я его и сажал. Лицо у Лешки было… Словом, улыбнулся он мне. Не робей, мол, все будет хорошо. Ну и…
Я увидел слезу на его щеке. Медленно текла она по неподвижной щеке и ускользнула в морщинку у рта. Долго мы молчали. Потом конструктор поднялся, повернулся к окну. А видеть там он ничего не мог: стоял мороз, снежные узоры закрыли стекла. Не оглядываясь, сказал:
– Черт его знает… Сколько лет прошло, старый уже, а вспоминать тяжело.
Шумно распахнулась дверь, вошел кудрявый парень и доложил с порога, что ребята собрались.
– О чем ты? – не понял конструктор.
– Собрались, говорю, цеховые комсорги.
– А-а-а…
– Вы хотели поговорить с ними.
– Да-да. Сейчас иду.
Мы пошли в комсомольское бюро.
– Товарищи! – сказал секретарь парткома. – Мы вас собрали для того, чтобы посоветоваться с вами о «комсомольской копилке». Полагаю, нет нужды подробно рассказывать о значении этого мероприятия. Вы сами должны понимать…
Шумливые комсомольцы с ходу перешли к делу. Надо экономить сжатый воздух. Цветные металлы надо беречь. «Конечно, мы авиация, – говорил совсем еще молодой паренек. – Нам государство ничего не пожалеет. Но надо ведь сознание иметь!» – «Я скажу об электроэнергии,– говорила глазастая девчонка. – У нас в КБ много заочников, это, конечно, хорошо. Но вот сидят пятеро в зале, чертят свои дипломы, а вокруг море света. Что бы им выключить верхние лампы…» Секретарь парткома молчал, не перебивал, слушал. В уголках его рта появилась улыбка. А глаза были красные.
В машине по пути с завода рассказал он мне еще один эпизод. Год назад он был в командировке, на одном авиационном заводе. К этому времени и относится последний рассказ секретаря парткома. Он никак не связан со смертью Гринчика. Он связан с его бессмертием.
– …Как этого летчика звали, я не помню. Всего один раз видел его. На заводе работали свои, заводские испытатели. А этот из части был прислан, военный летчик. Ас, истинный ас. Фамилию его забыл, а звали его Лешей, и был он удивительно похож на Гринчика.
Странное это ощущение. Я увидел его вначале сзади. Вошел в летную комнату:
вижу, сидит в кресло здоровенный детина. Кожаная куртка на нем, планшетка через
плечо, унты. Волосы темные. И смеется громко… Вы понимаете, встал он, прошелся, улыбнулся – Гринчик!
Может, я сейчас это так вижу. Пожалуй, сходство не сразу для меня прояснилось, а уже после полета. И все-таки особое отношение к этому летчику с самого начала было, какая-то боязнь за него… Машину он знал прилично и хотел так лететь, без задания. Я говорю: «Напрасно это, машина опытная». И его вернули со взлетной полосы. Пришел злой, не глядит на меня. Однако написали ему задание: взлет, скоростная площадка, развороты – все точно. Он, видно, обиделся. Но ничего не сказал и в задании расписался.
Взлетел. Смотрю, и снова, еще сильнее у меня ощущение: Гринчик летит! «Почерк» похож. И потом самолет-то реактивный… Понимаете, я там впервые понял: сколько ни будет новых реактивных самолетов, в каждом – кусочек Гринчикова сердца.
А работал этот Леша, надо признаться, здорово. Очень уверенно, напористо, красиво, азартно. И очень своенравно. Подпись-то дал, раз тут сидят такие «формалисты», но уж в воздухе он хозяин. Сел совсем в другом настроении. Широченная улыбка. И смотрит на меня: что, мол, скажете, уважаемый товарищ?
«Летаете вы здорово, – сказал я ему. – Но дисциплина у вас ни к черту! Вы не хмурьтесь, Леша. Думаете, инженеры от ответственности уходят, когда подписи требуют? Таков порядок. Да, да, форма. Но в нашем деле нельзя без формы. Когда человек сталкивается с неизвестностью, он обязан быть осторожным. Опытная машина до конца не известна, будь то первый вылет, будь двадцатый. Был у меня огромный друг, Леша, ваш тезка…»
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ
Итак, опытная реактивная машина, гордость и надежда КБ, разбита. Грудой обломков покоится она в земле.
Что же дальше?
Катастрофа всегда таинственна, всегда неясна. Нет человека, который с полной уверенностью может объяснить, что стряслось в полете, как не было человека, который мог бы предсказать беду.
Работает аварийная комиссия, строгие люди приезжают на аэродром, на завод, опрашивают очевидцев, задают вопросы членам экипажа, собирают на земле все, что можно собрать. И по этим крохам пытаются восстановить картину. В протоколе записано, что элерон найден в нескольких десятках метров от остатков самолета. По-видимому, тут и следует искать причину несчастья. Записано, что противовес элерона найден «отдельно лежащим» от самого элерона. Возможно, вначале оторвался противовес, а уж потом «в силу возникшей резонансной тряски» сорвало элерон. Но не исключено, что противовес отделился от элерона лишь при ударе о землю. Тогда другая должна быть причина… «По-видимому», «возможно», «не исключено» – кто даст точный ответ? А он необходим, этот точный ответ. Без него машина кончилась. И надежды КБ похоронены тогда в земле вместе с обломками первого реактивного истребителя.
Что делать его создателям? Какое решение принять главному конструктору? Он ходит по кабинету. У него болит сердце. Сердце сдало в тот день, когда Микоян узнал о катастрофе. Оно долго еще будет ныть, но он поднялся, приехал на завод. Приехал, чтобы принять решение, которое нельзя отложить. И ходит теперь по своему кабинету – десять шагов от стола к окну, десять шагов обратно. И мысль конструктора, словно заключена она в этих пределах, мечется, возвращается все к тому же. В окно видел сборочный цех: там заканчивают сборку самолета-дублера, точной копии разбитого. А на столе – папка с выводами аварийной комиссии. Время от времени Микоян присаживается к столу, листает папку. В ней схемы расположения обломков, фотографии исковерканных деталей, свидетельские показания. Но того, что он ищет, здесь нет. Нет точного указания причин катастрофы. И, следовательно, никто не освободит главного конструктора от святого его права и тяжелейшей обязанности – принять решение.
Конструктор думает.
Мне рассказывали о Микояне, что еще мальчишкой он мечтал о крыльях. Рос в глухом селении Санаин, на высоте 1700 метров над уровнем моря. Вокруг были горы. В горах, совсем близко, рождались облака. Воздушные массы простирались не только вверх, как на равнине, но и вниз. Горные ветры делали воздух упругим, осязаемым, почти видимым. В воздухе часами парили орлы, высматривая добычу. Следить за ними было не развлечением, а делом: дети Санаина знали – силы орлиных крыльев достанет на то, чтобы унести барашка.
Артем Микоян был младшим в семье. Старший его брат работал слесарем на Аллавердинском заводе, средний брат, Анастас, давно ушел в революцию, стал одним из создателей Бакинской партийной организации. Артем оставался с отцом. Отец был деревенский плотник, сыновья с малых лет приучались в его мастерской к ручному труду, и, может быть, именно это обстоятельство придало неясным мечтаниям мальчика неожиданно реальное направление: он решил соорудить крылья для полета. Будущий конструктор пытался сплести из прутьев и даже хотел «испытать» свои крылья, подвесив на них барашка. В ту пору он еще не подозревал о существовании авиации и первый самолет увидел лишь спустя несколько лет, когда в горах приземлился заблудившийся «Фарман». Неуклюжий аэроплан окончательно покорил сердце юноши.
Не будем, однако, преувеличивать значение этого эпизода, быть может, и любопытного и трогательного, но вовсе не определяющего жизненный путь человека. В конце концов в детстве каждый из нас умел мечтать. Но всем ли удается пронести это чудесное свойство сквозь годы?
Артем Микоян прошел большой и нелегкий путь. В 1918 году, после смерти отца, его послали учиться в Тифлис, потом в Ростове он прошел школу фабрично-заводского ученичества, был учеником токаря на заводе «Красный Аксай», работал токарем на заводе «Динамо» в Москве и только в 1930 году, уже призванный в армию, добился направления в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского. Окончил ее (с отличием) в 1937 году. Потом работал в КБ, главою которого был Н. Н. Поликарпов, участвовал в выпуске прославленных «чаек», руководил одной из бригад, стал заместителем начальника бюро… Дальнейшее известно: организация самостоятельного КБ, первый большой успех с истребителем МИГ-3 и бесконечные поиски нового в годы войны – человек этот успел узнать, как трудно дается воплощение мечты в жизнь.
Все эти годы Микоян учился. Учился строить самолеты и руководить людьми. Учился сохранять бодрость, когда все рассыпается прахом, и не зазнаваться, когда все идет хорошо. Всегда искать новое и безжалостно браковать отжившее, как бы ни было оно дорого. Требовать от людей невозможного и верить, что люди способны это невозможное сделать. Учился спокойствию, последовательности, упорству, уверенности в себе… Он многому научился за эти годы, но главному не учился, главное он сохранил в себе: познав, как тяжело дается воплощение фантазий в жизнь, не разучился мечтать. Видимо, это и создает настоящего конструктора.
Только еще начинались полеты его реактивного первенца, а Микоян уже мечтал о будущих машинах. И не только мечтал. В КБ делался двухместный вариант этого самолета – он понадобится для обучения летчиков, чертились первые эскизы новых, еще более мощных машин, обсуждались преимущества стреловидного крыла, начались уже споры о «звуковом барьере». И все теперь поставлено под удар.
Может быть, ошибка? Может, есть порок в самом замысле? Может, другие КБ идут более верным путем? Тут нужно быть объективным, как бы ни хотелось убедить себя в своей правоте… Нет, все-таки машина была хороша. До последнего полета, до самой катастрофы, шла она впереди, обошла другие наши самолеты и по скорости, и по дальности, и по вооружению. Что и говорить, это могло быть настоящей победой!
Микоян стоит у окна. Там, в сборочном цехе, заканчивают сборку самолета-дублера, точной копии разбитого. Те же крылья, тот же фюзеляж, те же элероны… Что ж, есть решение у главного конструктора. Очень простое решение, но трудно принять его. Надо продолжать испытания. Опыт, знания, инженерная интуиция – все за то, чтобы поступить именно так. У Микояна есть, разумеется, своя точка зрения на катастрофу. Десятки раз обдумывал он последний полет и почти точно знает, как это произошло. Но полную уверенность даст только эксперимент, до конца выяснить причину катастрофы можно лишь в полете – другого пути нет… А если снова беда? Второго срыва им уже не простят, он знает это. Что же делать? Все равно надо продолжать испытания.
Таково его решение.
И тут ему говорят, что пришла вдова испытателя. Да-да, конечно, он примет ее. Немедленно. Микоян чувствует, как сжалось сердце. Он идет к двери кабинета.
– Здравствуйте, Дина Семеновна.
– Здравствуйте, Артем Иванович.
Долго они молчат. Перед главным конструктором очень бледная, прямая и высокая женщина. Да, высокая: у всех, кто видел в те дни маленькую Дину, оставалось такое впечатление. Может быть, от осанки ее, оттого, что держалась она почти неестественно прямо. На ней черное глухое платье. Микоян усаживает вдову в кресло, сам садится. Так проходят первые минуты. Потом он говорит, слыша свой голос как бы со стороны. Спрашивает о матери Гринчика, оправилась ли она после удара. Спрашивает о детях, Коле и Ирише, здоровы ли, как себя чувствуют.
– Ничего, спасибо, – говорит она. – Растут. Всем довольны.
У нее странно спокойный голос.
– Да… Потеряли такого отца… Дина Семеновна, мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. Ни в чем и никогда.
Она молчит. Она вспоминает слова Гринчика: «Чтоб слез твоих не видели! Ты плачь дома, одна, но никому слез не показывай. Ты Гринчика жена». И она не плачет.
Микоян говорит о персональной пенсии, о пособии на детей, о том, что летчик-испытатель первого класса Гринчик представлен посмертно к ордену Ленина. Говорит о квартире, не прошенной Гринчиком, – будет квартира, он обещает, нельзя вдове пилота жить возле аэродрома.
Она все молчит. Пересилив себя, Микоян смотрит ей в лицо. И видит застывшие глаза. Глаза – зеркала: они отражают чужие взгляды, в душу не пускают. Глаза сухие, полные такой несказанной муки, что плохо становится человеку, заглянувшему в них.
Микоян поднимается, огибает стол, достает из ящика фотографию – ту самую, последнюю, сделанную за полчаса до катастрофы. Он смотрит на снимок, прежде чем передать его вдове пилота, и она видит слезы на его глазах. Потом она держит в руках снимок веселой группы, бесконечно долго вглядывается в улыбку Гринчика и слышит далекий-далекий трудный голос конструктора:
– Дина Семеновна, хочу, чтоб вы знали: ваше горе – это наше общее горе… Вот так бывает: жив человек, встречаешься с ним, да все по делу, по делу и, бывает, споришь с ним по мелочам, а нет его – и видишь: жил среди нас светлый человек… Рыцарь авиации, отдавший ей всю свою жизнь. Да, именно всю жизнь…
Он говорил, сознавая, что не находит нужных слов. Ей не нужны сейчас эти слова. А какие слова нужны ей? Найдутся ли в целом мире такие слова?
– Дина Семеновна, когда-нибудь вы поймете… Ваш муж погиб не напрасно. Эта машина очень нужна. Не мне, не заводу – стране нужна.
Микоян говорил о значении реактивной авиации, о великом рубеже, который первым перешел ее муж, говорил подробно, ему очень было нужно, чтобы эта женщина поняла его. Да, у нее есть своя правда, великая и вечная правда вдовы и матери сирот, но пусть поймет она и его правду, тоже великую и вечную, – правду, во имя которой отцы испокон веку покидали свои дом и шли защищать жен и детей.
– Нужно, – сказала она. – Всю жизнь я слышала это. Авиация нужна, испытания нужны, работать по четырнадцать часов в сутки нужно, без выходных, без отпуска – нужно… Мне ведь Алексей буквально то говорил, что и вы сегодня.
– «Этот самолет, – говорил, – нужен, чтобы детей наших защищать от таких же самолетов». Я ему верила…
– И теперь верьте, – сказал Микоян. – Он вам правду говорил.
– Он мертв, – сказала она, – а мы с вами живые.
Смертельно усталая уходила Дина с завода… Вчера подруги советовали ей похлопотать о будущем детей – это все от главного зависит. Нельзя упускать такой случай, говорили они. Пройдет месяц, другой, забудется катастрофа, и ничего ей тогда не добиться. Она слушала советы и понимала, что все это так, что со временем забудется подвиг мужа, что квартиру, о которой столько лет мечтала, можно получить только сейчас. В то же время она знала, что ничего не станет просить. И шла совсем за другим – узнать, почему погиб Гринчик. Как он погиб? Почему не спасли его? Пусть знает главный, что она ненавидит аэродром и самолеты, и все, что с ними связано. Пусть знает, пусть помнит…
(Микоян запомнил. Он выполнил все, что обещал вдове пилота. Ни она, ни дети ее никогда ни в чем не нуждались. Может, не так уж сложно было Микояну добиться большой пенсии для них или посмертного награждения для испытателя. Но всю зиму в квартиру Дины Гринчик – большую квартиру в новом доме на улице Горького, – всю осень и зиму 1946 года заводской шофер привозил картошку и всякую другую еду. Это ведь был тяжелый год, год засухи, год карточной системы… Все же казалось Дине, что вину свою замаливает главный, что откупиться хочет от вины непрошеной этой заботой. И лишь много лет спустя поняла она, что была несправедлива к главному конструктору, что и он был прав со своей правдой, и ей захотелось простить его и у него испросить прощения. Но она только подумала об этом и ничего ему не сказала.)
А Микоян долго не мог прийти в себя после этого разговора. Ходил, ссутулившись, по кабинету. Снова решал для себя все тот же трудный вопрос. Еще более трудный… До встречи с вдовой он как-то не думал, заставлял себя не думать о Гринчике. Он искал решения проблемы, так сказать, в чистом виде. Самолет разбит – нужен новый самолет, самолет-дублер. Испытания прерваны – надо продолжать испытания. Это нужно, именно нужно, не ему, не заводу, а стране. И он будет этого добиваться как коммунист, как патриот. Тут все ясно.
Вдова вернула его к тому, что инстинктивно он отдалял от себя. Кроме машины, погиб летчик. У него были жена, мать, дети. Кроме дублера разбитой машины, нужен «дублер» Гринчика. Другой пилот, у которого тоже есть мать, жена, дети. Можно ли даже во имя больших интересов Родины рисковать жизнью человека? Есть ли такое право у конструктора? Есть ли уверенность, что на сей раз он добьется победы? Десять шагов от стола к окну, десять шагов от окна к столу. На столе и голубой канцелярской папке – необъясненная смерть, за окном, в цехе – копия разбитой машины, которая таит в себе, быть может, новую смерть. И никто в целом мире не избавит главного конструктора от права его и обязанности – принять решение.
В тот же день, вечером, летчик-испытатель первого класса Марк Лазаревич Галлай получил официальное предложение: довести до конца испытания опытного реактивного самолета.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
СОВЕТЫ ДРУГА
Впоследствии он описал события июльских дней 1946 года, которые на всю жизнь врезались ему в память. Мне все равно не рассказать о них лучше, И потому время от времени я буду передавать ему слово. Вот что пишет Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Галлай:[4]4
М. Галлай. Через невидимые барьеры. М., «Молодая гвардия», 1960.
[Закрыть]
«…В тот день, когда я получил предложение взять на себя испытания нового самолета, спешно изготовленного взамен погибшего, я, помнится, с утра был очень занят: два раза летал по текущим заданиям, а в промежутках между полетами лихорадочно писал свою часть очередного запаздывающего отчета (отчеты всегда запаздывают – это непреложно установлено длительным опытом).
– У нас есть к тебе деловое предложение, Марк, – сказал начальник летной части института. – Испытай Лешину машину.
Он сказал это таким тоном, каким обычно делятся с собеседником хорошей мыслью, внезапно пришедшей в голову, но я понимал, что это не экспромт.
Я был в это время уже далеко не тем зеленым юнцом, который, услышав предложение испытать самолет на флаттер, торопится немедленно дать положительный ответ, опасаясь, как бы какой-нибудь ловкач не «увел» интересное задание из-под носа. Я стал, если, к сожалению, не умнее, то, во всяком случае, старше, опытнее и научился трезво оценивать свои силы и возможности. Но тут было совсем особое дело.
За реактивный самолет я взялся, не размышляя ни секунды, можно сказать сразу, всей душой раскрывшись навстречу этому заданию. Причин для этого было достаточно: и настоящий профессиональный интерес, который вызывала у всех у нас эта уникальная машина и естественное для всякого испытателя желание попробовать новые, никем ранее не достигнутые скорости, и, наконец, сложные личные чувства, которые трудно формулировать и можно лишь весьма приблизительно уподобить чувствам охотника, особенно стремящегося одолеть именно того зверя, в схватке с которым погиб его товарищ…»
Было ли страшно Галлаю?
Когда-то один интервьюер уже задавал ему этот вопрос:
– Скажите, пожалуйста, испытывали ли вы чувство страха?
Это было в 1941 году, в конце июля. В первом воздушном бою над Москвой Галлай сбил бомбардировщик «Дорнье-215». Его наградили за это орденом Красного Знамени, газеты сообщили о награде, вот и приехал на аэродром репортер.
– Видите ли, – ответил ему добросовестный Галлай, – это зависит от того, что вы называете «страхом». Инстинкт самосохранения присущ каждому здоровому человеку. И обстановка риска, опасности обязательно вызывает реакцию нервной системы. Только у так называемого труса эта реакция выражается в подавленности, скованности, отупении, а у так называемого храбреца – в повышенной ловкости, сообразительности, остроте восприятия. В этом смысле страх, если хотите, помогает собраться в полете… На другой день Галлаю проходу не давали. Больше всех, как и положено другу, смеялся над ним Леша Гринчик.
– Ну, король воздуха, поделись с нами, простыми смертными, своими идеями насчет страха.
В газете было написано:
«В ответ на наш вопрос: «Испытывали ли вы чувство страха?» – летчик-орденоносец М. Галлай ответил: «Советским летчикам не свойственно это чувство!»
Галлай не смог на шутку ответить шуткой. Он рассвирепел и чертыхался.
Нет, страх, конечно, был. И тогда, в войну, и теперь, когда ему предложили довести самолет погибшего друга. Страха не могло не быть. Хорошо сказал об этом летчик-испытатель Григорий Александрович Седов. «Есть, видимо, люди, – говорил он мне, – которые действительно всю свою жизнь прожили, «не зная страха». Просто в силу своих сугубо штатских, земных профессий. А летчик, он знает, что такое страх. Если бы у летчика был хвост, все бы видели, как он его поджимает»… Страх был, но было и то, что помогает пилоту собраться. На сложные эмоции времени попросту не оставалось. Бездну дел предстояло сделать Галлаю прежде, чем он полетит на реактивном самолете.
Предстояло изучить машину так же тщательно, как изучил ее в свое время Гринчик. Работа была облегчена: Галлай шел вторым, ему уже не нужно повторять то, что сделано его другом за двадцать испытательных полетов. Опыт Гринчика незримо сопутствовал Галлаю. Но в то же время было и труднее, потому что двадцатый полет закончился катастрофой. Где затаился враг? Должно быть, там, где до Гринчика никто еще не был. На тех новых режимах, которых реактивный истребитель достиг первым. Скорее всего так. Но что же с ним стряслось? Галлай, словно опытный шахматист, разыгрывал всевозможные варианты «партии»: отказал один из двигателей, оба отказали, началась тряска, флаттер, затянуло в пикирование… И понимал, что этого мало, что решения все еще нет. Ведь и шахматист, когда разыгрывает свои варианты, не может заранее предугадать все ходы партнера. А у испытателя партнер – неведомое.
Только в воздухе, в небе, лицом к лицу с неведомым он поймет, почему разбилась эта машина. Иного пути нет, ибо единственный человек, который мог бы рассказать о катастрофе, никогда уже ничего не расскажет.
Вечер, Галлай на аэродроме, в летной комнате. Советуется с погибшим другом. На столе перед ним полетные листы, исписанные с обеих сторон. На одной стороне – задания, на другой – наблюдения и замечания пилота. Двадцать листов. Последний, двадцатый заполнен лишь с одной стороны – с той, где записано задание. Знакомый почерк Леши Гринчика, скупые строки – он ничего не писал лишнего, был строг к себе. Впоследствии Галлай прочел книгу П. П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», и тогда снова вспомнились ему эти полетные листы. В книге описан разведчик, который свои донесения делил на три части: «Видел. Предполагаю. Хлопцы говорят». Так примерно писал свои донесения и Гринчик – настоящий человек с чистой совестью.
Он будто чувствовал, что друзьям придется идти вслед за ним, – ни одного преувеличения, ни одного неточного слова. Вот это я видел сам, это успел довести до конца, а тут задумался, тут уж вам, друзья, доводить, и вы непременно учтите те трудности, с которыми мне пришлось столкнуться… Перечитывая эти записи, Галлай слышал живые интонации друга, ощущал ясный ум его, упорство, неистребимое стремление вперед, преданность делу. Это очень хорошо, удачно вышло, что именно ему, Галлаю, дали Лешину машину: в коротких рапортах товарища он мог прочесть больше того, что прочли бы другие.
О многом Гринчик вовсе не писал. Но, зная задание, записанное на обороте, можно было понять: раз ничего не сказано, значит, здесь можно не ждать подвоха. Гринчик не писал лишнего. Зато о сложном он не уставал повторять. Некоторые записи встречались едва ли не в каждом полетном листе. «Тряска…», «Тряска…», «Тряска…» – все чаще мелькало это слово. Постепенно Гринчик уточнял: тряска возникает на таких-то режимах полета, на таком-то диапазоне скоростей. Гринчик словно предупреждал друга: «Обрати, Марк, внимание на тряску. Тут и тут я ее проверил, на этих скоростях она не опасна, а уж дальше тебе идти…»
Гигантский труд скрывался за двадцатью листами, которые снова и снова перечитывал Галлай. На двадцати страницах уместилась целая повесть – повесть о том, как человек учил машину летать. От полета к полету Гринчик продвигался вперед, поднимался на новые высоты, пробовал на новых скоростях, выполнял новые для этой машины фигуры. Если самолет что-либо делал плохо, Гринчик упорно добивался ответа, почему плохо. И старался «научить» делать хорошо… Это и есть испытания, доводка новой машины, постепенное улучшение конструкции, которое летчик ведет в соавторстве с учеными и инженерами. Гринчик вложил в эту работу всю свою силу, все знания, весь свой зрелый испытательский талант.
Галлай вспоминал.
Раннее утро, часов пять утра. Гринчик уже готов к очередному полету, он едва ли не первым из летчиков приходил на аэродром. Небо чистое, Гринчика выпускают, и взлет проходит почти незамеченным. Ко всему привыкают люди, привыкли и к реактивному гулу. Знай они, чем это кончится, каждый взлет старались бы запомнить, чаще бы говорили с Гринчиком, выпытывали бы все подробности. Кабы знать… В том-то и беда, что не знали. Обычная жизнь продолжалась на летном поле, работал Гринчик, работали и остальные пилоты. Но в тот день и десяти минут не прошло после реактивного взлета, как начался туман. Серая пелена опустилась на землю, закрыла аэродром. В десяти шагах ничего не видать. А Гринчик – в воздухе. С земли не видно было, как он летит, слышался только тревожный рев двигателей. Раз он пронесся над аэродромом, другой раз прогудел над головами людей, а сядет ли? Главное, дорожка-то у него на пределе, очень уж длинный пробег: требовался точнейший расчет. Он и в ясные дни останавливался у самого края поля, а тут туман… Пятнадцать минут в распоряжении Гринчика, двенадцать минут, восемь, семь, – скоро окончится запас горючего… Гринчик посадил машину. Сориентировался каким-то чудом, угадал направление бетонной полосы, точно подобрал скорость, и ему хватило дорожки. И даже в полетном листе ни словом не обмолвился о происшествии. В тот день в задании значилось «дача элеронов», об этом и докладывал. А капризы погоды – вещь случайная, к делу не относящаяся. Но этот туман запомнили друзья.
Галлай снова вспоминал.
– Отличная машина! – сказал ему после другого полета Гринчик. – Но полетаешь на ней полчаса, а потом до вечера мерещится, будто аж глаза в своих впадинах вибрируют.
На определенной скорости, очень по тем временам высокой, начиналась тряска. Какой-то противный мелкий зуд, от которого дрожал весь самолет. Стенки кабины дрожали, вибрировал стеклянный фонарь, и приборная доска, и ручка управления, и сиденье пилота. Это не был флаттер, опасный для машины, но нельзя было допустить, чтобы странная вибрация росла: она в дальнейшем могла стать опасной. Несколько раз Гринчик специально ходил «на тряску», записывал ее приборами. Записи эти, а затем и опытный самолет исследовались в институте, пришлось на какой-то срок прервать испытания.
Ученые пришли к такому выводу: в тряске повинна реактивная струя. Двигатели поставлены в фюзеляже, в нижней его части. Струя газов обтекает снизу хвост самолета. Она и раскачивает его… Иные из научных консультантов считали даже, что это порок самой конструкции. Надо вернуть двигатели на крылья, говорили они. По-видимому, «разнесенная» схема не зря была признана классической.
Авторы самолета не соглашались с учеными. Испытания продолжались. Аэродинамики, группа флаттера, бригада обтекания дневали и ночевали на лесном аэродроме. Включился в поиски и наземный экипаж. И вот бывает же так в авиации: десятки людей бились над проблемой, a решение оказалось простым донельзя! Однажды механик подтянул болты на хвостовом экране самолета. Ему показалось, что этот жаростойкий экран, предохраняющий днище фюзеляжа от раскаленных газов, сидит недостаточно жестко. Механик просто-напросто затянул болты потуже, и тряска сразу уменьшилась. Да, да, резко уменьшилась – первый же полет Гринчика подтвердил это. Ведущий конструктор доложил о странном явлении Микояну, и тот принял решение: хвостовую часть надо укрепить, усилить. Не ограничившись затянутыми болтами, он поставил дополнительные диафрагмы в хвосте.
В полетных листах больше не было упоминаний о тряске. Но и полной уверенности, что она не повторится, тоже не было. Вибрации прекратились на тех скоростях, каких достиг Гринчик, но могли снова возникнуть на большей скорости. Струя-то осталась, и экран, хоть и укрепленный, оставался на месте. Значит, тряска еще могла подстерегать испытателя.
А может, об опасности предупреждало другое явление, совсем коротко, вскользь отмеченное в одном из полетных листов. Резкий, пронзительный, ни на что не похожий свист возник вдруг в полете. Гринчик написал только, на какой скорости он начался (скорость была довольно высокой) и когда прекратился. Вот и все. Но можно представить себе, как этот свист выматывал душу летчика: Гринчик не знал ведь, что он сулит машине. Сама неизвестность заявляла о себе, и надо было понять, в чем тут дело… Тогда наземный экипаж самым тщательным образом исследовал самолет: все агрегаты оказались целы, ничто не лопнуло, не треснуло. И Гринчик продолжал летать. О своей тревоге говорил друзьям с улыбкой, свист именовал «художественным». Конечно, слышать его было не очень приятно, но раз машина терпит, то и человек может вытерпеть. Это уж вопрос удобства, комфорта… Больше Гринчик ни разу не писал о свисте, посчитав, видимо, что для самолета он не опасен. Но так ли это?