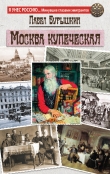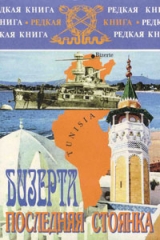
Текст книги "Бизерта. Последняя стоянка"
Автор книги: Анастасия Ширинская
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Пасху ожидали, готовились, праздновали все с той же торжественностью. Еще в течение многих лет жили традиции. Так обычаи, перенесенные из другого века, из другого мира, приспосабливались к скромным условиям нашего существования.
Очутившись в чужой стране, наши отцы в большинстве случаев сумели установить дружеские отношения. Конечно, в нас многое казалось любопытным, хотя бы это «хождение в гости» без всякого приглашения. Просто так решали пойти к Поповым и к Зубовичам, которые, в свою очередь, благодарили, что их не забывают!
Мама, работая целый день у чужих, кончала домашнюю работу по вечерам. У нас, детей, были школьные задания. Нам было трудно ходить по гостям, но и у нас всегда был народ. Люди не семейные часто приходили провести вечер; всегда были чашка чая и пламенные споры вокруг стола. Когда не было места разложить тетрадь на столе, я писала на стуле, сидя на подушке на полу, что совсем не мешало мне решать задачи. У меня на всю жизнь осталось убеждение, что одиночество и тишина не всегда и не для всех необходимы для работы, требующей сосредоточенности. Одним из постоянных посетителей был Михаил Юрьевич Гаршин, в свое время частный секретарь греческой королевы Ольги Константиновны. В 1926 году, после смерти королевы, найдя приют в Италии, он приехал в Бизерту, кажется по приглашению брата своей жены старшего лейтенанта Л. Фон дер Ропп. Еще в Японскую войну Гаршин был серьезно ранен. Королева Ольга Константиновна в один из своих визитов в госпиталь озаботилась судьбой молодого инвалида и обеспечила ему работу. Ольга Константиновна, дочь великого князя Константина, брата Александра II, пользовалась большим уважением у русских моряков.
Много видевший, много знавший, Гаршин был интересным собеседником, хотя снисходительностью он не отличался, и многие остерегались его остроумия.
У Гаршина были исключительные сюжеты-воспоминания, связанные со множеством значительных событий. Когда он рассказывал, забывалось его искалеченное лицо.
Воскресным визитером был наш старый Демиан Логинович Чмель. Он приходил сразу после обеда, чтобы попить чай со своим командиром. Для нас, детей, он приносил несколько пирожных. Чай пили из больших чашек; очень горячий и очень сладкий. Разговор всегда состоял из одних и тех же воспоминаний – взятие Очакова, эвакуация Одессы… Когда разговор замирал, на помощь приходила мама и переходили на неисчерпаемую тему снов. Сны Демиана Логиновича тоже были одни и те же. Главную роль в них играли Николай Угодник и Пресвятая Богородица. Каждый раз, произнося эти святые имена, он крестился и кланялся.
Так как мама сидела против него, неизвестно было к кому он обращался и кому он молился. Выходило приблизительно так: «И вот, Зоя Николаевна, Матерь Пресвятая Богородица…», поклон с крестным знамением в сторону мамы. Мы с Валей с трудом сдерживали смех. Пересказывание снов могло длиться часами. Мама подавала реплику. Папа умудрялся читать одним глазом, книга всегда была недалеко. Но когда под вечер старичок вставал, папа, казалось, ничего не пропустил: «Как, Демиан Логинович, уже уходите? Ну до следующего воскресенья!»
* * *
Мне было пятнадцать лет, когда Борис Конюс появился в церкви в одно из воскресений. Он отбывал воинскую повинность во французской армии и на этот срок был послан из Парижа в Бизерту. Каким-то сказочным миром веяло от его рассказов. Русская эмиграция в Париже, Волконские, Урусовы, Трубецкие, круги русской консерватории, где преподавал его отец, но также веселые случаи из его собственного опыта молодого шофера такси.
Высокий, сухощавый, что-то неопределенно элегантное в движениях, со светлыми волосами и смеющимися глазами, таким он останется для меня на всю жизнь.
Вместе мы пережили в один из пасмурных зимних дней смерть князя Андрея из «Войны и мира». Он мне читал Толстого, когда я лежала с температурой и упорно поворачивалась к стене, чтобы скрыть слезы. Вместе провели мы последний день, перед его отъездом. День полный солнца, полный моря и такой грустный для меня. Мы гуляли по длинному молу, и он говорил о загадочном, привлекательном будущем, о своем решении начать новую жизнь, жизнь, которая казалась нам бесконечной, богатой возможностями и успех которой зависел только от нас самих.
Позже из Парижа я получила длинное письмо, только одно, и в нем тепло говорилось о девушке в голубом на фоне голубого неба и синего моря.
Тогда мы только начинали жить. Какие выборы представятся нам в будущем, и к чему приведет нас жизнь? Что сможем мы на это ответить, когда ее проживем?
Моя жизнь будет тесно связана с развитием Бизерты, европейской части которой не было в те времена. Большая часть французского населения состояла из военного гарнизона, который возобновлялся каждые два или четыре года. Но было также много штатского населения: чиновников, докторов, фармацевтов, мелких коммерсантов… Все они обосновались «на веки вечные», все видели будущее семьи в стране Тунис. Русские тоже внесли свою долю в развитие города. Культурный уровень этой эмиграции, ее профессиональная добросовестность, умение довольствоваться скромными условиями, все это было оценено окружающим ее разнородным обществом. Эти качества первой русской эмиграции объясняют ее популярность у обездоленных классов тунисской деревни, где русские работали землемерами или надзирателями. Слово «русси» не было обидой на устах мусульманина, но скорей рекомендацией. Много лет спустя уже в независимом Тунисе президент Бургиба, обращаясь к представителю русской колонии, сказал, что она всегда может рассчитывать на его особую поддержку.
В Бизерте в конце 20-х годов русские не считались иностранцами. Их можно было встретить везде: на общественных работах и в морском ведомстве, в аптеке, в кондитерских, кассирами и счетоводами в бюро. На электрической станции было несколько русских. Когда случалось, что свет гас, всегда кто-нибудь говорил: «Ну что делает Купреев?» Ольга Рудольфовна Гутан сидела за кассой большого магазина «Венецианский Карнавал». Одна дама, не помню ее имени, проверяла билеты в кинематографе «Гарибальди» и давала нам с Валей время от времени по билету. Мы ходили на первый сеанс в воскресенье, и, так как мы отождествлялись в персонажах, фильм делался для нас сказочным приключением. В «Атлантиде» для нас не было подходящих героев, но в «Фанфан-тюльпане» Валя была веселой невестой Фанфана, а я переживала трагические события в лице маркизы – я была мадам Фавар.
Это были годы Рудольфо Валентино. И он играл Дубровского! Помню, как мне хотелось идти смотреть картину второй раз, так мне нравился Валентино, в блистательной форме при дворе Екатерины Второй! Мама огорчалась моим желанием смотреть два раза подряд «такую чушь». Она была возмущена «таким неуважением» к произведению Пушкина. Я тоже понимала, что это не полагается, но Валентино все можно было простить! Мама бы согласилась, если бы она только его увидела. Но мама в кинематограф никогда не ходила; работа оставляла ей очень мало свободного времени, но она никогда не переставала читать. Новых русских книг больше не было. Не владея свободно французским языком, она все же принялась за французские книги. Тремя первыми, говорила она, трудно было овладеть, но последующие она читала, уже не задумываясь на каком языке они написаны.
К счастью, с некоторых пор она уже не работала по хозяйству. Моя преподавательница математики, мадам Дотри, искала русскую даму, чтобы смотреть за новорожденным ребенком. Люи был тихим мальчиком и очень привязался к маме. По просьбе родителей она говорила с ним по-русски, и вскоре он говорил на двух языках, прекрасно зная, на каком языке он должен к каждому обращаться. В конце 20-х годов большинство русских дам смотрели за детьми или прирабатывали дома, вышивая мережки.
Мария Аполлоновна Кульстрем, вдова бывшего градоначальника Севастополя, ходила по домам штопать белье. Все ее дни были разобраны между французскими видными семьями города: Ануй, Лямбло, Февр-Шалон… Всегда очень строго одетая, черная бархотка вокруг шеи, сложная прическа не без помощи искусственных добавлений, очень точная, она усаживалась перед работой, не теряя ни минуты. Она пользовалась у всех большим уважением.
Конечно, все эти работы очень скромно оплачивались. Музыканты зарабатывали много лучше. Кто из бизертской молодежи этих годов не брал уроков музыки у русского преподавателя?! Я знала только одну француженку, мадам Бониар, которая давала уроки пианино. Фамилия мадам Плото, дочери генерала Кульстрема, живет еще в памяти. Худенькая и слабенькая на вид, она обладала исключительной энергией. Чтобы воспитать двух детей, она давала до 17 получасов уроков пианино. Каждый вечер и даже в воскресенье она играла в оркестре в кинотеатре. Тогда еще не было говорящих картин. В антрактах она засыпала на несколько минут на коврике за занавесью. Веревочка, привязанная к щиколотке, давала возможность Петру Леонидовичу Афанасьеву, игравшему на скрипке, ее будить, если, задерживаясь на тремоло, она засыпала над клавиатурой. Ей случалось об этом рассказывать со смехом много позже. Музыканты играли также по ночам на балах. В этом гарнизонном городе балы давались часто: бал преподавателей, бал бывших комбатантов, бал почтовых чиновников…
Музыкантам работы хватало так же, как и зубным врачам. Самыми известными в городе были С. И. Запольская и Е. Н. Хомиченко. Клиенты могли выбирать между двумя. Серафима Ивановна Запольская – дельная, точная, в строго обставленном кабинете, без снисхождения к самой себе, была также мало снисходительна к клиентам.
Елена Николаевна Хомиченко – так называемая «Леночка» – принадлежала к семье Поповых, единственной между нами имеющей валюту и драгоценности, которые они смогли каким-то чудом привезти из России в туго набитых чемоданах. Из принципа ничего не выбрасывалось. Таким образом, зубной кабинет был скопищем разнообразного хлама. На столике – подвенечная фотография «Леночки», в длинном платье с треном и венком из «fleurs d'oranger». На полочках подарки благодарных пациентов покрывались пылью. Занимаясь больным зубом, «Леночка» рассказывала совсем не относящиеся к делу истории, но умела остановиться вовремя и выбрать надлежащий момент. У нее была легкая рука, и ее поцелуи скорей успокаивали пациента, который никогда не доверится зубному врачу без внутреннего страха.
Таким образом, каждая из врачих имела свою клиентуру, что позволяло им жить гораздо богаче, чем окружающая их русская среда.
Семья инженера-механика, генерала Попова, вероятно, под влиянием генеральши Валентины Павловны Поповой, претендовала более или менее открыто на представительство русской колонии в Бизерте. У них была возможность принимать визитеров, что позволяло им отвечать на официальные приглашения. Многие об этом сожалели, считая, что Поповы не представляли нашу колонию в лучшем освещении. Как бы то ни было, они старались собрать всех русских в праздничные дни. Не пойти к ним – было бы незаслуженным оскорблением, так как вреда они никому не приносили и скорее приходили на помощь, хотя и очень осторожно. В результате на их приемах было всегда много народа, но публика была очень разнообразная. Собирались группами, размещались по возможности, пили чай, ели «понемножку» всего. Программа была известна годами: пели хором и Алмазов читал стихи… Была и проза; помню, что «Могилу Евгения Базарова» он читал с «душой».
Совсем другим был прием у Марии Аполлоновны Кульстрем. В день Марии Египетской она принимала только друзей в маленькой квартире над магазином Феликс Потен. Прекрасная хозяйка, она умела принять каждого, как самого почетного гостя. Смотря на ее простоту и заботу, невольно думалось о приеме в Севастополе Государя Николая II.
Супруга градоначальника, она сидела около императора, который обратился к ней по имени-отчеству: Мария Аполлоновна. У него была исключительная память. В тот день она принимала императора. Теперь она принимала нас все с тем же желанием угодить приглашенным.
Вера Евгеньевна Зеленая жила в мансардной комнате на террасе большого дома в центре города. Входя в ее одинокую комнатушку, гость попадал, совершенно неожиданно, в теплую, уютную обстановку. Все напоминало далекое прошлое. Портрет стройной, небольшого роста девушки – это она в Милане. Портрет человека в офицерской белой морской форме – это ее муж, пропавший без вести. Как переживала она свое одиночество на пороге старости, на этой высокой террасе, открытой зимним ветрам! Днем ее можно было не узнать: жалкая, на искривленных ногах фигура, сгорбленная под тяжестью корзинок, набитых «русским печеньем», которое она продавала, разнося по клиентам.
В день святой Ольги, святой Веры мы ходили поздравлять Ольгу Рудольфовну Гутан и ее маму Веру Августовну. У них бывали только друзья. У них тоже все напоминало прошлое. Вера Августовна была сестрой адмирала Эбергардта, который командовал в мировую войну Черноморским Флотом. Она тоже принимала когда-то в Морском Дворце в Севастополе…
Теперь жизнь ее сводилась к двум маленьким комнатам, окна которых выходили в сад монастыря. Она выходила только, чтобы покормить у подножия лестницы кошек, с которыми она говорила по-французски, потому что это были «французские кошки». Мы виделись каждый день, так как дом, в котором жили дамы Гутан, стоял против нашего.
Память о прошлом бережно хранилась, но никто не жаловался и не роптал. Мы жили в таких повседневных заботах, что для бесплотных сожалений не оставалось места. Русская пословица гласит, что, «потерявши голову, по волосам не плачут». Много позже я узнала, что у Веры Августовны самый молодой из сыновей остался в России. О нем она ничего не знала. Был ли он еще жив?
Как безразлично казалось все остальное!
* * *
Мы регулярно получали новости из Югославии. Бабушка с Анной Георгиевной жили теперь в Дубровнике. Они получали маленькую пенсию, вероятно, очень недостаточную, так как им пришлось продать американцам портрет Александра II с собственноручной подписью; ту фотографию, которая нас чуть не погубила при одном из обысков в Рубежном.
Мама старалась, как могла, им помочь, когда случилось совсем неожиданное событие: ее тетя Екатерина Фарке, которая была замужем за австрийцем и не все потеряла в России, оставила ей небольшое наследство. Бабушка снова ожила. Ее письма были полны проектов, один не реальнее другого, с далекими юношескими отголосками Смольного. Помню, что она мечтала построить на берегу Адриатического моря «Павильон искусств». Мы получили посылки: тонкое белье по моде XIX века, серебряные столовые ложки с инициалами «E.F.», золотые часы для Шуры – бабушкиной крестницы. Часы были с императорским гербом – это царский подарок, полученный бабой Муней. Конечно бабушка поехала в Париж, где с некоторых пор жили ее два сына – Ника и Иосиф. Ее встречали с цветами. Дамы, мужья которых служили под командой генерала Кононовича, ждали ее на вокзале. Она встретила много знакомых в гвардейских кругах.
Кажется, очень скоро от наследства ничего не осталось! Но тогда произошло другое неожиданное событие. Мы узнали, что сорок лет тому назад молодая Анастасия Александровна Насветевич встретила на выпускном балу Смольного молодого офицера и что жизнь ее могла сложиться по-другому. Почему осталась эта встреча только нежным воспоминанием? Как встретились они теперь? Далеко от Смольного, далеко от полно прожитой жизни, оба одинокие, они нашли в этой встрече обоюдное утешение. Так бабушка вышла замуж за Димитрия Розалион-Сошальского.
* * *
В 1928 году я смогла «попутешествовать». Я поехала в Тунис!
Уже восемь лет, что мы жили в Бизерте, у нас не было возможности никуда двинуться. Невероятно, когда думаешь о беспредельных пространствах, которые мы исколесили в моем детстве в России. Я поехала к Татьяне Степановне Ланге, которую не видела с того незабываемого дня, когда на Рождество она повезла меня на елку. Уже несколько лет, как ее муж Александр Карлович работал шофером в Тунисе у директора лесного склада «Morel et Livet» (Морель и Ливе). Он иногда заходил к нам, когда возил своего патрона в Бизерту. В начале лета 1928 года я уехала с ним в Тунис по приглашению Татьяны Степановны провести у них месяц.
Каким веселым городом был Тунис в конце 20-х годов! И не надо думать, что это мое старческое воображение в поисках моих шестнадцати лет!
Автомобиль уничтожил толпу. Для пешеходов город жил в коммерческих и заселенных кварталах, в прогулках под фикусами, на террасах кафе и кондитерских: «Ля Руаяль», «У негров», «Кафе де Пари», где назначались встречи, или у «Шилинга» на площади Пастер. Старые тунисцы подтвердят, что площадь Хальфауин никогда после войны не обрела того веселья, которое царило в те года, даже в месяц Рамадана.
Я провела благодаря Татьяне Степановне очень веселые каникулы. Она меня хотела побаловать, и для меня все было ново и, следовательно, полно интереса.
Ланге жили в маленькой квартире из трех комнат на улице Каира, 15, совсем близко к центру города, тогдашней авеню Жюль Фери. Татьяна Степановна превратила квартиру в модный салон. Ее карьера модистки началась очень скромно: не имея денег чтобы купить себе шляпу – тогда все носили шляпы, – она сама сшила себе из материи головной убор, потом подарила шляпку подруге, потом подругам подруги… Так зародилась ее слава модистки. Скопив необходимую для путешествия сумму, она поехала в Париж и прошла специальные курсы. Теперь известная модистка, она делала шляпы для мадам Люсьен Сен и для дам Генеральной резиденции. Ночью я спала в узкой комнатке, где днем примеряли шляпы. В довольно просторном ателье, столовой – днем, спальной – ночью, было всегда много народа: две или три русские дамы, склонившиеся над шитьем, но также неожиданные визитеры, которые устраивались на заваленном кусками материи диване в ожидании чая. В третьей комнате жила старая Ксения Ивановна, которую я хорошо знала по «Георгию», вернее хорошо знала ее худую фигуру, которая, как тень, мимоходом проскальзывала по Церковной палубе, как бы боясь, чтобы кто-нибудь с ней не заговорил. Очень редко выходила она из своей каюты с нотами в руке, направляясь в Адмиральское помещение, где она играла на пианино в часы, когда зала была пустая. Только десятками лет позже узнала я, что ее младший сын Владимир был убит в начале революции во время массовых убийств офицеров на Балтике, и я вспомнила тот далекий вечер в Ревеле, когда Александр Карлович ждал у нас новостей о брате. Как могла посмертная фотография мученика попасть в руки матери? Часами Ксения Ивановна неподвижно сидела с фотографией в руках. И однажды фотография исчезла. В маленькой квартире в Тунисе ей труднее было уединиться. Всегда прямая, всегда в черном, она много курила и говорила очень мало. Ее отчужденность тем более поражала, что ее невестка была центром деятельной жизни, которая кипела вокруг нее. Личное обаяние Татьяны Степановны? Она любила понравиться и умела нравиться, несмотря на то, что ее облик совсем не соответствовал моде тех лет. Я никогда ее не видела с глубоким декольте, ни с голыми руками, она даже не отстригла волосы. Похудеть она тоже не стремилась и скорее умела выбирать со вкусом то, что ей шло. Ее обаяние заключалось в ее манере быть самой собою: выразительное лицо, прямой взгляд, она привлекала с первого взгляда. Она умела принять посетителя. У нее было всегда много народа, и ей приходилось работать по ночам, так как дня ей не хватало. Чтобы не беспокоиться, она не носила часов и жила в полном неведении времени. Торопиться она тоже не любила. Когда она просила подождать ее «немножко», нельзя было удержаться от улыбки. Но она умела быть точной, если это касалось расписания церковных служб. Мы ходили на всенощную в субботу и на литургию в воскресенье утром. Был в Тунисе на улице Селиэ, № 60 большой арабский дом, многочисленные комнаты которого выходили на внутренний двор. Отец Константин Михайловский со своей многочисленной семьей занимал несколько комнат, все остальные были сданы русским жильцам. В самой большой из комнат находился алтарь. Когда места не хватало, люди молились во дворе. Духовная жизнь русской колонии оставалась долго связана с этим кварталом Туниса. Отец Константин олицетворял с большим достоинством моральные ценности русского православия, и матушка была ему доброй и разумной помощницей. Русскую церковь на авеню Мухамеда V построили только в 50-е годы. Большинство русских, прибывших с эскадрой, устроились в самом городе Тунис или в его окрестностях. В церкви я встречала много знакомых лиц с «Георгия». Иногда по воскресеньям мы ездили на пляж. Мы садились на маленький поезд: Тунис – Гулет – Марса и высаживались в Амилькаре. Счастливая эпоха, когда возможно устраивать пикник в Амилькаре! Море было чистое, пляж пустынный. Мы могли смеяться и петь, никому не мешая. Число моего возвращения домой приближалось, и я старалась уговорить Татьяну Степановну поехать со мной на несколько дней в Бизерту. Мне ни на секунду не приходила мысль, что у нас не было ни одного свободного угла, чтобы ее приютить! Она обещала приехать на мой день рождения. Они приехали с Александром Карловичем на целый день. Знаю еще, что это была среда. Один из молодых людей прислал из Туниса поздравительную открытку:
В Бизерту, в среду, к чему лукавить,
Я не приеду, чтоб Вас поздравить.
Среда, 5 сентября 1928 года. Мне 16 лет.
Среди подарков – маленький флакон духов «Quelgues Fleurs», которые по традиции можно дарить барышне. До 16 лет душиться не полагалось.
* * *
Учебный 1928/29 год начался 1 октября. Я готовилась к дипломному экзамену. Никогда я так много не занималась: все предметы сдавались письменно и устно, программы были перегружены и вопросы могли затрагивать три последних года. Экзамен держали в городе Тунис, в школе Поль Камбон. По оценкам я оказалась первой, а второй была моя подруга Эма Ситбон. Бизерта заняла первое место, и наши учителя были в почете. Они действительно были хорошие, школа все еще называлась Лякор, но директриса была уже новая.
Мадам Лякор с нами распрощалась в 1927 году. В последний день, после прощальной речи, она сказала несколько слов каждой из нас. Не помню дословно, как она выразилась, обращаясь ко мне, но речь шла о качествах ума и качествах сердца, которые всегда должны быть тесно связанными. Мне почему-то показалось, что она беспокоится насчет «сердечных качеств». Неприятная мысль: «Неужели так очевидно, что у меня их не хватает?» Новая директриса преподавала нам французский язык и литературу. С первого же урока мы стали свидетелями исключительной методики преподавания исключительно одаренного преподавателя. Прошло больше половины века, но я все еще под очарованием того необыкновенного урока. Фраза открывалась как цветок, где каждое слово в общей гармонии имело свой контур, свой цвет и свой запах. Мы были еще под обаянием прочитанного, когда, закрыв книгу, она потребовала, чтобы мы воспроизвели текст по памяти и без орфографических ошибок. К нашему большому удивлению, нам это удалось. Надо сказать, невыполнившие задания были так строго наказаны, что на следующих уроках слушали гораздо внимательнее. Для нашей группы 1930 год был последним годом в школе Лякор. Мы расставались навсегда. И сейчас в моей памяти встают, казалось бы, давно забытые лица с неожиданной живостью.
Ивет Жанти, умная, очень решительная, была очень хорошей ученицей. В течение нескольких лет мы возвращались из школы одной дорогой. Я останавливалась на улице Табарка, она продолжала путь на Матер. У Ивет был очень хороший голос. Она мечтала уехать во Францию и поступить в консерваторию.
Ивон Кузанса и я занимались вместе по четвергам – четверг был свободный от школы день. В их темноватой, но теплой квартире на улице Тунис мы все послеобеденное время решали задачи под благожелательным взором мамаши Кузанса. В 4 часа она приносила нам горячий шоколад с огромными ломтями хлеба с маслом, которые она отрезала от круглого, еще горячего хлеба. Я также дружила с Жозефиной Вив. Ее отец был военный, и они жили в казенной квартире над «Испанским Фортом». Мы проходили вдоль Старого порта, входили в Казбу и поднимались на городской вал. Кто мог бы подумать, что за этой зубчатой стеной находится просторный сад и уютный дом? Но настал день, когда Жозефина не пришла в школу. Она вообще перестала приходить. Она перестала учиться, она перестала говорить… Она ушла куда-то далеко! Я знала ее разумной, милой. Что с ней случилось? Какого недуга стала она невинной жертвой?
* * *
Мне было семнадцать лет, когда я начала давать частные уроки. Моей первой ученицей в Бизерте стала Марсель Гэона, родители которой держали «Большой Ориент-Отель». Я приходила к ним под вечер, после школы, чтобы заниматься с одиннадцатилетней девочкой. Надо было пересечь большой зал, где всегда бездельничало несколько матросов, потом внутренний двор, в глубине которого находилась их частная квартира на отлете от шумной жизни кафе, что позволяло ребенку жить своей прилежной жизнью. Видно было, что родители об этом беспокоились.
Евгения Сергеевна Плото приходила давать уроки музыки и нас всегда принимали с какой-то невысказанной благодарностью Марсель была очень старательной и послушной девочкой, и если я на нее иногда и сердилась, то только моя неопытность тому виной. Во время урока мне приносили большой стакан «Сар а' l'eau», что мне очень нравилось, хотя обыкновенно я никогда не пью спиртного. Очень скоро я приобрела других учеников; многие, переходя в следующий класс, просили меня продолжать следить за их учением. Так, постепенно, переходя с ними из класса в класс, я осваивалась со своей профессией. Много лет спустя, после инспекции в лицее, инспектор написал про меня в своем рапорте, что как «врожденный педагог», я обладаю «большим опытом». Этот опыт был, конечно, приобретен годами практики и, главным образом, тем, что поначалу я сама была в одно и то же время ученицей и преподавательницей. Я знала по собственному опыту, где находится затруднение. В течение долгих лет очень много учеников пройдут через мои руки.
Бизертяне хорошо знают мой адрес, и бывшие ученики посылали мне своих детей на учебу. Так, тридцать лет после начала моей карьеры с маленькой Марсель, я следила за занятиями ее сына и ее дочери. Часто их приводила ко мне бабушка. Озабоченная их успехами, она знала их отметки, говорила о латинских переводах, сокрушалась о неудачах. Ее праправнуки, которые живут теперь во Франции в благоприятных культурных условиях, знают ли они, что многим обязаны упорству небольшой, скромной женщины без большого образования, любовь и вера в будущее которой никогда ей не изменили.
Так, в 17 лет я начала немного подрабатывать. Я сама покупала книги, одевалась и даже начала собирать деньги, чтобы продолжать учиться в Европе. В те годы в Тунисе не было высшего образования. Зажиточные родители посылали детей учиться во Францию или Италию. Мне казалось очевидным, что в нужный момент я найду возможность поступить в университет. Но до этого надо было выдержать экзамен на аттестат зрелости в колледже «Стефен Пишон», директором которого был Фредерик Сенат. Учитывая хорошие результаты экзаменов по окончании школы Лякор, меня приняли в предпоследний класс колледжа.
* * *
Два года, проведенные мною в колледже, потребовали гораздо меньше усилий, чем я ожидала. Девочек было мало, и они держались в стороне от мальчиков, как это требовало в 30-е годы хорошее воспитание. Для меня, выросшей на свободе, это было ново. Очень быстро я подружилась и с одними и с другими, и это было принято как нечто нормальное – никто не знал, что можно ожидать от русских. Даже в окружении мадемуазель Роза, сестры директора, царившей над бельевой для пансионеров, где языки не умолкали, было только замечено без комментариев, что Роджер Казмажор всегда недалеко от маленькой русской. Что касается нашей дружбы с Жоржем Янцевичем, то все считали ее нормальной, так как мы оба были русскими. Мадемуазель Роза была обездоленное существо. Коротышка, полная, с резкими манерами, она хотела знать все, что происходит в колледже и не отдавала себе отчет, что ученики, чтобы над ней посмеяться, рассказывали ей самые невероятные истории. Надо заметить, что сплетни касались больше учительского персонала. Наш преподаватель математики был очень интересный мужчина, и, конечно, ему неизбежно приписывались различные авантюры. Он только начинал преподавать, но мог уже гордиться успехами своих учеников; его отношения с коллегами, к сожалению, носили характер нетерпимости. Учитель истории и географии Боньяр преподавал также немецкий язык: нас было очень мало, так как большинство выбирало английский первым языком. К сожалению, русский можно было держать только вторым языком. Мы учили с Жоржем биографии русских писателей, которые наши мамы для нас готовили. Роджер, который свободно говорил на арабском диалекте, учил, что было тогда редко, арабский литературный язык. Это ему помогло в его будущей дипломатической карьере. Его семья жила в Бежа, когда он чувствовал себя одиноким, то заходил к нам. Был всегда чай, иногда хлеб с маслом-сыром. Мы ходили с ним на лекции в кинематограф «Ампир», где выступали иногда известные писатели. Так, один раз мы слушали Клода Фарера. В классе он никогда не садился далеко, как бы желая дать понять, что я всегда могу на него рассчитывать – что я и делала! Когда я что-нибудь пропускала или забывала, я могла спросить у Роджера и была уверена, что получу ответ. Каждый раз, когда я вспоминаю Роджера нашей юности, передо мной встает, совершенно необъяснимо, увлекательный образ «Большого Мольна». Роджер такой уравновешенный, Роджер верный товарищ, на которого все друзья могли положиться, что было у него общего с героем Алэна Фурнье? Я не ищу объяснений! Я вижу чистое лицо юности, обоюдное доверие, пути, которые расходятся, дороги, которые, казалось, никуда не ведут… и все же приведут к боли и смерти. Но тогда еще все казалось возможным… Надо было только выдержать на степень бакалавра! Экзамен держали в городе Тунис в середине июня. С семи часов утра кандидаты с надлежащими бумагами собирались перед лицеем Карно, улица Сент Шарль. Я приехала накануне с Жоржем. Мы остановились у его отца в Монфлери. Чувствуя, что у меня много пробелов, я старалась до последней минуты их пополнить, в то время как Жорж придерживался принципа «отдых перед усилием». Он даже, чтобы позволить мне повторять, выгладил мою новую кофточку, синюю с красными горошками, предназначенную для этого дня.