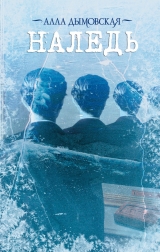
Текст книги "Наледь"
Автор книги: Алла Дымовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
II
Полночи они играли в карты, в подкидного дурака и в «шестьдесят шесть», отвлекались изредка на обязательный обход и тут же снова садились за прерванное служебной необходимостью занятие. Хануман с неистребимым упорством передергивал на сдачах, инженер костерил его на чем свет стоит:
– Обезьян плешивый! Чертяка! Откуда туза взял? Тузы все вышли! Вот и вот! – переворачивал собственные взятки Яромир, демонстрируя наглядно надувательство. – Объявляю «червивый» марьяж! У-у, анафема!
– Плутовство есть основа гармонии игры, ибо устраняет ее вероятностную хаотичность, – равнодушно отозвался Хануман, держа, преловко, развернутые карты в пальцах левой ноги, а руками (лапами, лапищами – инженер не знал, как следует называть, вроде бы не зверь, но и не человек уж точно) производя отвлекающие пассы. – Тузов в колоде было пять, за это лишь держу ответ. С поличным смог Меня ты взять, но «обезьян» – такого слова нет.
– Все равно. Продул, – с удовлетворением отметил инженер, забирая последнюю взятку. – «Шестьдесят шесть»! Может, и больше.
Хануман безропотно сгреб со стола пластиковые свеженькие еще карты, принялся тасовать с выкрутасами, высоко пуская веером разноцветную колоду.
За истекшие три с половиной месяца с момента пребывания Яромира в должности, обстановка в дворницкой-сторожке радикально преобразилась на предмет всевозможных удобств. Примус и на нем кофейник, домотканые дорожки по полу, пара устойчивых полукресел. Жесткая ободранная кушетка заменена была новенькой пружинной металлической кроватью, без постельного белья, зато с роскошной периной в полотняном чехле, на утином пуху и мягкой, как облако. Это Нюшкиными стараниями. Еще от Лубянкова перепала горка подушек, перо хоть и оказалось колючим, но дареному коню неудобно смотреть под хвост. А уж как тащили пожертвованное имущество – смех один! Добровольно ступить за гранитную заводскую арку охотников не нашлось, местные опасались, невзирая даже на «лукавую грамоту», и градоначальнику Волгодонскому пробоваться в роли грузчика было не с руки – общественное положение, то да се, в общем, по ряду уважительных причин. Пришлось поневоле просить охальника Ханумана, с разрешения властей, само собой. Царь Обезьян, к величайшему удивлению инженера, согласился без раздумий, от радости запрыгал по хлипкой крыше флигеля, едва не погубив окончательно рубероидное покрытие. Так что зрелище вышло первый сорт, никто и не пропустил. Даже ветхозаветный, как Мафусаил, патриархально осанистый Лука Раблезианович, содержатель лавки и распивочной «Мухи дохнут!», и тот выполз поглазеть. По улицам и переулкам, до самой площади Канцурова и оттуда далее по огородам, Хануман (ох и оказался силен!) пронес в одиночку на могучем снежно-белом горбу чудное никелированное творение – кумира дореволюционного мещанского быта. За ним, груженный периной и подушками, поспешал Яромир, из-за скудости обзора то и дело спотыкаясь, а в огородах и пару раз пропахал землю носом, однако постельные принадлежности уберег в чистоте.
С той прогулки и пошло их с Хануманом приятельство. Царь Обезьян будто бы решил, что отныне приглашен в сторожку раз и навсегда, и каждую дежурную ночь являлся с визитом к инженеру, вовсе без предупреждения. Впрочем, в недежурную тоже являлся, Яромир уж и запирать перестал; одна беда, за выходные Хануман умудрялся развести в подсобке воистину несусветную грязь, инженер лишь диву давался, хотя всякий раз безропотно выносил мусор. Чего там только не было: огрызки лежалых яблок, колбасные шкурки (всегда от сорта «микояновской» любительской), лущеный сушеный горох, свекольная ботва и даже картофельные очистки. Это не считая неведомо откуда взявшихся номеров британского философского журнала «Mind», изодранных на аккуратные полосы, причем согласно некоему скрытому порядку, который Яромир так и не сумел распознать. На вопросы же, откуда издание и почему столь варварски раздергано, Хануман внятных ответов не давал – таращил глаза и скалил зубы, после загадочно бросал одно-единственное слово, в его устах звучавшее как ругательство:
– Румпельштильцхен! – Из сказок братьев Гримм, и что бы это значило? Яромир терялся в догадках.
Инженер обзавелся новым фонарем, теперь мощным электрическим – в обязанностях Нюшки ныне лежала ежедневная аккумуляторная подзарядка, – и шествовал в дозор, вооруженный современной техникой, вместо доисторического и безвременно пришедшего в негодность керосинового страшилища. «Лукавую грамоту» не всегда и брал с собой, к чему, если рядом вечно отирался Хануман, а уж на Царя Обезьян в этом смысле можно было положиться. Как-то раз во флигеле нехорошо заурчало, завозилось, завздыхало, Яромир уж думал бечь за барабаном, куда там! Хануман лишь фыркнул, и немедленно в разные стороны брызнули мохнатые прозрачные тени, виновато съежившиеся в комок. Надевал на себя «лукавую грамоту» инженер в одном только случае, когда приходила им обоим охота прогуляться в репейниковый огород, сиречь Панов лабиринт. Хануман по обыкновению шествовал впереди, завлекая приятеля в чащу, и неожиданно бросал, улетучиваясь коварно вверх. Тогда Яромир, пережив несколько мгновений сладкого ужаса (вдруг и бенгальский тигр!), стучал изо всей мочи в барабан, и дорога к флигелю немедленно находилась. Впрочем, никакой прямой опасности не было, в присутствии Ханумана нечисть не думала являть себя, а Яромир не настаивал, хотя и полагал однажды посетить лабиринт на свой страх и риск, с «лукавой грамотой», но без Царя Обезьян – последний пусть охраняет с крыши.
Карты тем временем были розданы на следующую игру в «подкидного», Яромир так и знал – ему достались одни шестерки и девятки, – поэтому без церемоний отобрал у Ханумана его долю, всучив взамен свою. Царь Обезьян не возражал, задумчиво принялся разглядывать противоположную стену, на коей с недавней поры красовалось ковровое панно «Олени на водопое», ярких, вокзальных тонов. Яромир на удочку не попался, знамо дело, едва стоит отвернуться, и прости-прощай, хитрый обезьяний царь тут же обменяет шестерки на тузы.
– Завтра выходной, – скорее себе, чем партнеру, напомнил Яромир и в предвкушении затаил дыхание. – И завтра же Евграф Павлович обещал поведать всю правду о тайнах города Дорог. Стало быть, уже не рано!
– Когда запретный плод поспел, сорвать его и всякий будет смел! – прокомментировал грядущие обстоятельства Хануман, побил козырную десятку простым валетом.
– Куда прешь! Ишь, зенки выпучил! Бубнового клади, а не то забирай, и вот еще две в довесок! – Инженер выбросил на стол «подкидного». – С тобой дерьмо хорошо наперегонки есть, пока зазеваешься, ан уж и нету!
– Прими без злобы, что дается, и жди, когда назад вернется! – с мудрой обреченностью ответил Хануман, забирая десятки.
– Небось, за шулерство и погорел. В своих Девяти Реках? – подколол Царя Обезьян инженер. И то, давно уж не давал ему покоя вопрос, отчего Ханумана так жестоко приговорили к смерти в его родных местах.
– Как раз за горестную честность, – к изумлению инженера, обиделся вдруг его визави. И принялся пронзительно повизгивать от тягостных воспоминаний: – За партией при шахматных фигурах оставил я императрицу в дурах! А надо было проиграть! Янь-ван советовал, ему легко сказать! Когда б с тобой небесный покровитель! А я ведь – сам себе родитель! Моим проказам нет защиты, и судьи все не правдой сыты!
– Это верно. Судьи везде одинаковы. У нас говорят: не подмажешь – не поедешь! – посочувствовал Царю Обезьян инженер.
Они сыграли еще партию. Вничью. Потом Яромиру надоело. Он посмотрел на часы – времени было половина третьего. Стало быть, вдруг сообразил он, завтра давно наступило.
– Нынче, кстати, у Гаврилюка день рождения, – припомнил инженер и сладко потянулся. Очень хотелось вздремнуть. – Пойду, кофе сварю.
Яромир разжег примус и принялся колдовать над кофейником. Хануман тем временем со старанием возводил на столе карточный терем. К возвращению инженера он уж надстроил третий ярус и взялся за забор вокруг.
– Вот твое молоко, – поставил перед ним Яромир полный стакан, – полпроцентное, как ты любишь.
– «Пармалат»? – придирчиво спросил Хануман, принюхиваясь.
– «Пармалат», – подтвердил Яромир, себе налил только что вскипевший кофе.
– В день рожденья всегда есть повод для веселья. Чужого, своего ли, все равно, – лукаво произнес вдруг Царь Обезьян. Потом нравоучительно добавил: – Подарок должен нести в себе познавательную пользу либо символическую ценность.
С этими словами Хануман выдернул из холки крохотный клочок шерсти, помусолил в длинных узловатых пальцах, поднес свалявшийся комок ко рту.
– Не вздумай дунуть! – торопливо предостерег Яромир, поперхнулся кофе. – Хорош выйдет подарочек Гаврилюку! Одного не пойму, какая в нем познавательная польза и, тем более, символическая ценность?
– Угрюмого научит улыбаться, бесстрашного заставит опасаться! – объяснил шутник доморощенный Хануман и все-таки дунул на клочок шерсти.
– Изменись! – еще и плюнул слюной вдобавок.
Из всех четырех углов чисто прибранной сторожки немедленно вспорхнуло по стайке маленьких белых обезьянок с озорными личиками. Пушистое, галдящее стадо тут же выскочило вон в двери и метнулось по двору.
– Не станет Анастас улыбаться, а возьмет ружье, ответственно тебе говорю. И опасаться тем более не будет, даже спросонья. Ругаться распоследними матюками – это да! Может, и до рукоприкладства дойдет. А что от Волгодонского нам влетит, предсказываю наверняка, – пророчески произнес Яромир. – Анастас с вечера готовился, одной водки четыре ящика прикупил, уже и по графинам разлил, два ведра салатов – «столичный» и «винегрет», кадушка с малосольными огурцами, даже сырокопченый окорок в дом перенес из погреба – верно, сам видал. А твои макаки ему все раздолбают! То-то веселья будет в Учетном переулке!
Хануман в раздумье почесал плешивую голову.
– Вот-вот! Сперва напроказничаешь, потом включаешь мыслительный процесс. Всегда с тобой так. – Яромир погрозил Царю Обезьян пальцем, но после все же сжалился: – Может, в барабан постучать, а?
– Сомнительно, чтоб толку в том случилось. Ведь стая уж далече удалилась, – вздохнул Хануман. И пристыженно покачал головой: – Не услышат.
– Зато мы услышим Гаврилюка! А завтра, между прочим, и мне достанется. За то, что не удержал и допустил. Будто я нянька!
– Друг должен пребывать в сочувствии к другу. И нераздельны оба для окружающего мира в печали и в радости, – изрек сентенцию Царь Обезьян, выжидающе посмотрел на Яромира.
– Интересно получается. Пакости всегда устраивает один, а на орехи достается другому!
Услышав про орехи, Хануман тоскливо вздохнул. С орехами в городе Дорог была беда. То есть, обычные, грецкие, имелись в избытке, но любимые Хаунмановы, сорта «миндаль», отчего-то отсутствовали. Даже в Пановом лабиринте, как не раз жаловался Царь Обезьян, обожавший миндаль до слезной дрожи. Поэтому упоминание об орехах вышло жестоким.
– Не ной, я уж попросил Колю-«тикай-отседова». Обещался привезти на днях из области. В обмен на пачку бабкиного чая. Еле-еле у Матрены вымолил, – утешил Яромир друга.
– Товар лежалый свойственен купцу, но в бедности жеманство не к лицу, – вздохнул еще тяжельше Хануман, но отчасти и повеселел. – Постучи, что ли?
Яромир подхватил барабан за гарусную перевязь, вышел на заводской двор. Со стороны города до слуха инженера донеслись два ружейных, подряд, выстрела. Тогда он, не мешкая более, изо всех сил ударил обеими ладонями по гладкому прохладному боку спасительного инструмента. Потом еще и еще. Спустя минут пять в проем арки скользнула обратно сконфуженная белая стайка обезьян, торопливо скрылась в подсобке. На время происшествие можно было считать исчерпанным. Яромир вернулся в сторожку.
Наутро, прямо с дежурства, не желая дожидаться развязки, Яромир добровольно заявился в Учетный переулок к Гаврилюку, как бы для покаяния. Несмотря на раннее время, Анастас не спал, сидел в глубокой задумчивости на крыльце, подперев щеку прикладом охотничьего ружья.
– С праздничком тебя. Расти большой, не будь лапшой! – подкравшись сбоку, с деланной веселостью прокричал над ухом заведующего Яромир и тут же предусмотрительно отпрыгнул далеко в сторону.
И правильно сделал, иначе получил бы прикладом под дых. Гаврилюк вскочил на ноги, дико уставился на инженера. Выражение его лица обещало мало приятного общения:
– Я сейчас кому-то покажу лапшу! И макароны, и спагетти в придачу! Всю кухню мне засрали! А окорок где? Я спрашиваю, где окорок? Нету его! Сперли! Вместе с хреном!.. Я понимаю еще мясо, – чуть тише произнес заведующий и обречено покачал головой, – но зачем им хрен понадобился, никак в толк не возьму. Целую трехлитровую банку стащили. Свежайшего. Сам тер! Теперь-то где достану? Окорок ладно, у Луки можно половину кабаньей туши занять. Но вот хрен!
– Не переживай так. Я у Нюры попрошу. Мне не откажет – в бабкином погребе целая полка с хреном. Правда, прошлогодним. Зато забористый будет… Ты бы опустил ружье? – на всякий случай попросил Гаврилюка инженер.
– Ладно уж. Вечером-то приходи, не забудь, – нарочито нелюбезным тоном напомнил Гаврилюк. – И стервеца своего приводи, если хочешь.
– Я-то хочу, да вот Хануман не согласится. Теперь особенно. Сам знаешь, он стыдится собственных проказ. Хотя от этого безобразий его меньше не становится, – сокрушенно покачал головой инженер. – Пойду-ка я в чайную, а потом завалюсь спать. Ты уж извини, что так вышло.
– И хрен с ним. Правда, хрен как раз и жалко. Но «окорок с ним» не звучит, – посетовал на жизнь Гаврилюк.
– Не звучит, – согласился Яромир.
По пути в «Эрмитаж» он как-то неожиданно жалостливо подумал о Ханумане. Сидит себе в одиночестве целыми днями на крыше или гуляет в лабиринте. Только репейниковые монстры ему в компанию не годятся, как однажды признался инженеру Царь Обезьян, да и откровенно побаиваются. А по ночам, когда нет дежурства, забирается в сторожку, словно пес в пустую конуру. Тоскливо, наверное, ему там. Хануман, он вообще-то малый общительный.
Однако даже при самых заманчивых обещаниях, вроде знакомства с водителем молоковоза Колей-«тикай-отседова», вытащить Ханумана в город не удавалось. Хотя Яромир видел, более всего Царю Обезьян хочется именно жить с людьми. Но, то ли от гордости, то ли согласно некоему кодексу поведения, Царь Обезьян уговорить себя не позволял. Грустил в уединении, оттого часто безобразничал, будто напоминал горожанам о собственном существовании, и все равно любые приглашения оставлял без внимания. Особенно участились они в последнее время, когда разнесся слух о невиданной дружбе между новым сторожем и посторонним иммигрантом из города Девяти Рек.
Хануман обитал на заводской крыше уже без малого три года, но, кроме Яромира, никто до сих пор всерьез не обращал на него внимания. Инженер иногда про себя поносил почем зря предшественника своего Доктора. Буддист вшивый, кришнаит недоделанный, книжек начитался, умные слова произносит, пудрит бабам мозги цитатами из «Рамаяны» и путешествия Сюань-цзяня, а при нем проживал Хануман, словно сирота-подкидыш, жалко, видите ли, было этому «человеку разумному» сказать по-соседски Царю Обезьян доброе слово. Дабы не уронить достоинство. А жрать и пить на халяву – это, стало быть, делает Доктору честь? Надо купить Хануману радиоприемник, а еще лучше магнитофон или даже CD-плеер – постановил для себя инженер. Пусть слушает местную станцию или музыку, к примеру, Глинки. Все веселей.
У газетного стенда Яромир по обыкновению задержался. Чего там новенького? «Время не резиновое!», как и всегда от 1 апреля 2000 года, на первой полосе извещало о предстоящем торжестве. Здравица «Долгой жизни директору кладбища!», а ниже приглашались все желающие во двор дома номер четыре по Учетному переулку, дабы поздравить именинника. Для самых совестливых публиковалось благотворительное предложение пополнить запасы к застолью из собственных карманов и погребов. На последней полосе инженер нашел и свою сатирическую заметку с кустарно выполненной карикатурой (он все же более чертежник, чем иллюстратор). Во всей черно-белой красе представлен был им старший дворник Мефодий Платонович, расхристанный и буйный, строящий из-за забора рожи сонному хряку Мавритану. Подпись гласила «гусь свинье не товарищ», причем, если судить по высокомерно-равнодушному виду хряка, под свиньей разумелся отнюдь не он. На заднем плане легким намеком был нанесен контур распивочной «Мухи дохнут!», из коей вытекали мутные заретушированные потоки, призванные изображать водочное море разливанное.
Далее шел волнительный текст-обращение к местному населению выступить против попустительского отношения Луки Раблезиановича к своим клиентам и требованием прекратить спаивание городских должностных лиц. Особенно тех, на ком лежит чистоплотное обслуживание улиц. Статейка была писана по слезной просьбе бабки Матрены, замучившейся всякий раз увещевать пьяницу дворника и выводить из психического стресса хряка Мавритана.
Попив чайку в «Эрмитаже» и чуть ли не насильно всучив бабке шесть рублей за прибор и баранки, Яромир отправился восвояси. Конечно, не преминув пройти мимо зеленого забора по Гусарскому переулку. Увидал отдернувшуюся занавеску в окошке мезонина и тонкую девичью руку, промелькнувшую в свете лампы. Майя как бы здоровалась с ним. И так каждое утро, когда инженер шел с дежурства. На большее он и не претендовал, памятуя о непростых отношениях с Нюшкой, отделаться от которой не было у инженера никакой возможности. Все равно, что отдирать с мясом болотную пиявку, так же больно, как и противно. Тем паче весь город знал, правда, нисколечко не порицал и не удивлялся. Будто бы отношения всякого сторожа, и допрежь Яромира, с «охочей до мужеского пола» бабкиной сестрицей случались в порядке вещей, и даже входили в комплект предоставляемых постояльцам услуг. С Майей инженеру доводилось встречаться лишь на танцах в «Ротонде», да еще изредка у забора, когда «гуслицкий разбойник» папаня бывал не слишком пьян и не хватался за лопату против кого ни попадя. Надежды инженера, связанные с девушкой его мечты, существенно за это время не продвинулись к своему воплощению. Найти-то Яромир нашел, однако находка оказалась явно не по принадлежности, как то и предрекал однажды Гаврилюк. Дальше бесед на темы возвышенные и романтические под надзором Авдотьи, оказавшейся исключительно зоркой мамашей, дело не пошло, даже танцевали при медленных танцах в клубе они по-прежнему на «пионерском» расстоянии друг от друга. А после закрытия «Ротонды» Майя словно бы улетучивалась неведомо куда, и проводить ее до пресловутого зеленого забора у Яромира ни разу не получилось. Но инженер терпеливо ждал своего часа, дабы объясниться, как полагается, с полными серьезности намерениями, хотя бы и просить руки девушки у «гуслицкого разбойника» Васьки, продолжавшего с регулярной настойчивостью закладывать в «Мухах» банные веники и шайки.
Без Майи и жизнь ему получалась не в жизнь. Яромир то ли напридумывал себе, то ли это и было так на самом деле. Если бы его нежданно спросил человек посторонний, что же особенного в этой девушке, или попытался узнать, к примеру, ее словесное описание, Яромир вряд ли смог бы ответить. Все те же выражения «воздушная» и «прекрасная» пришли бы ему на язык, но инженер не имел понятия ни о цвете ее глаз, ни о форме лица, ни даже была ли девушка Майя нежной блондинкой или жгучей брюнеткой.
Он постоял еще немного у забора, как бы вопрошая его зеленый издевательский цвет на предмет смысла бытия, потом пошел неторопливо прочь. Под ногами его, в такт шагам, с привычно-неприятным скрипучим шумом, ломалась тонкая наледь замерзших за ночь мелких лужиц. По расчетам Яромира, на дворе стоял уж декабрь, дело вообще шло к новогодним торжествам, а в погодном отношении никаких перемен в городе Дорог не ощущалось. Хотя вне города сезонные времена шли своим чередом. Особенно наглядно это было видно при посещении буфетного хозяйства Морфея Ипатьевича Двудомного, куда инженер давно уж протоптал дорожку по гостеприимному приглашению станционного смотрителя. Так, из огромного витринного окна, восседая на мягком диване, когда в компании Евграфа Павловича, когда бабкиного соседа Ермолаева-Белецкого, начальника здешнего почтового отделения и по совместительству местного библиотекаря, инженер наблюдал удивительную картину. Вечно желтушные осенние лопухи у перрона; и ряд осинок, дразнящихся багряной дрожью редкой листвы, несет караул у входа на станцию. А сразу за вокзалом, будто кто провел черту, – белый, заснеженный лист картофельного поля, чистый, как тетрадь прогульщика. И у «Любушки» та же история, и у заводской стены, что противоположна городу. И, конечно, за кладбищем Гаврилюка простиралась замерзшая целинная пустыня. Тот же Коля-«тикай-отседова», привозя субботнее молоко, ругался. Летом холодно, зимой жарко, потому и вынужден держать в запасе под сиденьем сменную верхнюю одежу. В городе Дорог одна на все времена погода. Когда дождичек с небес, когда тучки, редко солнышко, сонная тихая осень, да иней, да наледь мелких ночных лужиц.
На крыльце его встретила Нюшка, в фиолетовом, широченном как шатер гадалки, пеньюаре, отделанном, по ее утверждению, «сортовыми перьями марабу с удостоверением». Что означала сия ахинея, инженер не стал даже уточнять, а велел подать немедленно завтрак. Нюшка, восторженно взвизгнув, кинулась исполнять обязанность, напоминая издалека фигурой техасский торнадо, атакующий в грозу хозяйственный курятник невезучего фермера.
Перед заслуженным отдыхом, откушав плотно печеного картофеля с брусникой и оладий на меду, Яромир как всегда развалился поверх кружевного покрывала на кровати, включил телевизор. Для чего он совершал этот непременный ритуал, возвращаясь из дежурного караула, инженер не знал и сам. Никакой особенной познавательной ценности единственная доступная передача не содержала. И развлекательной, впрочем, тоже. События, исключительно военные, охватывали период приблизительно от момента убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево до разгрома белополяков и вступления Красной Армии на улицы Варшавы. Но кадры шли без комментариев, и оттого разобрать, что к чему, получалось практически безнадежным. Хотя Яромир стоически пытался. Однажды ему показалось, будто наблюдал он документальный расстрел царской семьи, но и то, скорее всего, обманулся. Слишком много вслед за тем последовало других подвалов, с дамами и ребятишками, с офицерами в ободранных мундирах, с прислугой из не поддавшихся новой агитации холуев. Казнили всех одинаково, без приговора, без покаяния, словно скотину забивали. И лица тоже у всех были стертые, заморенные, схваченные камерой в изумленном отчаянии, не отличишь и не опознаешь, даже если во множестве видал на портретах. Палачи их в свою очередь не блистали возвышенными выражениями на физиономиях, как раз наоборот, пытались отделаться от страшной и гнусной миссии побыстрее, оттого порой опускались до животной жестокости, когда нервы сдавали совершенно.
Яромир запомнил одного паренька, весьма интеллигентного вида, может, вчерашнего студента, палившего из винтовки Манлихера именно в таком подвале. Он никак не мог дострелить дородную пожилую даму, захлебывавшуюся в собственной крови на земляном полу, никто ему не помогал, оскалившиеся гнилыми зубами собратья-молодцы из карательного отряда стояли рядом молча и наблюдали. Тогда студент принялся орудовать штыком, попал женщине в глаз, нарочно ударил во второй, и разошелся, словно в безумном хмелю, колол в грудь, в живот, как если тренировался на чучеле. А после выскочил из мертвого подвала, или, быть может, погреба, закинул винтовку в поленницу и побежал. Камера летела за ним, над ним, впереди, вдруг коршуном спикировала вниз, остановилась, когда несчастный упал на колени, и донесла до Яромира глухой отзвук-стон: «Господи, прости! Это хуже, чем проклясть самого себя!» Потом студент-красноармеец еще катался в грязи, обуздывая рвотные позывы, а спустя немного времени встал, шатаясь и тупо глядя под ноги, подобрал винтовку, да и вернулся к своим, ему дали водки и табаку, затем расстрельная команда тихо уехала прочь на телеге.
Но и в масштабных боевых действиях той поры ориентироваться тоже было никак не проще. Куча мала и сваренная вкрутую каша. Единственно кого признал Яромир, и то не наверняка, – лихого казачьего генерала Каледина, да еще отдельно усы командарма Буденного, но последнее оказалось фикцией, усов в тот день проследовало перед ним на экране несколько штук, и у совершенно разных военных чинов. А уж когда сюжет перескакивал на темы заграничные, то Яромир, не зная иностранных языков, вовсе терялся и не мог толком отличить фрагменты битвы на Марне от вступления войск императора Франца-Иосифа в Галицию.
Сегодня показывали парадное построение кайзеровских солдат для напутственной речи фельдмаршала Людендорфа, чью фамилию кое-как Яромир разобрал на приветственном транспаранте. Некоторое время он смотрел с интересом, пока с интимным визитом не пришла Нюшка. Тут уж стало не до смотрин. Хотя инженер все же успел спросить, какого черта значит «сортовые перья с удостоверением»? Оказалось – писанное на бумаге свидетельство, что перья марабу не поддельные, первой ценовой категории, окрашенные согласно стандарту и технологии экологически чистыми веществами. Нарочно выписала для ублажения взоров кавалера из города Штандартов Радуги. Где таковой находится и откуда взялось столь странное именование населенного пункта, Яромир выяснить не захотел, и вовсе не из равнодушия. От Нюшки толкового объяснения вряд ли добьешься, лучше уж потерпеть и спросить Месопотамского сразу и обо всем. Ни на секунду инженер не забывал, да и не смог бы, что на сегодняшний день назначено ему раскрытие загадочных обстоятельств и тайн, связанных с городом Дорог.
К Евграфу Павловичу он предусмотрительно отправился, заранее переодевшись в выходной костюм, дабы после сокровенной беседы без остановок проследовать на именины кладбищенского заведующего Гаврилюка. Даже подарок нес с собой – иллюстрированный альбом ин-кварто «Сокровища Оружейной Палаты Кремля», с аккуратным старанием обернутый в мягкую бархатную бумагу алого цвета, еще в авоське две бутылки крымского портвейна, это уж в общий котел. И насчет выходного костюма рассказчик ничуть не оговорился. Костюм действительно был, и даже без натяжек выходной. Пошитый так, что пальчики оближешь. Хоть посылай с миссией в ООН или даже для дипломатического представительства в Британскую империю. Темно-серый, по фигуре: пиджак без единой морщинки, искусно обуженный в талии, брюки с идеальными стрелками – будто бы Яромир в них получался стройнее и выше, чем то было на самом деле. Вовсе не заграничное творение, а «индпошив» местного мастера, дурашливого татарина Мурзы Хамраева, по прозвищу Басурман. Человека в обыденной жизни малосерьезного, зато в смысле профессионально портняжном не имелось Басурманину равных никого. Шил и кроил Хамраев и на женщин, и на мужчин, и даже на детишек, хотя последних в городе Дорог имелось на удивление мало, а школ, средних и начальных, так вовсе ни одной, не говоря уж о детсадовскх учреждениях. Тоже удивительное обстоятельство.
Сам же Басурман ходил всегда в одинаковом наряде, непреложно свежем и с иголочки – широкие «запорожские» шаровары цвета предштормового мятежного заката, расшитый крупно бисером короткий дубленый полушубок, надетый прямо на льняную рубаху с воротом «апаш», высокие щегольские сапожки из рыбьей кожи. Шальную, наголо бритую голову храброго портняжки неизменно покрывал повязанный на пиратский манер черный шелковый платок. Пусть и без черепа с костями, зато с искусно выведенной серебристой строчкой, о которой утверждали, будто в ней благочестиво зашифрованы письмена из Корана.
Вот этот-то Басурман и сотворил инженеру вышеупомянутый костюм, еще обещался вскорости обогатить его гардероб и модным пальто из натурального кашемира, по желанию любой расцветки, ибо ни многострадальный дождевик, ни зимняя «телячья» куртка базарного сиротского кроя к выходному шедевру мастера Хамраева никак не подходили. Пока же приходилось довольствоваться тем, что есть, хотя собственно Яромир ни малейших стеснений от двусмысленности своего внешнего вида никак не ощущал. И вовсе не из-за привилегий нынешнего «сторожевого» положения. Просто придавал мало значения, и только. Пускай и хотелось ему кашемирового пальто, но исключительно ради достоинств последнего, а не для личной гордости и публичного хвастовства.
По пути, однако, инженер некстати оробел. С чего, не знал и сам. Уже когда вышел на площадь Канцурова, будто бы и родную, но вот ноги нежданно и непослушно заплелись и сделались предательски неустойчивыми. А всего-то и нужно было, что обогнуть муниципальный особняк с парадной стороны, и сразу редакционное здание, где во втором этаже ожидал его ответственный секретарь Месопотамский. До означенного времени оставалось четверть часа, не велика важность, Евграф Павлович рад был бы поприветствовать его и раньше срока, паче чаяния, Яромир порешил обождать, для обретения равновесия и вообще, мало ли, какие слова услышишь? В том, что сведения нынче выпадут ему необыкновенные, он ничуть не сомневался. И ему ли не знать, что воспоследует затем? Секунду назад, казалось, существовал ты вроде в одной реальности, ан на тебе! Ее уж и нету. Иной мир взял, да и вырос на месте прежнего, сгинувшего безвозвратно, и по закону подлости, новое бытие хуже предыдущего. С ним такое бывало, не приведи господь! Когда уходила Оленька, его бывшая и единственная жена. До роковых откровений того злопамятного дня он тоже был уверен, что все еще образуется, решится как-нибудь, что непоправимое и невозможное не произойдет. Даже когда увидел чемоданы и коробки на полу, даже тогда. Всегда можно убедить и уговорить. Так он думал. Оказалось, нельзя. Когда все фразы произнесены, когда все причины безжалостно сказаны вслух, а не подразумеваются на задворках, тогда все! Его только попросили, будто подали милостыню, уйти на время из дому, чтобы, по выражению Оленьки, «не травить себе душу», ведь с переездом прибудет помогать следующий потенциально счастливый муж на собственном авто. Такая вот забота, интеллигентно и нож в спину можно вонзить. Что же, и ушел прогуляться, и даже морду не набил. Не Оленьке, конечно, а грядущему супругу. Хотя дурость несусветная, ему-то за что?
Яромир, подумав немного, завернул в чайную. Дело шло к вечеру, но народу в «Эрмитаже» сидело, против обыкновения, скудное число. Наверное, в предвкушении юбилея Гаврилюка, сообразил инженер, но это и к лучшему, многолюдные сборища сейчас не улучшили бы его самочувствия. Бабка Матрена приветливо и скоро подлетела к его столику, взметнув волнами до колен блескучую бальную юбку, чмокнула в макушку, как своего, а он и был свой, и к бабкиным неожиданным ласкам давно привык. Матрена, ничего не спрашивая, поставила перед инженером чайник с заваркой, прибор и баранки, но предупредила – через полчаса намерена закрываться. Ей тоже хотелось на праздник, а нужно еще причесаться и переодеться, да привести в порядок Нюшку, божье наказание, чтоб не пугала гостей откровенно непотребным видом. Яромир на целый час задерживаться не собирался, чем и успокоил бабку, он уж знал: график у Матрены свободный, на ее усмотрение. По желанию откроет заведение хоть на всю ночь, а то и целый день на окне провисит унылое объявление о «санитарном дне».







