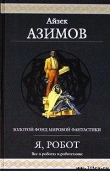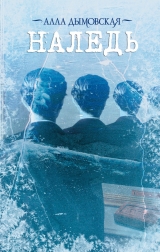
Текст книги "Наледь"
Автор книги: Алла Дымовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Тигру пристроили условно во дворе. До обеда Яромир провозился, сооружая навес из занозистых досок и проржавленных кусков жести. Хануман ворчал – напрасные хлопоты, все одно полосатого бенгальца из подсобки уже не выпереть, как улегся под кроватью, так и захрапел в удовольствие, и пусть живет, лишь бы приучился на улицу по туалетным делам ходить. Яромир и сам понимал, тигра заместо домашней кошки навеки поселился в теплом помещении, и не возражал. Навес ему понадобился для целей иных: хорошо, если бездомное животное отныне будет знать – и у него в случае чего есть свой законный уголок. Навес скорее являл собой право на постоянную прописку в здешнем мире, чем действительную обитель, никто всерьез и не полагал выгонять полосатика на холодный заснеженный двор.
– Кормить его чем, вот вопрос? – озабоченно поскреб Яромир небритую щеку, обернулся к Хануману, единственно у него ища ответа.
– Дракон востока полнит водоем. Где сыт один, прокормятся вдвоем. – Хануман критически оглядел слаженную на живую нитку хлипкую постройку, скорчил пренебрежительную гримасу. – Тигр запада приносит ветер. Хорошо.
Яромир мало что уразумел из витиеватых умствований Царя Обезьян, но главное до него дошло – заботы о кормлении приблудного зверя, как и процесс его домашнего воспитания, Хануман готов взять на себя, избавив господина заводского сторожа от лишних проблем. Из каких средств и где именно раздобывал себе пропитание его друг, по сей день оставалось для Яромира загадкой, вообще снабжение города Дорог продовольственными и хозяйственно-промышленными товарами в большей части представлялось господину заводскому сторожу делом таинственным. Может, предметы разных степеней необходимости брались прямо из воздуха, может, возникали по волшебству, может, материализовались из иных универсальных сущностей, а может, добывались грабежом – все версии звучали равно фантастически, но выяснять конкретно Яромиру не хотелось, да и было недосуг. Оглядев плоды творения рук своих и оставшись довольным, он направился под гранитную арку – солнце высоко, а собственных дел невпроворот. Каких именно, господин сторож пока не мог сказать, ибо не ведал еще, что же такого предпринять ему для возрождения кирпичного завода, поэтому решил начать с опроса Митеньки Ермолаева-Белецкого. Следовало и поторопиться, дабы успеть непременно до похорон.
Почему он выбрал Митеньку – на этот счет имелась у господина сторожа некоторая версия. Ермолаев-Белецкий, как то и положено настоящему писателю, слыл человеком, внимательным к мелочам. При этом не зацикливался на частностях, напротив, умел из малого вывести целое. Наблюдения его за жизнью города Дорог, одновременно участником и со стороны, могли оказаться для Яромира кладезем бесценным.
Дома его ждала Нюшка, с обедом и в перьях марабу, последние надеты были с целью примирения. Яромир про себя злился на ее недавнее предательство – руку, поднятую против Ханумана, забывать он не собирался, но и связываться с коварной бабой не хотелось. Нюшка перед ним лебезила, выкручивалась из кожи вон, томно и призывно закатывала глаза, и это в день похорон Майи. Бесчувственная самка, а впрочем, чего он ждал? Ее универсалия, пожалуй, переживет любую тьму, хоть черта одолеет, Матрену только жалко.
К обеду приступать, однако, Яромир не спешил.
– Собери в миску. Котлеты отдельно положи, а соуса горохового не надо совсем. Да щей в кастрюльку перелей, – велел он покорной Нюшке, сам сел дожидаться в гостиной выполнения приказания.
– Чаю я, в гости собрались? Можно и к нам было зазвать, неужто не приветили бы? – Лисичка недовольно засопела вострым носиком, но от прямых упреков разумно воздержалась – помнила, кошка драная, чье мясо съела.
– В гости! Скажешь тоже. Самое время сейчас, – несколько грубо урезонил ее господин сторож, но снизошел до объяснения: – Соседа проведать иду. Не то на своей крапиве загнется скоро.
– К Митьке, что ли, наладились? – Нюшка вытаращила изумленно зеленые глазища, на миг отвлеклась от щей, пышущая жаром жидкость немедленно расползлась пятном по чистой скатерти. – Тьфу ты пропасть!.. Я что говорю? Я то говорю. К Митьке в дом без приглашения не ходют. Может и взашей.
– Ничего. Сегодня я настырный и негордый. Ты знай лей, да мимо не пролей, – обозлился вдруг Яромир, и ведь зарекался связываться. – У-у, кикимора непотребная!
Стыда ни в каком месте не осталось. Всего и дела, как подол трепать, по чужим-то углам. Придушить бы тебя, жаль, без толку, нежить поганая.
– Уж не ревновать ли вздумали? – заулыбалась довольно Нюшка, расправила боа из перьев, заманчиво выгнула спину. – Так я навеки ваша, ежели чего изволите, обед – он и обождать может.
– Еще чего, ревновать, – бросил как бы свысока Яромир, скандала не получилось, и от этого ему сделалось обидно. – Смотри, домой приду, чтоб не пришлось два раза звать!
– И одного раза не придется. У крыльца, слезы горькие роняючи, ожидать стану, – горячим шепотом прошелестела над его ухом Нюшка (ах лиса Алиса!), отчасти уже и прощенная, и оттого позволившая себе некоторые романтические преувеличения.
В одном она все же была права – к Ермолаеву-Белецкому, будь ты сторож, будь ты сама Смерть, без приглашения заявляться не рекомендовалось. Яромир отважился на хитрость. Стал прогуливаться возле невысокого, разделяющего участки заборчика, перед собой аккуратно держал завернутый в клетчатый шерстяной платок приуготовленный Нюшкой обеденный набор. Вдруг Митенька из окошка заметит.
Митенька заметил. Спустя чуть времени Ермолаев-Белецкий вышел на скользкое неубранное крылечко – босые полные ноги в плюшевых тапочках, необъятные нейлоновые штаны «адидас», вязанная фигурно синяя фуфайка поверх неаккуратно заправленной майки-боксерки, – вид привычно расхристанный. Митенька повел крупным мясистым носом, словно пытался уловить в воздухе далекие съедобные ароматы, потом остановил долгий взгляд на господине стороже и, будто бы опомнившись, поклонился учтиво. Яромир ответил тем же, после чего многозначительно поднял плат с притаившимся под ним обедом, чтобы лучше было видно, и вопросительно поднял брови.
– Милости прошу, – отозвался Ермолаев-Белецкий и сделал приглашающий жест рукой, стоять полуголому долее на пороге было ему некомфортно.
В захламленной кухоньке-веранде обед был водружен на стол, для чего пришлось разгрести некоторую часть векового завала из грязной посуды, остатков крапивных листов, обугленных щепок для растопки печки-«голландки» и даже газетных номеров местного, не резинового «Времени».
– Котлеты свиные, картошечка отварная, щи огненные – по крайней мере, были таковыми минут десять назад, – выкликал Яромир, будто купчина на ярмарке, расхваливающий лежалый товар перед несведущим покупателем.
– Спасибо, – только и ответствовал Митенька. Затем, подумав немного, полез в давно пустую кадушку из-под соленых грибов, извлек на свет казенного разлива бутылку с акцизной лентой.
– Надо же, завод «Кристалл», – удивился Яромир, внимательно вглядевшись в этикетку. – Давненько не встречал. У Луки Раблезиановича водка все больше собственного, самогонного производства.
– От прошлой жизни осталась. – Митенька в этот момент уписывал за обе пухлые щеки Нюшкины «огненные» щи, угрюмое настроение его постепенно преображалось в сытое, благодушное просветление. – Думал, на новом месте выпью, за приезд и за уход. Вернее, в обратном порядке. Но не суть… С тех пор бутылка так и лежит непочатая.
– Отчего же вы, Митя, расщедрились для меня? Если в благодарность, то не стоит. Подумаешь, щи с котлетами! А если имеете в виду иное, то, может, лучше моего понимаете, зачем я к вам напросился? Ведь я же напросился, чего греха таить. Хотя вы вправе были погнать. Как говорит моя Лиса-Нюшка, взашей. Но отчего-то не погнали… Так вот, смею ли я узнать, отчего? – На последнем слове Яромир затаил дыхание, а вдруг сердечному чаянию его не будет отзыва?
– Вы пейте. И я с вами, пожалуй, за компанию. – Ермолаев-Белецкий трепетно повел «моржовым» усом, одним привычным движением свернул серебристую водочную крышку – в стаканах забулькало. – А после пойдем.
– Куда пойдем? – удивился Яромир.
– Как куда? Обозревать мою библиотеку. Вы же хотели? Или уже раздумали? А, господин заводской сторож? – Не дожидаясь ответа, Митенька нырнул усами в граненую щербатую чашу и не выплывал до тех пор, пока не осушил ее до дна. Впрочем, горючей жидкости было от силы граммов этак пятьдесят, так что и подвиг выходил невелик.
После обеда, изрядно навеселе – для образного сравнения, поводов для особенной радости не было ни у того, ни у другого, – господа городской почтмейстер и заводской сторож двинулись в направлении площади Канцурова.
Никогда прежде Яромир не бывал внутри помещений почты, хотя несчитанное число раз проходил мимо. Писем он не ждал ниоткуда, тем паче здешнее почтовое сообщение предполагало лишь связи с подобными же городами-универсалиями, а никак не с реальным внешним миром. Поток корреспонденции был огромным, судя по однажды услышанной Митенькиной жалобе, но отнюдь не конкретно-информативным, по большей части представляя собой обмен поздравительными нотами и копиями верительных грамот новоизбранных или новорожденных правителей. Ультиматум града Девяти Рек случился скорее выходящим из общего ряда исключением, чем правилом, причем доставлен был не по почтовому ведомству, а лично достопочтимым Сыма.
Служебные владения Ермолаева-Белецкого размещались в том же строении с готическим порталом, что и редакция газеты, с тем лишь отличием, что доступ в них открывался с торца здания, обращенного в сторону муниципального особняка, как раз наискосок от каретного подъезда. Вывески городская почта не имела и вовсе никакой, хотя, по утверждению Митеньки, изначально нарядная табличка, писанная сусальным золотом по малахиту, украшала входную, обитую железом дверь, но однажды была отдана для реставрационной заботы дворнику Мефодию, с той поры более никто ее в глаза не видел. Зато у Луки Раблезиановича, на приватной полке за кассовым аппаратом, возникли в ряд семь приносящих удачу слоников, сработанных кустарно из малахитового камня и в чудных золотистых узорах, будто ненароком и случайно разбросанных тут и там.
По утверждению хозяина распивочной «Мухи дохнут!» – недавно открытое наследство от покойной бабушки. Спорить с Лукой Раблезиановичем никто не стал, ибо в городе он считался первейшим старожилом и местные обитатели не помнили не то что его бабушку, но и самого внучка молодым. А новую вывеску Ермолаев-Белецкий заказать так и не удосужился. Безымянной стояла почта. Казус сей не был большой бедой, ибо каждый встречный-поперечный и без того знал ее место нахождения, а кто не знал, мог запросто спросить и тут же получить всеобъемлющий ответ.
Внутри оказалось на удивление уютно, по-старомодному образцу, без современных техногенных излишеств. Упаси боже, никаких компьютеров, даже древнего поколения, никаких тебе автоматических сортировочных линий или, к примеру, цифровых телефонных устройств. В центре просторной комнаты раскинулся поперек дубовый стол, о двух тумбах и крытый красным сукном, – рабочее место Митеньки Ермолаева-Белецкого. Подставка для карандашей подле угрожающих размеров точильного агрегата, жестяная коробка с палочками сургуча, а рядом спиртовая горелка, направо тяжелый, литой бронзы компостер, налево изящный бювар с марками невиданных государств, посередине пара гроссбухов удручающе-канцелярского вида – все эти предметы довольно аккуратно расположились поверх столешницы. Удивительно для Митеньки, славящегося своей безалаберностью. Но, может, в служебные часы городской почтмейстер преображался в совершенно иного, казенного человека, и это накладывало свой отпечаток.
Следов библиотеки Яромир не обнаружил. Хотя озирался кругом добросовестно. По стенам вдоль однообразно тянулись открытые шкафы, разделенные на многочисленные ячейки, в коих покоилась корреспонденция, уже подвергнутая рассортировке или только ожидающая оной. Большой стальной сейф с неплотно захлопнутой дверцей тоже был мало приспособлен для тайного книгохранилища.
– А где же..? – разочарованно начал было Яромир, но почтмейстер не дал ему договорить.
– Под самым вашим носом, любезный, – несколько сухо произнес Ермолаев-Белецкий и указал коротким жестом на ближайший, полный служебных бумаг, кособокий шкаф. – Могущий видеть, да узрит. Или вы думали, здесь прописался филиал «ленинки»? Да вы понятия не имеете, каких трудов каторжных стоит одна-единственная реконструкция! А у меня их с десяток. Впрочем, смотрите сами.
– Куда смотреть? – Господин сторож разинул неловко рот, еще раз обвел недоуменным взором почтовые стеллажи, ничего нового не увидал все равно.
– Смотреть, не в прямом разумении – чтобы совершать на расстоянии процесс зрительного осмысления. Подойдите и возьмите в руки. Второй, третий и четвертый ряды. В буквальном понимании, это все не книги. Скорее, рукописи, хотя и обработанные переплетом. – Ермолаев-Белецкий подступил вплотную к полкам, где в тех же пресловутых ячейках, как личинки в сотах, лежали одна на другой коричневые тетради в коленкоровых обложках, ничем не примечательные на вид. – Смелее. Начинайте с верхних. Или, может, предпочитаете обратный порядок?
– Я начну с верхних, – наобум ответил Яромир, протянул опасливо руку, будто в дупло лесного дерева, в коем, возможно, скрывается злобная и кусачая тварь.
Тетрадь оказалась приятной на ощупь – прохладная, немного шершавая поверхность, – смутные школьные воспоминания о плевательных шариках из бумаги, о выдранных страницах, преобразившихся в летательные агрегаты, о корявых строчках сплошь в жирных пятнах от украдкой съеденного пирожка с фруктовым повидлом. Господин сторож открыл интригующе-заманчивую рукопись, и на первом, титульном листе с изумлением прочитал: «Артюр Рембо. Работорговля как способ повидать мир…»
Тетрадь выскользнула из онемевших вдруг пальцев, юркнула под ноги, зашелестели обиженно страницы. Он не сделал попытки нагнуться и поднять, а лишь глядел растерянно в потолочный верх и одновременно в никуда, как безумный на радугу. Митенька тоже не думал подбирать свое упавшее сокровище, напротив, протянул ему следующую тетрадь. Яромир машинально прочел: «Генри Миллер. Почему я перестал любить Артюра Рембо и возненавидел Достоевского». Вторая рукопись ласточкой порхнула на пол вслед за первой. Далее. «Ф.М. Достоевский. Ничего не понимаю!» Туда же. Опять Достоевский, теперь озаглавлено «Эта сволочь, Победоносцев!» Яромир, от бессилия воспротивиться нарастающему извне кошмарному чувству, чуть не взвыл, но неизбежно перешел на следующий уровень. Ячейка пониже, однако коленкоровые тетрадки в ней такие же. Да не такие! «М.Ю. Лермонтов. Искусство дуэли». Ну, допустим. А это что такое? «Диоген Синопский. Как я проживал в Царь-пушке». Бред, бред, бред. И только! Он раскрыл наудачу неизвестное творение великого киника и прочитал: «О, нет! Они вовсе не маньяки! Они попросту дразнят смерть!» К чему бы? Не хотелось и выяснять. Еще одна тетрадь. «А.П. Чехов. Сборник рассказов», и следом краткий перечень-оглавление:
Три жареных поросенка
Соседский сад – отрада для детишек
Несколько способов препарировать дохлую кошку
Кто ты, Иван-дурак?
На последнем названии Яромир остановился. Потом принялся с остервенением листать заполненные от руки страницы и сам не заметил, как в некотором умственном помешательстве опустился на гладкий плиточный пол, вкруг него валялись отброшенные и отвергнутые книги-тетрадки; Ермолаев-Белецкий давно уж отошел к своему начальственному столу, дабы не мешать. А господин сторож все искал. Пока не нашел. Вот оно! Рассказ действительно назывался «Кто ты, Иван-дурак?». Даже предворялся настоящим эпиграфом Г. Миллера: «Он видел, что наука обернулась таким же обманом, как и религия, что национализм – это фарс, патриотизм – фальшивка, образование – вид проказы, а нравственные правила – руководство для каннибалов».
«Наверное, тот самый, который перестал любить Рембо», – подумал про себя Яромир. И начал читать с первой строки собственно текст:
Между жизнью и смертью – как между временем и вечностью. На перекрестке их дом, который разрушить безнаказанно можно лишь однажды. По разные стороны – Бог и человек, идея и Мамон… и нельзя спрашивать у последнего, как пройти к первому. Открыть двери в вечность способна только смерть.
– Я понял. Я, кажется, понял! Он говорил! Вы слышите, Митя, он говорил! – Яромир рывком поднялся на ноги, отбросил в сторону ненужную уже книгу. Варварство, конечно, но до того ли сейчас?
– Простите великодушно. Но кто говорил и что? – Ермолаев-Белецкий не слишком обратил внимание на кощунственное обращение с плодами его трудов, почтмейстер более волновался за душевное здоровье своего гостя, коего так необдуманно втравил в мероприятие по осмотру подпольной библиотеки.
– Корчмарь, вот кто! Он сам надоумил меня обратиться за советом к Двудомному. А я, тугомысленный, еще рассуждал, к чему бы это? Теперь-то ясно, к чему! – Яромир подскочил к обалдевшему в изумлении почтмейстеру, затряс Митеньке пухлую, вялую ладонь: – Спасибо вам, спасибо! Хотя я не понял до конца, что же она такое, эта ваша библиотека?
– Вы успокойтесь для начала. Иначе ничего объяснять не буду, – ласково принялся увещевать его Митя. – Садитесь на мое место. Очень удобный стул. С подушечкой. А вот лимонные вафли. На спиртовке можно и чай согреть.
Ермолаев-Белецкий действительно вынул из верхнего ящика под столешницей целехонькую, нераспечатанную вафельную коробку. Тут же вспыхнула спиртовая горелка, Митенька водрузил на нее химическую колбу с носиком-пимпочкой – импровизированный заварочный чайник. И все это он проделал со сноровкой, хотя и несколько неуклюже в движениях. Когда вода вскипела, живительный напиток был разлит – господину сторожу, как гостю, досталась фарфоровая чашка, себе почтмейстер определил деревянный стаканчик из-под карандашей. Сразу после Митенька приступил к повествованию:
– Я вижу, вы вполне в себе. Это хорошо. Ибо ответ на ваш вопрос не содержит ничего сверхъестественного. Хотя и затрагивает материи сугубо метафизические… Вафлю передайте, пожалуйста, – попросил Митенька как бы мимоходом, после продолжил с набитым ртом: – Ф-се, ч-што фы ф-идели, и есть ф-еконст-фукция. – Он наскоро прожевал и извинился: – Простите, люблю именно лимонные. Моя слабость, знаете ли.
– Я услышал необходимое. Эти рукописи и есть пресловутые реконструкции. Но реконструкции чего, смею спросить? – поторопил Яромир почтмейстера. Время близилось к семи часам, и пропустить похороны Майи он не собирался даже ради всех сокровенных истин на свете.
– Видите ли. Проживая на данный временной отрезок в реалиях, так сказать, универсальных, я предпринял попытку восстановления. Точнее, я спросил себя, а чтобы совершили, написали или сотворили в будущем значительные персоны, трудившиеся на ниве литературной и философской мысли? Если бы, конечно, их жизненный путь имел долгое продолжение в веках? К чему бы они пришли в итоге, перед тем как их утомило здешнее существование и они добровольно захотели бы отправиться в мир иной?
– То есть, Диоген выбрал бы обиталищем московскую Царь-пушку и даже оставил потомкам мемуары по этому поводу? – пошутил было Яромир, хотя в действительности смеяться ему вовсе не хотелось.
– Скорее всего. По крайней мере, с точки зрения метафизической целостности его личности, очень вероятно. К примеру, из Михаила Юрьевича, при кажущейся меланхолической потусторонности, вышел бы в конце пути лихой бретер. Если бы роковая пуля Мартынова просвистела мимо, то век бы стоять ему у барьера и получать удовольствие. Со стихами и прозой он завязал бы определенно, я вам гарантирую. А лет, этак, через пятьдесят явил бы книжицу – незаменимое руководство для начинающего дуэлянта. Но вскоре помер бы от разочарования – поединки к началу нашего времени совершенно изжили себя. – Ермолаев-Белецкий удовлетворенно хмыкнул. – Моя работа несет втайне и назидательный смысл. Я завершаю то, на что самим зачинателям не было отпущено времени. Да и не могло быть отпущено.
Что же, благородной души прекрасные порывы. С Ермолаева-Белецкого станется – окучивать грядку с марсианскими одуванчиками и делать из них вино. Несомненно, он тоже нашел свое призвание, пусть в неожиданном месте и в не слишком подходящее время. Когда сроки уже на исходе. Но Яромира больше волновало другое:
– Скажите, Митя, реконструкции, произведенные вами в отношении Антона Павловича Чехова, открылись сами собой? Или в них изрядная доля нарочного вымысла? Дело не в недоверии к вам лично – ответ очень важен для меня.
– Я ведь объяснял уже. – Ермолаев-Белецкий поморщился, будто и от легкой обиды, но, видно, понял: вопрошали его о вещах, безусловно, наизначительнейших. – Вероятные линии будущего почерпнуты мной исключительно из универсальности здешнего мира, хотя некоторые детали я получал порой по переписке. Но все равно, от корреспондентов, проживавших в городах, подобных нашему. Поэтому, с большой долей уверенности, могу утверждать – да, реконструкции грядущих заключительных трудов Антона Павловича взяты мной не из головы.
– А вам не кажется странным, что речь в одном из рассказов идет о городе Дорог? Хотя Чехов наверняка никогда в здешних пределах не бывал? – задал Яромир решающий вопрос.
– Понятия не имею, о чем там идет речь. Я воссоздаю личность, а не обстоятельства места. Может, Антон Павлович в апофеозе своей жизни и пришел бы в наш град, и может, написал бы то, что написал за него я. – Ермолаев-Белецкий раздраженно отодвинул от себя пустой карандашный стакан. – Если вам сгодится на кой-нибудь ляд моя пачкотня, отлично! Я готов признать некоторое оправдание собственным стараниям, и, стало быть, рабочие часы потрачены не впустую. Но учтите! Я не справочная Господа Бога или Вселенского Устроительного Разума. Нашли нечто для себя полезное, так пользуйтесь! Или сберегите и несите дальше. Однако не пытайте меня, зачем и для чего ВАМ это нужно!
Яромир отвечать не захотел, отнюдь не потому, что сказать было нечего. И то правда, с какой стати морочить голову человеку, к его заботам причастному лишь косвенно? Поэтому следующую реплику господин заводской сторож произнес на отвлеченную тему:
– Удивительное дело – Доктор сбежал сразу же, едва в городе пошел снег. Вы не находите?
– Не нахожу, – отчего-то сквозь зубы, точнее сквозь «моржовые» усы, ответил ему Ермолаев-Белецкий. – Удивительно не то, что Доктор сбежал, это как раз понятно. Удивительно, что вы остались.
– А разве был иной вариант? – искренне недопонял Яромир.
– Простодушие порой опасная черта, – по-прежнему нелюбезно сказал почтмейстер… И вдруг выпалил неожиданное: – Собственно, какого черта вы остались?
– То есть… Что значит, какого черта? Я, знаете ли, не привык – натворил делов и в кусты. – Яромир несколько повысил голос, даже привстал с подушки.
– Да сядьте, бога ради! Тоже мне, Аника-воин. Не вы натворили делов! Не вы! Науськали вас, как дворового пса на кость. А кость-то чужая! Главный виновник торжества давно фью-ють, только его и видали! – Ермолаев-Белецкий в сердцах шваркнул деревянной карандашницей о пол, увесистая посудина раскололась аккурат надвое, будто мир расщепился в основе своей на Ян и Инь.
– Вы сейчас заведете знакомую мне песню об Иване-дураке? Напрасно, без вас знаю, кто я есть такой, – устало произнес господин заводской сторож, одновременно потирая обеими ладонями виски.
– Откуда подобные глупости? Плюньте в глаза тому, кто вам это внушил. – Митя с долей сомнения оглядел служебное помещение, будто пытался найти незнакомого и притаившегося вредного советчика.
– Как же, плюнь! Это Корчмарю, что ли? Вы вообще знаете, кто он такой?
– Знаю, – коротко и злобно бросил в ответ Митенька.
– А говорите, плюнь! Мне раньше срока на тот свет не слишком охота, тем более без очевидной пользы людям и себе, – огрызнулся Яромир, но тут же пожалел – Ермолаев-Белецкий ни при чем.
– Именно теперь готов подписаться под каждым сказанным мною словом! – Митя никак не среагировал на очевидную грубость и продолжал: – Корчмарю первому на руку, чтоб вы остались. Иначе, кто же чужие грехи станет замаливать? Вы поймите, местные виноваты не меньше вашего, а, пожалуй, даже более того! И Корчмарь в главную очередь. Ведь Доктор пил и ел под самым его носом. Слова произносил, а тот слушал… В городе Дорог такая же российская дурь, как и везде. Проморгали, просмотрели, ну уж после драки давай кулаками махать! Нашли крайнего, повесили на него постороннюю ношу, неподъемную, между прочим, и ждут, что выйдет. Стрелочник вы, а не Иван-дурак. Оттого вас жалко.
– Может, и стрелочник, – в глубокой задумчивости, словно бы эхом отозвался Яромир.
Помолчал, сколько требовалось – Ермолаев-Белецкий его ничуть не торопил. Потом господин сторож озвучил родившуюся мысль:
– Всякое слово в строку. Стрелочнику где место? То-то и оно. Нужно мне к Двудомному. Непременно нужно.
– Сейчас, что ли, пойдете? – с подозрением спросил его Митенька.
– Нет, завтра. Мне еще подумать надлежит, с чем идти. А сейчас я отправлюсь на вторую линию, к семейному склепу «Лебединая песня». Отдам последний долг, в буквальном его понимании. Если Анастас не погонит, конечно.
– Не погонит. Вы отныне в городе человек неприкасаемый!.. Тысячу извинений – в смысле, неприкосновенный. Я уж объяснил, почему. – Митенька тяжело поднялся с присутственного табурета. – Приберусь и контору стану запирать… Вы вот что. Если выйдет во мне необходимость, хоть днем, хоть глухой ночью. Не стесняйтесь, дверь моя с этой поры для вас открыта. Приглашений и подношений вовсе никаких не надо. Впрочем, за обед спасибо.
– И вам, Митя, спасибо на добром слове, – поблагодарил на прощание Яромир.
Он вышел вон, не оглядываясь, будто бы ткань мироздания сей миг растворилась во тьме за его спиной.
Снег повалил растрепанными мокрыми хлопьями почти сразу, как с безнадежным стуком опустилась мраморная белая плита гробницы. «Лебединая песня», считай, уже пропета, присутствовавшие на траурной церемонии стали понемногу расходиться. Да и не так уж много их было, этих присутствовавших, – десятка не набралось. Чуркины ушли с кладбища в числе первых: Васенька едва держался на ногах, вовсе не из-за хмельного тумана. От веселой его удали сегодня не осталось и следа – казалось, еще немного и сам он, изнуренный и потерянный, ляжет рядом с усопшей дочерью. Благо похороны вышли короткими. Речей не произносили, отпевать не отпевали, оркестр тоже не был предусмотрен.
Большой Крыс, зябко кутаясь в демисезонное, противоречивое погоде пальтишко, положил на гроб две желтые хризантемы: не по обычаю, а что сыскалось из живых цветов в позаброшенной муниципальной оранжерее. Традиционные комья земли не кидали тоже, потому что какая же земля, если могилу никто не рыл. Склеп «Лебединая песня» представлял собой крохотную, тесаного камня часовенку с неглубокими по периметру нишами – в них и полагалось погребать, под плитой с заранее выбитой эпитафией: кто, за что и на какой срок. Последнее, если повезет. На соседней табличке, принадлежавшей сестре Майи, давно угасшей Надежде Чуркиной, время обозначено было единственным словом «бессрочно».
Яромир уже собрался покинуть кладбище – лучше он завтра, с раннего утра, придет сюда в одиночестве, пережив со своим горем ночь, – как к нему подошел, довольно робко, Евграф Павлович Месопотамский.
– Милый мой, я ведь понимаю, поверьте старику! Но не откажите в любезности. – Главный редактор и ответственный секретарь запнулся на мгновение, будто бы шуршащий на ветру лист завис в потоке воздуха, потом заискивающе заглянул господину сторожу в глаза.
– Что вы, Евграф Павлович, дорогой! К чему подобные церемонии? Говорите смело все, вам от меня угодное. – Яромиру сделалось неловко оттого, что заслуженный пожилой человек, к тому же на вид не совсем здоровый, собирается едва ли не земные поклоны класть перед его особой.
– Не мне, не мне! – испуганно-дрожащей рукой отмахнулся несколько раз Месопотамский, словно собирался перекреститься от нечистой силы, да и позабыл, с какой стороны нужно начать. – Я попрошу вас за мной, в контору. Туда сейчас придет Анастас, только выполнит последние формальности. Если хотите, я могу присутствовать при вашем визите от начала до конца, для уверения в добром намерении?
Но было видно: несмотря на великодушное предложение, Евграф Павлович меньше всего на свете хотел именно что присутствовать при посещении господином сторожем конторского помещения водокачки. Но и сам Яромир сомневался, стоит ли соглашаться на этот визит и такими ли уж добрыми выйдут намерения директора городского погоста, тем более от начала до конца.
Из уважения он пошел следом за Месопотамским. Идти было близко – вот она, водокачка, нависает над кладбищенской тишиной, словно грозовая туча над порушенной Помпеей. Все же несколько десятков шагов, предстоявшие Яромиру, оказались тем разделительным рубежом, который меняет сознание человека от состояния «до» к обновленному «после». Дело было даже не во времени, краткость его, точно так же, как и длительность, мало что определяют в мыслительном процессе. Рассудок иногда несется вскачь, подобный резвой, легконогой лани, играючи преодолевает непроходимые пропасти и неприступные скалы, в один миг выстраивая в нужном порядке причины и следствия, допреж скрытые в вязкой пелене заблуждений. Решения (те самые, поиск которых – длиною в жизнь) вдруг приходят на ум и принимаются со скоростью, равной бесконечной, озаряют внутренний мир если не светом мудрости, то, по крайней мере, проблеском понимания истины вещей.
Каждый шаг его ныне был мыслью, каждый вздох штурмом сознания. Вечность – время. Время – вечность. От смерти к жизни, от жизни к смерти. Как все просто! Оттого скрыто от глаз.
– Стойте! – Господин заводской сторож задержал редактора Месопотамского, остановился сам.
– В чем дело, дорогой мой? Вам плохо? – заботливо-беспокойно произнес Евграф Павлович, в тревоге огляделся кругом: – Вас кто-то напугал?
– Стойте! Стойте, стойте, – с сорочьим постоянством упрямо твердил Яромир. – Стойте. Я не пойду дальше.
– Что же вы, батенька? Мы уж пришли. – Месопотамский указал впереди себя на раскрытую конторскую дверь. – Сейчас посидим, помянем, а там – как хотите. Могу уйти, могу остаться. Анастасу это не препятствует.
– Зато препятствует мне. Отнюдь не ваше присутствие, любезный Евграф Павлович. С вами готов распить и помянуть, когда угодно. Желаете, прямо и отправимся в «Мухи»? Единственно с Гаврилюком я за стол не сяду.


![Книга Прасковья [СИ] автора Александра Авдеенко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-praskovya-si-172953.jpg)