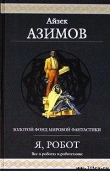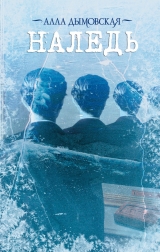
Текст книги "Наледь"
Автор книги: Алла Дымовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Большой Крыс копошился у плиты, в воздухе витали ароматы подгоревшей «яичницы-потаскушки» – перемешанная кое-как масса, развезенная вилкой по обмасленной сковороде, – и неизменного какао «Золотой ярлык».
– А-а, вот и вы, дружок, – поприветствовал гостя Лубянков, потянулся к дальней полке за сахарницей. – Что-то вы поздновато, задумались в дороге или обстоятельства задержали?
– Обстоятельства. По насущному делу в «Эрмитаже», – глухо закашлявшись, сознался заведующему Яромир.
– С бандой Гервасия якшались, стало быть, – вовсе без осуждения, но и без сострадательного одобрения предположил Лубянков. – С одной стороны, похвально, но подумали ли вы с другой стороны? О нас всех и о нашем городе? Стоит ли ради единственной жизни, я извиняюсь, в местных условиях непредвзято чужеземной, подвергать опасности фундаментальные устои целого общества?
– Стоит, Эдмунд Натанович, еще как стоит. Иначе чего же будем стоить мы? – Яромир произнес свои реплики с убеждением, как думал и переживал про себя. – И потом. Не вы ли сами убеждали меня, что сущности города Дорог на внешний мир никак повлиять не могут? Что вы и вам подобные лишь зеркало внешних событий жизни?
– Безусловно, дорогой мой. Я и не отказываюсь. Универсальные сущности ничего такого действительно сделать не в состоянии. Но вы-то не универсальная сущность. Вы – натуральный человек. И оттого вам вполне по силам осуществить обратную операцию, что вам, в общем-то, и удалось. Последствия – их вы видите своими глазами.
– Я совершил ужасную ошибку. Давно в том признался и раскаиваюсь. И даю вам слово, я помыслить не мог, что нарушение простого запрета на шесть часов приведет к невообразимой мной катастрофе. – Инженер принял от Лубянкова тарелку с яичницей, но к еде не приступал, ожидая ответа.
– Дело даже не в шести часах, я вам уже неоднократно объяснял, дело в «лукавой грамоте», – ответил ему Эдмунд Натанович, терпеливо и обреченно вздыхая.
– И я вам не раз и не два твердил, не стучал я вовсе в барабан. Ни в «лукавую грамоту», ни в какую иную. – Яромир символично и многозначительно поднял вверх мельхиоровую вилку, будто утверждающий его право трезубец, затем продолжил: – Случайно отвязалась петля, случайно откатился инструмент, может, и вышел некоторый стук, я ничего не слышал, меня все равно, что и не было.
– Вы свели вместе две могущественные невообразимо полярные силы и еще говорите о какой-то случайности. Вы нарушили равновесие, сами деяния своего не понимая. После того как вы вступили в это ваше колесо, дальнейшее вообще происходило без вашего участия. – Большой Крыс взволнованно шагал по периметру кухни, свободного пространства ему не хватало, казалось, он вот-вот рухнет от головокружения. – И до вас являлись к нам смельчаки и нездравомыслящие экспериментаторы, а может, нарочные авантюристы. Вы разве не знали? Не приходило ли вам на ум задать хотя бы этот простой вопрос?
– Были и до меня?! – Яромир от изумления даже привстал с табурета, все еще сжимая в кулаке вилку, будто Нептун свой державный скипетр. – Что же вы раньше..? Почти целый квартал прошел с тех пор, как я… Да я измучился совсем. Ах, впрочем, теперь не важно. Но кто именно? Пресловутый деятель Канцуров?
– Игорь Иванович? Господь с вами! Он был святой жизни человек, а и узнал бы о подобной попытке, немедля встал бы на защиту города, хотя бы и насмерть. Но я удовлетворю ваше любопытство. – Лубянков, устав бегать кругами, наконец присел рядом с инженером, брезгливо отодвинул остывшую порцию «потаскушки». – На моей памяти их случилось всего двое. За долгую, долгую историю Святой Руси. Самый недавний, для меня, естественно, не для вас, по вашим меркам долголетия, был довольно невзрачный лысый человечек, однако со страшными глазами. Как он забрел в наш город и откуда вообще узнал про завод, до сих пор неясно. Свое имя и звание он нам не открыл, никто и не настаивал. Мы и в стороже, собственно, не нуждались, имелся у нас. Но вскоре погиб, при до конца не выясненных обстоятельствах – якобы пьяный свалился в колодец. Тогда добровольно вызвался этот лысый, правда предупредил, ненадолго, его, видите ли, нетерпеливо ждут то ли в Швейцарии, то ли еще где в Европе. Поэтому временно, пока ищут замену. И недели не минуло, как нарушил правило, однако с соображением, «лукавую грамоту» с собой он не взял. Вышел поутру довольный, на расспросы не отвечал, лишь крикливо торопил Волгодонского, чтобы не задерживал с его смещением. А потом отбыл в неизвестном направлении. После его ухода в городе кое-кто все же умер на срок, а кое-кто, напротив, народился, но особенно жутких перемен на головы наши не исторглось, само собой все постепенно выровнялось, а местами даже окрепло и поздоровело. Может, и польза от него произошла, хотя лысый, как человек, был совсем нехороший.
Яромир не то чтобы пришел в ожидаемое замешательство, скорее ассоциативная память его заработала со старанием и довольно быстро на полном ходу выдала искомый ответ. Ай да Владимир Ильич, ай да сукин сын! Все оказалось намного проще, хотя, по сути, и заковыристей, чем о том пишут в учебном курсе истории. Но, может, и не он? Он, он! Убежденно подтвердил внутренний голос. Больше некому. Чтобы прежнего сторожа, да в колодец, затем, не мешкая, провести быструю разведку окрестностей, а дальше уже, как водится, телефон, телеграф и соединительные мосты.
– А вы говорили, был еще и второй? – В Яромире проснулся дальнейший интерес, пускай его, Ильича, дело прошлое, да и в суждениях о поступках вождя революции бабушка надвое сказала.
– Да уж. Но это случилось давненько даже для меня. – Большой Крыс призадумался, будто бы стараясь припомнить подробности.
– Монголо-татарское иго? Или ледовое побоище? – попытался подсказать ему с усердием Яромир.
Лубянков поморщился, словно негодуя слегка, что его сбивают с мыслей, и прежде, чем дать ответ, отпил в один глубокий глоток какао из чашки. Сморщился еще более прежнего – про сахар он и позабыл.
– Что иго? Подумаешь, татары! Всего только и вышло пользы – поселился вскоре у нас Мурза, первоклассный портной, между прочим, да Волгодонский через пару веков сменил прозвище. И то по виду, не по существу. Про побоище ничего сказать не могу, для истории города прошло бесследно. А человек тот объявился у нас много позже.
– Иван Грозный? – опять вылез с подсказкой Яромир и затаил дыхание – ну как, угадал?
– Нет, не Иван. Того Дмитрием звали. Стройный такой парнишка, лицом пригожий, по одежде франт. И все мучился от имени своего – Дмитрий он или не Дмитрий. Вроде бы оттого и на завод полез, дабы прояснить. Да и завод тогда был, голое название – убогая избушка в одну печь и кругом, куда ни кинь, сплошные репьи растут, – с презрением отозвался о бывшем кирпичном производстве Лубянков. – Не знаю, что уж там ему открылось, а шороху в городе наделал этот Дмитрий немало. Тогда у Авдотьи первая дочка-то и померла. Совсем. До сих пор невоскресшая лежит под плитой на второй линии. Анастас ее очень любил. – На этом месте повествования Эдмунд Натанович сделал как бы поминальную паузу. – Шатаний после было немало. Для Луки Раблезиановича самый разгул. Вы ж понимаете.
Яромир понимал. Кто такой на самом деле содержатель распивочной и винно-водочного магазина «Мухи дохнут!», он выяснил уже давно. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия! Это, само собой, в мире большом, да и когда оно было? Но в мире малом, то бишь в городе Дорог, универсальное понятие, обозначающее формирования возможных групп людей по интересам, политическим ли, лирическим или спортивно-художественным, вовсе никакой не Ленин. А как раз Лука Раблезианович, старейший из местных долгожитель, еще во времена императора Юстиниана свидетельствовал он о побоищах ипподромных партий, чуть было не завершившихся переворотом государственным. И всегда-то он торговал вином, белым хлебным и привозным красным, в разлив и на вынос, в смутные времена его коммерция шла особенно бойко.
Вот и теперь, с той поры как пошел снег, из его заведения вытекают во множестве потоки горные, буйные. Хотя веселия от пития и не видно. Дворник Мефодий завязал, а жаль, его-то запьянцовские выходки, пусть и обременительные, все же случались веселыми. Зато «развязал» Гаврилюк, ходит всякий день мрачный, будто туча, таскает за собой Месопотамского, бедный Евграф Павлович уж лилового цвета стал, распух, как воздушный гелиевый шар, но отказать не может, так оба и надираются каждый вечер в тоске. Когда на водокачке, а когда и в редакции, накрывают прямо на копировальной машине – газета выходит в срок и ладно. Совсем не стало удержу и Ваське Чуркину, «гуслицкому разбойнику», не только с раннего утра повадился он безобразить в «Мухах», ко всему прочему свинству, частенько Ваську можно было застать в опасной компании «приблудных». Гервасий его приваживал, наливал как бы бесплатно, но и в кредит за будущую дружбу народов. Пока был жив, некоторое время до чертиков пил и Левконоев, лавочник из торгового, Калашного переулка, тот самый, что содержал непритязательный «Походник и браконьер», предлагая для домашних нужд керосиновые лампы и фонари, сапоги болотные, ружья охотничьи, частые бредни и удочки электрические, вещи потребные мало за отсутствием дичи и реки. Заодно выставлял и москательный товар – тот уж пользовался настоящим спросом. Универсалию Левконоев представлял собой не самую фундаментально значимую, из второсортных и недавних – прессу желтую и обыкновенную передовую, все в едином лице. Зато помирал Левконоев уже раза два, а на прошлой неделе отправился на погост в третий раз, уверяя, что мера сия временная.
Однажды Яромир возвращался со службы, услыхал издалека звон станционного колокола и, подойдя поближе, увидал: по площади несут гроб, тихо и важно, без оркестра и слезных причитаний, мимо мэрии и дальше, в сторону водокачки. Яромир спросил – кого? Ему ответили, что хоронят Левконоева, инженеру неожиданно сделалось страшно и виновато, он не пошел следом для прощания. А магазинчик Левконоева пока стоял закрытый. Да и не он один. Наглухо захлопнулись ставни и «Ватника вечернего», а напротив, в «Болеро», отныне хозяйничала девушка Марина, все еще не вышедшая замуж за директора Фиму Степанчикова, оно и немудрено. Ибо Фима запил тоже, хотя и уверял всех, что не может заразиться повальным алкоголизмом, так как на лучшую половину еврей.
Бывшая же владелица парикмахерской, щуплая и верткая хохотушка бальзаковского возраста Василиса Киприани, бессменная и заводная солистка клубного хора, отправилась на кладбищенские линии одной из первых, Яромир тогда поначалу даже не расстроился, а удивился: почему отсчет начался именно с нее? Подумаешь, великое дело, человеческая любовь! Ведь не к Родине же! Вспоминая свою первую и единственную жену Оленьку, в принципе Яромир начинал сомневаться, есть ли эта поганка-универсалия вообще? И в городе Дорог госпожа Киприани вовсе не значилась в выборных фаворитах, даже в нижней палате никогда не заседала. В «Болеро» сама стригла клиентов, инженер тоже, случалось, садился к ней в кресло, если мужской мастер Марина была занята. Рука у Василисы слыла чувствительно тяжелой, прически выходили не самые авантажные, и вообще, вечно растрепанные ее собственные рыжие кудри наводили на мысль – а по плечу ли себе рубит госпожа Киприани профессиональный сук. Но мор отметил первой жертвой Василису, и как-то сразу всем в городе стало ясно – грядущие перемены избрали для воплощений самое неудачное из всех возможных начало.
– Вы задумались? Хотелось бы перейти теперь от воспоминаний к делу. – Большой Крыс тревожно посмотрел в сторону настенных часов, как бы указывая гостю на ограниченность времени.
– Ох, простите! Я, в сущности, к вам пришел… как бы это сказать более прямолинейно? – Яромир сделал паузу, в надежде, что Эдмунд Натанович бросится к нему на выручку и подскажет нужную формулировку, но ожидание оказалось напрасным. Ничего не оставалось, как продолжать самому: – Так вот. Я у ваших ног и прошу о помощи. С моей стороны все, что хотите. И «приблудных» не опасайтесь, от моих обещаний им прибыли выйдет ровно бубличная дыра и бульон из скорлупы.
– Вы, дорогой мой, будто на восточном базаре о цене торгуетесь, – укорил его Лубянков, но не слишком нравоучительно, а скорее от необычности возникшей ситуации.
– Так и есть. Эдмунд Натанович, поймите, милый вы мой. Если бы Ахмет Меркулович был в добром здравии! Но председательствовать сегодня будет Гаврилюк, а с некоторых пор он видеть мою физиономию не может. Устроит нарочно и назло, лишь оттого, что я прошу. Потому и вынужден прибегать ко всякому отребью… Боже, что же я такое говорю! – спохватился на полуслове Яромир. – Вовсе не вас я имел в виду, вы же это знаете. На Месопотамского положиться всецело нельзя, он с утра до ночи с Анастасом – под ручку, да за рюмкой в задушевных беседах. Спасибо Митеньке, уговорил хоть на статью. Не то вовсе ума не приложу, что бы я делал?
– А что бы вы делали? То есть, в смысле, что бы вы сделали, или сделаете, если решение примут не в нужную вам пользу? Мне это важно и интересно, без обывательского любопытства, потому и спрашиваю. – Большой Крыс как-то посуровел взором, тонкие губы его вытянулись в белую, тесно сжатую и тонкую полоску, от пергаментно-золотистого лицо его обратилось к пепельно-голубоватому оттенку.
– Что сделаю? Ха! Имейте в виду и передайте иным прочим, если захотите. Барабан все еще при мне, и сторож я при должности полноценный. У меня и ружьишко на всякий пожарный звон и на каждое неадекватное поползновение припрятано. Затворимся с Хануманом вдвоем на заводе – и привет. Хрен вы нас выкурите! Пускай ваш достопочтенный Сыма приходит, лучше в лунную ночь, я ему голый зад с крыши покажу!
– Что-то подобное я и ожидал от вас услышать, – несколько даже равнодушно ответил инженеру Большой Крыс, без малого намека на возмущение от явной грубости. – Но умолять пришли вы напрасно. Как ни удивительно сие прозвучит, – а для вас, дорогой мой, и неожиданно, – я изначально собирался голосовать против выдачи Царя.
– Я ослышался? Или желательно вам поиздеваться, а после огорошить? – Яромир отчего-то в эту именно минуту не в состоянии был поверить в искренность слов Лубянкова. – Если сказанное вами правда, отчего вы меня мучили? То есть, мучайте на здоровье, коли веселье вам такое. Но и ответьте, почему? Каков мотив вашего голосованья «против»? Иначе разуму моему не примириться с верой в вас, милейший Эдмунд Натанович, как в человека, хотя последним буквально вы и не являетесь.
– Все очень просто, дорогой мой… Да вы пейте какао, пейте. А я вам кипяточку подолью… Нет? Ну, как хотите. – Большой Крыс привстал, потянулся было за чайником, однако, получив отказ, миролюбиво сел на свое место, на бескровных его губах намеком проступила полная таинственности улыбка. – Ответ мой понятен и доступен каждому. Но не каждый готов воспринять в соображении элементарный довод. Сейчас мы, видите ли, представляем слабую сторону. О нет, не Ханумана, а конкретно город Дорог. По вашей ли вине или нет, в настоящем времени не важно. Еще несколько месяцев назад и достопочтенный Сыма, и преподобный Уолден из Франклиновой Эмпиреи держались бы от нашего города насколько возможно дальше, как изгнанные бесы от кадила. И уж тем более не позволили бы себе ни предъявления ультиматумов, ни закулисного подстрекательства к оным.
– А при чем здесь какой-то преподобный, да еще из Эмпиреи? Которая вообще за океаном, то есть черт знает где? – Яромир, озабоченный исключительно спасательной миссией, о политическом раскладе сил в универсальных поселениях знал мало, если не сказать, что почти и ничего.
– Ах, милый вы мой. Не забывайте про зеркальный эффект. Какие перемены происходят от людей, точно такие же в подобии затеваются и у нас. Но ныне речь идет даже не о переменах, а о грядущем хаосе и безначалии. Стало быть, город наш медленно и верно превращается в легкую добычу, как некогда Панов лабиринт. И коршуны не замедлят слететься. Что они и делают.
– Коршуны? Отчего вы произнесли именно это слово? – в ужасе прошептал Яромир. В ту же секунду раздался неприятный треск, инженера будто ужалило опасное насекомое, он одернул руку, посмотрел. На пальцах его была кровь, а подле, на столе, валялись искрошенные и острые фаянсовые куски. Он совсем позабыл про чашку с какао и так сильно стиснул массивную дужку, что материал не выдержал, рассыпался в пыль и прах, изрезав кожу во многих местах.
– Не знаю. Просто пришло сравнение на ум. Оно, кажется, имеет для вас пророческое значение, как я понимаю? Не огорчайтесь, в нашем городе – это обычное и вовсе не редкое дело.
Лубянков смел салфеткой осколки, заменил попорченную чашку на точно такую же пустую, однако ничем ее не наполнил для Яромира и даже не собирался. Его действия носили скорее успокоительный характер, чем имели целью создание застольного порядка.
– Я буду защищать Царя Обезьян потому, что считаю – таким образом я оберегаю себя и город, и все то, что мы вместе воплощаем или намереваемся воплотить. Прошлое, настоящее и, главное, будущее. Во-первых. А что касается во-вторых, то нельзя казнить Царя. Обезьяннего или какого другого, но человеческий закон оттого и закон, что это он придается кесарю, а не наоборот. Пока Хануман носит свой титул, он неприкосновенен. В Девяти Реках этому не придают значения, у них иной общественный уклад, но у нас, в городе Дорог, любой поступок такого рода может вызвать последствия непредсказуемые. Пускай Царь Обезьян лишь косвенно относится к нашей универсальности, но раз уж вторгся в ее пределы, то несет в себе определенное влияние. Поэтому вы обратились по адресу. Но могли не тратить время зря, агитируя в свою пользу того, кто все равно на вашей стороне.
– Я не потратил время зря. И агитировать, как вы выразились, мне более некого. Месопотамский – размазня. Ермолаев-Белецкий не имеет права голоса, даже и совещательного. Корчмаря, сознаюсь честно, я боюсь. Женская часть собрания импульсивна и неуправляема. Остальные решают мало. Ну не просить же мне Ваську Чуркина? Да он и так, ежели нальют, пойдет за кем угодно. А наливать ему будут правильно – я уж озаботился.
– Да, понимаю. Даже то, о чем вы умолчали. У вас ведь и другая тяжесть на сердце, разве не так? – Большой Крыс, порывисто и соболезнуя, тронул инженера за раненую и еще кровоточащую руку. – Как она, без изменений?
– Какое там без изменений. Положение ее катастрофичнее день ото дня. Мать ее не говорит мне худого слова, и это возможная другая причина опасаться сегодняшнего собрания. – Яромир изо всех сил зажмурился, будто его внезапно и досрочно приговорили к плахе и он не желал видеть экзекутора, наносящего карающий удар.
Майя вот уже тому восьмые сутки лежала при смерти. Вести из Гусарского переулка поступали самые неутешительные, Яромир с постоянным отчаянным упорством рвался проведать, облегчить и, если примут, предложить в обмен собственные тело и душу, но Авдотья не пускала его далее порога, несмотря ни на какие мольбы, полные настоящих слез. Что же, ее как мать можно было понять и простить. Но легче инженеру от того не становилось, скорее наоборот.
– Я не хочу говорить об этом сейчас. Впрочем, после тоже не захочу. – Он как бы закрывал теперь толстую книгу раз и навсегда, не позволяя себе узнать ее смысловой конец. – А скажите мне лучше, любезный Эдмунд Натанович, почему о нуждах города вы знаете лучше, чем Гаврилюк? Или его жажда мести в отношении моей скромной особы перекрывает если не здравый смысл, то, по крайней мере, инстинкт самосохранения?
– Вы не представляете, о чем спрашиваете. Оттого, что не удостоились пока второго откровения – кто такой наш директор кладбища, Анастас Гаврилюк. Некоторые покидали город или умирали, так никогда этого и не узнав. Замечу лишь – Анастас понимает все прекрасно, так же, как и я, ваш покорный слуга. Но вот оцениваем мы ситуацию с разных колоколен – у него своя, а у меня, пардон, своя. И ни чья позиция не лучше, не выгоднее и не дальновиднее, они суть разные, только и всего. Потому что и универсалии мы представляем разные. Хотя его, безусловно, более древняя и мощная, зато куда безжалостнее в поступках и всегда исключающая компромиссный третий вариант для противостоящих двух. Поэтому он и возненавидел вас, а я стараюсь помочь. – Большой Крыс снова посмотрел на часы. Стрелки указывали «без десяти два» пополудни. – Скоро Морфей Ипатьевич оповестит звоном. Лучше, чтобы перед собранием нас не видели вместе.
Яромир выходил из особняка городского муниципалитета измочаленный, как старая галоша в зубах ротвейлера, и бескровно-выжатый, как несчастная жертва трансильванского вампира в безводной прерии. Он дал бой и выиграл. Но чего он стоил, этот бой. Численный перевес в один-единственный голос, зато Хануман теперь спасен. И голос этот подал, кто бы вы думали? Ни за какие коврижки угадать нельзя. Костик Корчмарь, вот кто! Нюшка и та, стервоза и ревнивая дура, подняла руку «против». А уж как разорялся с трибуны Гаврилюк! Инженер прежде не числил в достоинствах немногословного кладбищенского директора воистину цицероновского красноречия, но, как выяснилось, сильно ошибался.
Помимо выступления по существу, ну и честил же он заводского сторожа на все хлебные корки! Яромир и такой и сякой, и разэтакий. В общем, «доколе, о Катилина, будешь ты испытывать терпение наше!». Особенно обидным и чувствительно уничижительным оказалось для инженера замечание о своей особе, как о безответственно-малоумном обычном человеке. Как это Анастас сказал? «Я понял бы – ради великой и корыстной цели – гения, но идти на поводу у досужей посредственности, извините!» Главное, всем ясен был скрытый смысл воззвания. Не в Ханумане дело, точнее не в нем одном. А в событиях на кирпичном заводе, вызвавших снегопад. Всяк сверчок знай свой шесток. Вот что сие означало. Долгое и обстоятельно подробное выступление Лубянкова дела не спасло, разве Мурза засомневался, серединкой на половинку. Эдмунд Натанович не умел оскорблять людей, ни подлинных, ни мнимых. Кричавшие со своих мест «приблудные» только подлили ненужного масла в огонь. Не стоило об них и мараться.
На сторону инженера удалось им переманить лишь одиноко сидевшего в сторонке и глядящего хитро Луку Раблезиановича. Вдобавок удар ниже пояса нанес достопочтенный Сыма. Взойдя после прений на трибуну для оглашения требования, представитель Девяти Рек поклонился в пояс, затем с ловкостью площадного гистриона выхватил из недр парчового халата серенький листок бумаги и, нескладно коверкая слова чужеземным акцентом, зачитал. Рекомендацию градоначальника Волгодонского удовлетворить ультиматум Нефритового Императора и непосредственно запротоколированный голос Ахмета Меркуловича, отданный в пользу истца.
Свое собственное, заключительное обращение (еле-еле инженер уговорился держать речь вне регламента, хотя в качестве сторожа имел право заседать в верхней палате) Яромир помнил смутно. Вроде бы возникало по тексту и пресловутое ружьишко, и луна, и слезное покаяние, и готовность принести себя в жертву: только сегодня, родненькие мои, милые и дорогие, спасите и не выдайте!
Тогда-то и поднялся с места, в середине зала, до поры каменно молчавший Корчмарь. Удивительное дело, но в тот миг – Яромир это впечатление запомнил навечно – не было в лице демонического купидона ни намека на слащавую усмешку или глумливую услужливость, да и от купидона ничего не было, один лишь демон. Синие глазища его утратили цвет, обратившись в страшные, фарфорово-прозрачные дыры; маска из кошмаров Эдгара По, а вовсе никакое не лицо даже, и шепот его, будто пронзительный разбойничий свист. «Хануман останется, где был!» Единственно это и произнес, но знал: его голос последний. Трибуна содрогнулась, а зал зашелестел в трепете. Хотя поднятые «против» руки так и остались поднятыми, однако Хануман уже находился на верном пути к спасению. Ультиматум о выдаче Царя Обезьян в распоряжение достопочтенного посланца Сыма был отклонен, в виду численного преимущества защитников ответчика. Дипломатические отношения с градом Девяти Рек отныне разрывались на не определенный временем срок. Такие-то вышли дела, а настоящие еще впереди!
Яромир стоял неприкаянно на площади, решая, куда бы податься с тоски. Мимо него проходили заседатели обеих палат, доброжелательные и враждебные, – и те и другие безмолвно. Словно вкруг прокаженного. В дальнем углу площади, за каретным подъездом и мишурным плетнем, одиноко проступал силуэт молочного фургона, давно уже пустого, хозяин его, Коля-«тикай-отседова», бесприютно сидел на переднем бампере, сжимая в пальцах потухшую папироску. Яромир подумал совсем немного и пошел к нему, сам не зная зачем. Коля теперь являлся в город с визитами ежедневно, а не только лишь по обязательным субботам. Иногда и с порожней цистерной, просто так. Доставал из замызганной кабины потрепанный овчинный полушубок – в Глуховске давно уж дело шло к лету, – усаживался чинно, когда на раскладную брезентовую скамеечку, когда на холодный бампер, застеленный для тепла куском байковой тряпки, и так замирал в неподвижности. Долго, на часы, пока не темнело совсем. Потом заводил чихающий мотор, пропадал со своей колымагой до утра, а на другой день все повторялось сызнова. По словам самого Николая, случайно и обмолвкой брошенным проходящим мимо аборигенам, – в мире людском, за пределами города Дорог, ему было страшно.
– Здравствуй, Коля, – обратился к шоферу Яромир, протянул для пожатия руку. С Колей давно уж он был на «ты», но это для удобства разговора, а вовсе не потому, что между ним и водителем молоковоза существовала по-настоящему дружественная близость. – Что нового слыхать в твоем Глуховске?
– Здорово, братец. – Николай принял руку, сжал с усилием, потом отпустил резко и сплюнул, выругался на матерный лад и уж после довел дело и до глуховских новостей. – Слыхать все то же. Что ни день, очередная катавасия. Вчерась еще выезжал поутру, флаги зеленые висели, а возвернулся к вечеру, глядь, уже черные с белой полосой. Мэр наш третьего дня сбежал, да я рассказывал. Теперь какой-то совет национального спасения, но и он долго не продержится. Уж очень в области сильна партия передового капитала, едри ее в печенку. Что за люди такие, и знать не знаю… С хлебом перебои начались, – пожаловался он о самом насущном и волнительном.
– Партия националистов против олигархии, – разъяснил инженер, насколько понимал сам. – Так что добра не жди. Ни от тех, ни от других. Знаешь что, Коля? Переезжал бы ты в город Дорог? От греха?
– Я бы с удовольствием. А как семью брошу? Дочка у меня в Смоленске. На училку диплом сдает. Еще сестра хворает, куры-несушки, кабанчик, огород в шесть соток. Оставить не на кого, – перечислил в беспорядке список своих забот шофер.
– Коля, какой кабанчик, какой диплом? Или не видишь, что кругом делается? Я с твоих слов и то сознаю, не до жиру сейчас, – укорил его Яромир. – Шкуру спасать надо. Бери своих в охапку и, как сам говорил не раз, «тикай отседова», точнее «оттудова»! На время, не навсегда! Кабанчик твой и здесь не пропадет. А не хочешь, одна тебе дорога – вступай в какую ни на есть партию, да выбирай, которая посильнее, да погорластее. А там маузер в зубы и вперед.
– Не могу. С души воротит. – Николай скривился, зажег потухшую папиросу, выпустил в морозный воздух голубиное облако табачного дыма. – Откуда только вся эта напасть взялась? Вроде тихо прежде было. Президент в Кремле, правительство в доме Белом, выборы кого надо и когда надо, губернатор – почти приличный человек, в области со дня на день наступления благодати ждали. И на́ тебе! Бога в душу и бабушку в Юрьев день! Переворот за переворотом. Говорят, заговор теневых генералов. Однако я в это не верю. Хоть и простой водила, а тоже не без ума. Кабы генералы, мы бы и горя не знали. Не то ныне у власти одна шушера, и кажный день другая, еще гаже прежней… Ты мужик образованный и в здешнем городе не последний, коли служишь в сторожах. Вот и ответь мне, кой черт послал на головы наши беды тяжкие?
– То, Коля, вовсе не черт. Но истинного виновника я тебе не открою. Пока. Еще прибьешь меня ненароком сгоряча, – печально и жалко улыбнулся ему Яромир. – Ты прав в одном. Я действительно человек сейчас не последний и, думается, кое-что могу. Если сложится все к лучшему, то вспомни и обо мне. Хотя в моем случае, скорее всего, посмертно.
– Загадками говоришь, а сам будто летчик Гастелло. На таран, что ли, собрался идти в ночь? – Николай уставился на инженера несколько испуганно.
– Может, и на таран. Но только не в ночь, – задумчиво произнес Яромир, более адресуясь к себе самому, чем к случайному своему собеседнику. – Ты извини, у меня дело есть. Прощай на добром слове.
– Лучше уж до свидания, – опасливо ответил ему Коля, заерзал на узкой холодной полосе бампера, – я поеду скоро, замерз совсем. – Потом, немного помолчав, добавил, угрюмо, будто решился на что в тайном помышлении: – Ежели помощь потребуется, так я на площади кажный день как штык. Ты имей в виду, и не тушуйся. У меня жизнь тоже одна, и не скажу, чтоб твоей дороже.
Яромир очнулся, когда уже стоял на пороге «Любушки», и вот-вот готов был потянуть на себя затейливо-резную входную дверь в избушку. Ноги сами принесли его куда надо, может, в единственное место, способное разрешить его сомнения в поисках дальнейшего, верного пути. Почему именно Корчмарь? Вовсе не из-за сегодняшнего заступничества демонического бармена в пользу Царя Обезьян, хотя поблагодарить тоже не помешало бы. Сущность Костика, приоткрывшаяся публично на короткий миг, не давала инженеру покоя, словно именно теперь не было ничего важного более, чем ее прояснение. Будто не висели цепями на нем беды и грехи, требующие быстрейшего исправления и раскаяния, но Яромир взял да и подался в «Любушку», спрашивается, зачем? За приданием смысла реальности? Полноте, нужно ли это сейчас? Выходило, что нужно, и даже вперед всего.
Пока шел, думал, оттого не замечал, куда шел. Как же невнятно и странно все получается. Выходит, сила города, могущая помочь, отныне заключена в его слабости, а слабость врагов, наоборот, в их самоуверенной силе. Диалектическое противостояние, из него только и может народиться что-то путное. Дешевая, бездумная бравада – как следствие, идиотское нарушение запрета, вызвали катастрофу, которую не ждал никто. Немедленно зеркальное пространство города Дорог заставило измениться под себя внешний мир, по его, Яромира, вине. Мало того. Процесс, поневоле запущенный в обычном, человеческом бытии, обратно и безоговорочно влиял на город, лишь усугубляя разрушительные стихийные течения. Получался круговорот и мертвая петля, из которой, на первый взгляд, не было исхода.


![Книга Прасковья [СИ] автора Александра Авдеенко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-praskovya-si-172953.jpg)