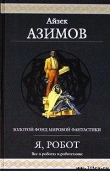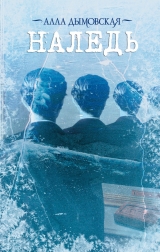
Текст книги "Наледь"
Автор книги: Алла Дымовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Ох, как нехорошо и неправильно! Гость в дом, а в доме Содом! Вы простите меня, тоже с утра в хлопотах. Сейчас же извольте откушать со мной. – Тут заведующий смутился еще более прежнего. – Обширного меню предложить не могу, моя половина имеет недостаток по здоровью, поэтому хозяйство, как вы понимаете, веду я отчасти и холостяцкое. Но простая и сытная еда никому не вредила. Пожалуйте в кухонное помещение. Вместе и соорудим обедец-то. – Большой Крыс вдруг радостно потер руки, видно, принятие пищи в компании редко выпадало на его долю и составляло определенный предмет развлечения и отрешения от каждодневной серости его бытия подле хворой жены.
В качестве простой и сытной еды на стол, при совместных усилиях двух не блещущих кулинарными талантами мужчин, были водружены: щербатая тарелка с двумя сортами сыра – голландский «маасдам» и «особый» производства вологодского молочного комбината, – крупно нарубленный рассыпчатый серый хлеб на доске, вчерашний, но еще не успевший зачерстветь, затем глиняная пиала с засахарившимся медом, и в газете – кольцо задубевшей «одесской» колбасы, которую нарезать не удалось, и оттого решено было попросту ломать в меру надобности на куски. В дополнение, в виде горячего, вскипятили чайник для принятия внутрь растворимого какао «Золотой ярлык». А более в дому Эдмунда Натановича не сыскалось ничего.
Когда первый, зверский, аппетит был удовлетворен, а жидкий какао и засохшая зубодробительная колбаса вкупе с перестарком-медом устали казаться Яромиру приятными на вкус, наступило время для неспешного разговора. До генеральной репетиции в «Ротонде» оставалось еще полчаса, и Яромир думал вполне уложиться в этот достаточный по продолжительности срок.
– Эдмунд Натанович, заранее приношу извинения в плане моей любознательности, – тактично приступил к интересующему его делу инженер, – но снизойдите до разрешения одного затруднения.
– Я весь внимание и к вашим услугам, – охотно откликнулся Большой Крыс, хотя и невнятно произнося слова – виновной была все та же дурацкая колбаса, до отказа заполнившая непрожеванной массой рот бедняги заведующего.
– Вы наверняка уже в курсе вчерашнего события, то есть о моем, можно сказать, историческом походе к редактору Месопотамскому, – начал осторожно Яромир, но закончить не успел.
Эдмунд Натанович с энтузиазмом замахал на него свободной левой рукой, ибо правой как раз изымал при содействии ножа остатки каверзной колбасы, застрявшей в дальнем коренном зубе.
– Не продолжайте, я вас понял… Уф! – Последнее относилось к побежденному колбасному куску, а вовсе не к собеседнику. – Что же, вы, очевидно, хотите знать, кто я такой, заведующий местным клубом Лубянков? Угадал? – Эдмунд Натанович улыбнулся вполне доброжелательно и подмигнул. – У нас, слава богу, от общественности тайн нет. Не то что у некоторых других. – В чей адрес послано было последнее замечание, нетрудным вышло бы догадаться.
– Хотелось бы, да. Из первых рук, – не стал спорить Яромир, тем более что предположение завклубом Лубянкова на его счет являлось безусловно правдивым.
– Правильно, молодой человек. То есть, я хотел сказать, господин сторож. Но позвольте и встречное любопытство. А как вы сами думаете на мой счет? – Кажется, Эмунду Натановичу разговор их представлялся милым и развлекательным занятием, завклубом улыбался хитро и как бы подначивал на домыслы и разнообразные версии своего визави.
– В том-то и дело, что ничего путного я не думаю. Но в уме моем блуждают ассоциации, которые никак не выйдут наружу… Должность ваша странная. Аккордеон, песни, разнообразный репертуар. Вот и Еврипида ставите. А до этого давали в клубе непристойного «Прямодушного». И за женой ходите, как за дитем, без всяких приключений на стороне. У меня в голове не укладывается.
– Это оттого, господин вы мой сторож, что не с того конца изволили начать. А без основания любой вывод стоит не больше сей колбасы. – Эдмунд Натанович ткнул пальцем в измочаленный зубами жалкий остаток. – Предлагаю вам отталкиваться от предметного наименования. Фамилия моя неужто не наводит вас на размышления?
– Фамилия хорошая, такая старорусская. Лубяная избушка, лукошко… Постойте, постойте, – одумался вдруг инженер и замер с открытым ртом. Впрочем, ненадолго. – Вы намекаете на название некоей московской площади, печально известной с новых времен?
– Отчего же намекаю? Прямо говорю. Не скрою, имею отношение к представительству данной организации, но не вполне, – важно произнес завклубом и как-то даже подбоченился. – Не пугайтесь прежде времени. Да и после не стоит. Видите ли, все дело в том…
И Эдмунд Натанович, шмыгая длинным костлявым носом, поведал Яромиру замысловатую и скачкообразную цепь собственных перерождений и преобразований. Еще с той поры, когда он появился на свет во времена «Русской правды», первого свода судебных уложений молодого киевского государства, пришлось ему претерпеть немало мытарств и уродливых перегибов в своей сущности, как и сменить не одно имя и местожительство, пока не укоренился он и не успокоился относительно в городе Дорог. Период Тайной канцелярии и Петровская реформа, опричнина и диктатура пролетариата, все это наложило на Эдмунда Натановича свой неизгладимый отпечаток. В последнее время хоть аккордеоном душу тешил, а каково было во времена балалаек и топорно сработанных гуслей? К роялю и скрипичным инструментам, к сожалению, завклубом никогда способен не был и тяги к ним не ощущал. Зато ныне состоит при интересном деле.
– Так что я, молодой господин сторож, в своем роде представляю как бы установленный для данного общественного, сознательного формирования, его государственный порядок. Но это им там хорошо, в Штандартах Радуги или во Франклиновой Эмпирее. А у нас не то. Известно, в России нет закона, есть столб, а на столбе корона. – Большой Крыс вздохнул, однако без сожалений, а как бы для проформы. – Вот и вышло, ни то ни се. А навроде гибрида. С одной стороны – нормативные уложения, с другой – упомянутая мной организация. Не выкристаллизовалось отдельно в умах, если так доходчивей. Все же вместе взятое это суть я – ваш покорный слуга. Можно, конечно, сказать, что особа Эдмунда Натановича Лубянкова тот самый закон и есть, но не в чистом виде, а уж как получилось. Впрочем, я не жалуюсь. Ни в коем случае.
Состояние ошеломления у инженера постепенно проходило, зато чем долее говорил Эдмунд Натанович исповедальный свой речитатив, тем слабее соображал Яромир о сути происходящего, а под конец и вовсе в голове образовалась натуральнейшая каша из нелепостей и сожалений. Стало быть, вот каким рисуется в его родной стране закон. Бог с ней, с демократией, но пока в умах, передовых и не слишком, реет знак равенства между монументальным сооружением на Лубянской площади и порядкоуложением в государстве, даже и о намеке на прогрессивную социализацию не стоит вести речь. А может, и слава тому же Богу, что не стоит. Яромиру нежданно пришел на память вчерашний разговор с прохиндеем Доктором о государственном мироустроении. В воображении вдруг явились ему картины безликой людской череды, однообразной и равно убедненной в правах. Все по-божески, и вовсе как-то не по-человечески. Может, и вправду, в катаклизмах и есть жизнь? Суровая, обидная, кроваво-несправедливая, но истинная жизнь? Чтобы окончательно не завял человек, в офисной конторе со всеми гарантированными страховками средненького клерка, или в белых, выстроенных, будто солдатики по ранжиру, модных особнячках вдоль вымытых шампунем улиц, или в механических, компьютерами управляемых цехах, где строгость сознания определяется очередностью нажимаемых кнопок. Да и в самих коммуникативных технологиях, в выхолощенном пространстве чистеньких экранов с надуманно приятной реальностью, не имеющей никакого отношения к бытию.
Кто, в конце концов, сказал, что для счастья человек безусловно должен быть сытым и умытым и не бояться завтрашнего дня? Что счастье – это непременно помереть в благоустроенном хосписе с улыбчивыми, полнокровными сестрами и бездушно серьезными врачевателями? Кто сказал, что счастье человека – это закон, не имеющий души, доброй или злой, все равно? Что жить по букве – это правильно, а жить по сущности этой самой жизни – порок и тирания? Ведь что получается. Долой стариков и больных! О них побеспокоится пенсионная программа. Долой сострадание! Всех нищих соберут в уютные работные дома или в благотворительные приюты призрения. Долой подросших детишек из отчих домов! Об их образовании позаботится бюджет, на смехотворной кредитной основе. Долой лишнюю заботу мужа о жене и жены о муже! Читай брачный контракт и будь счастлив, честно выполняя его условия! Долой долг солдата и гражданина! Пускай за край родной платят кровью авантюристы и наемники, а послушный обыватель отчислит двенадцать грошей на военный налог. Долой, долой, долой!
Поменьше самостоятельных хлопот и забот, если можно откупиться по закону. Но если убрать от человека страх внезапной смерти и страх неустроенной жизни, что же останется наяву? Царство Божие на земле, которого он не заслужил, ибо перестал быть милосердным и сострадающим, безжалостным и подлым, героическим и бесстрашным, убогим и трусливым, любящим и жертвенным, корыстным и беспутным. И нужен ли станет Господу ТАКОЙ человек? Серое клише на сером же фоне не умеющих даже платить злом за добро, потому что не понимающих, как это сделать, а приносящих все те же двенадцать грошей за все на свете по мудрому, рукописному закону.
– Что это вы накрепко задумались? – опасливо прервал размышления инженера завклубом Лубянков. – Понимаю, я вас смутил.
– Еще как, дорогой Эдмунд Натанович, еще как! – несколько развязано воскликнул Яромир и вдруг в порыве безотчетного фамильярного свинства поднялся и с явным куражом поцеловал изумленного клубного заведующего в самую макушку. – Смущайте дальше, пожалуйста! Только вы будьте!
– Куда я денусь. – Польщенный, Большой Крыс нарочно уперся взглядом в стол. Но как-то после помрачнел, худое лицо его, нездоровой смуглой желтизны, вытянулось еще больше. – Я догадываюсь, кажется, о чем вы думаете. Это мое свойство, как и любой иной универсалии, – ловить и отражать человеческие мысли. Но вы не все знаете.
– Так откройте мне полноту картины, – несколько в шутку предложил Яромир, намекая на возможность продолжения откровений.
Эдмунд Натанович задумался. Посмотрел сначала отчужденным взором на изгрызенную колбасу, потом за окошко через улицу и, наконец, в потолок.
– Что же, как вам будет угодно. Но предупреждаю, любое открытие меняет внутренний мир в безвозвратную сторону. Так не лучше ли вам остаться с чем есть?
– О да, Соломонова мудрость: «кто умножает знание, тот умножает скорбь». Ничего, как-нибудь переживу? – успокоил заботливый порыв Лубянкова инженер.
– Переживете, безусловно. Но не захотите ли в свою очередь закричать «Долой!»? – как бы процитировал завклубом собственные мысли Яромира.
– Не беспокойтесь, это вряд ли. – Яромир усмехнулся, хотя и сделалось ему отчасти тревожно в ожидании. – Я вас слушаю.
– А я ничего пока говорить не собирался. Сначала извольте пожаловать за мной, господин заводской сторож, – официально пригласил Эдмунд Натанович своего гостя, встал и направился прочь из кухни. – Только держитесь возле меня, совсем поблизости, – предупредил он на неизвестный пока случай.
Они подошли к третьей двери, последней, которая налево. Лубянков осторожно повернул округлую ручку, петли предупреждающе или предательски – это пока было неизвестно – взвизгнули, из образовавшегося зазора выскользнул наружу глухой и скрипуче-протяжный женский голос:
– Муня, это ты? – И далее, кажется, последовал болезненный всхлип.
– Я, милая, я. Не беспокойся заранее, но со мной один товарищ из клубной самодеятельности, начинающий актер. Пришел справиться о твоем здоровье и отдать, так сказать, визит вежливости. С твоего позволения, мы войдем?
Все это время, пока Эдмунд Натанович произносил свою «входную» реплику, оба они, и завклубом, и Яромир, продолжали стоять возле приоткрытой двери, не предпринимая никаких самовольных попыток проникнуть внутрь.
– Хорош-о-о, – с раскатистым вздохом разрешил голос, – только ненадолго.
– Что ты, милая! Мы на одну секундочку. Товарищ поздоровается, скажет несколько ободряющих слов и сразу же уйдет. А я, милая, дам тебе снотворное, чтобы ты могла сладко спать до ужина, – пообещал Эдмунд Натанович с порога.
Яромир вошел следом в семейную спальню. Душная, лишенная простора, комната, сильно заставленная разнообразной и неподходящей друг к другу мебелью. Этажерка, тумбочка, массивное трюмо, круглый приземистый столик, еще одна тумбочка с чередой лекарственных пузырьков на полке, торшер на три плафона, переносной красный телевизор на подставке, пара мягких стульев, пуфик, танкетка с небрежно брошенным поверх шерстяным пледом. И в апогее всего – обширная двуспальная кровать (ореховое дерево, покрытое лаком), напоминающая броненосец, опасливо пробирающийся по Суэцкому каналу среди нарядных крошечных пакетботов.
В спальне висел дымчатый полумрак, неясность и скудость освещению придавали задернутые наполовину густо-фиолетовые шторы, тяжелые бархатные складки, копившие ничем не истребимую пыль, печально покачивались на воздушной волне, влившейся в комнату следом за пришельцами.
– Вот, милая, познакомься, наш заводской сторож, а по совместительству нынче исполнитель роли царя Адмета в моей постановке, я тебе рассказывал, помнишь? – нежным, вкрадчивым голосом, словно поворачивая на языке бесценный бриллиант и опасаясь проглотить, представил Эдмунд Натанович гостя.
– Меня зовут Яромир, просто, без отчества. – Инженер в знак почтения к хозяйке дома, пусть и болящей рассудком, склонил учтиво голову.
Одновременно и украдкой он старался рассмотреть женщину, лежавшую под оранжевым стеганым одеялом среди пышных и разноразмерных подушек в огромной кровати. На тяжелобольную она не слишком была похожа, хотя и до здоровья ей казалось куда как далеко. И дело заключалось вовсе не в виде внешне-телесном, хозяйка дома не производила впечатления изнуренной худобой страдалицы, напротив, некая переполненность силой и соками жизни наблюдалась во всех ее движениях, даже излишняя тревожная резкость присутствовала в них. Яромир подумал бы, пожалуй, что госпожу Лубянкову удерживает в постели ее собственная прихоть и притворство, если бы не поймал случайно прямой взгляд ее горящих иссиня-черных глаз. И в то же время не посмел бы он отрицать – во всем облике этой женщины, несмотря на безумно скользящий взор, читалось несомненное благородство черт, правильных и резких, что особенно вступало в диссонанс с неустойчивым ее душевным состоянием. До сей поры инженеру ни разу в его жизни, которую он довел уж до середины, не приходилось в реальности сталкиваться с людьми душевнобольными или хотя бы отчасти находившимися в умственном расстройстве. Но сейчас, как бы то ни произошло, он мог с уверенностью определить – жена гостеприимного Эдмунда Натановича не в себе. Причем настолько, что «в себе» скорее всего никогда и не будет.
– Белла Георгиевна, – в свою очередь представилась женщина, приподнявшись рывком над подушками, жеманным жестом протянула Яромиру руку для поцелуя.
Инженер ткнулся губами в перстень с рубиновым камнем на ее среднем пальце, будто рыцарь у постели дамы сердца, только у дамы при этом было такое неприятно плотоядное выражение лица, что растерянному визитеру стало совсем уж не в своей тарелке. «Буйная», – подумал он про себя и поспешил отступить, как был в полупоклоне, на шаг назад от кровати. Нехороший страх, зародившийся под ложечкой, неуклонно подползал к самому горлу инженера, ему даже показалась на миг, что безумная женщина тигрицей в любую минуту может кинуться на него. Хорошо еще, Эдмунд Натанович стоял рядом и зорко наблюдал за всей сценой знакомства. Но вдруг жена его взмахнула целованной ручкой перед лицом Яромира, откинула голову назад – по подушке рассыпались черные с серебром волосы – и дико, будто ржущая кобылица, захохотала, опалив пространство вокруг себя безумным огнем невидящих глаз.
Не помня как, но Яромир очутился опять в коридоре, на знакомом ему высоком табурете, и подле него со стаканом воды хлопотал Эдмунд Натанович.
– Выпейте непременно, не из-под крана, я открыл для вас бутылку с газировкой, – уговаривал Большой Крыс инженера и одновременно махал на него носовым платочком. – Возьмите стакан, а я сбегаю пока и дам Беллочке снотворное.
Яромир вялым жестом принял из его рук посуду, машинально отпил глоток воды, потом еще и еще, затем залпом выдул пузырящуюся жидкость до дна. Он ничего не думал об увиденном в спальной комнате, да и не хотел, так было ему страшно. Хотя конкретный предмет этих своих страхов Яромир обозначить не мог. Вряд ли ненормальная жена Лубянкова бросилась бы преследовать его по дому, да и вообще инженеру ровным счетом ничегошеньки не угрожало. Ни косвенно, ни непосредственно. Но сам грозный, безумствующий смех стоял в его ушах, как будто продолжал свой полет, и звуки его не рассеивались, а наоборот, возвращались эхом вновь и вновь, и Яромир тоже становился одержимым ими. Пришлось взяться за голову и заткнуть обеими ладонями посильнее уши, но это помогло мало, смех, словно оказавшись в ловушке, преобразился теперь в некоторое болезненное ощущение, которое происходит от резкого перехода в звенящую тишину.
Хорошо, что вскоре возвратился Эдмунд Натанович. Он увел затосковавшего было на табурете инженера в соседнюю кухню, усадил поудобнее, налил заботливо остатки холодного какао.
– Как вы теперь понимаете, это и есть моя пара на веки вечные. По крайней мере, на очень длительное время, – сообщил ему Большой Крыс, однако без всякой патетической надорванности. – Вы только не подумайте худого. Беллочку я сильно люблю и еще больше жалею. Видите ли, если бы нездоровье ее было следствием умышленной порочности или ошибок, допущенных в далекой молодости! Но нет. Беллочка ни в чем абсолютно не виновата. Такой уж родилась она на свет.
– Месопотамский предупреждал меня о чем-то в этом же роде. Универсалии не причины несчастий, они лишь отражение и следствие. Но может, со временем человек одумается и представит совместно в разуме своем нечто благое и хорошее, и ваша жена поправится, и вам не придется мучиться из-за нее? – произнес какие мог слова утешения Яромир.
– Беллочка не поправится. А если человечество станет лучше, по вашему предположению, то она попросту умрет. Но оно не станет, в этом смысле уж точно, уверяю вас. Ибо сущность моей бедной жены лежит гораздо глубже, чем в обычном отражении общественного разума. Она идет от самой природы человека, изменить которую можно единственно насильственным способом извне. – Эдмунд Натанович вовсе не жаловался, а будто бы читал инженеру скучную проповедь по давно опостылевшему поводу. – Вы неужели не догадались даже теперь, какое именно понятие представляет здешнее бытие моей жены?
– Возможно, милосердие? – ляпнул Яромир из лучших побуждений и сразу же понял, что ляпнул, не подумав, зря. Разве милосердие пугает до такой степени, чтобы визитер, не помня себя, улепетывал прочь из спальни болящей дамы?
– М-да, – замялся от неудобства Эдмунд Натанович, видимо, Яромир своим недалеким выводом заметно усложнил ему задачу откровения. – Беда только, что законы с милосердием под руку не ходят. А вот она – всегда верная спутница.
– Да кто она? – теперь чуть не плача спросил инженер.
– Именований у нее много, какие поблагородней, какие и через проклятие, все зависит от времени. Были ведь и у моей Беллочки относительно благополучные годы, но очень недолго. – Большой Крыс вертел в руке пустую кружку, будто о чем-то вспоминая. – Так вот. Если говорить коротко: ВОЙНА.
Яромир изумился на какой-то миг, но тут же и укорил себя за недогадливость. С иной стороны, кому охота загадывать о ТАКОЙ сущности? Для инженера слово это относилось скорее к проклятиям, какого бы рода оно ни было. Хоть за отечество, хоть за пролетариев всех стран, а слово это нехорошее. И уж тем более верно судил Большой Крыс, из природы человека его не вытравишь, даже если выстроить всех разом в одну шеренгу и лупцевать дубиной по головам. И спекуляции на нем самые страшные оттого, что все без исключений самоубийственные. Беллу Георгиевну тоже выходило инженеру жаль. Надо же уродиться на свет в безумном облике, а иного и быть не могло, и выздоровление здесь невозможно: или жить без разума, или умереть. Жуткая дилемма.
– «Ротонду» пора открывать, – тактично прервал Большой Крыс переживание Яромиром неосязаемых очередных откровений. – Генеральная репетиция штука наисерьезнейшая. Уж вы соберитесь с силами, роль хорошая – обидно выйдет, коли провалитесь. О Беллочке моей довольно вам беспокоиться. Все равно, ничего тут поделать нельзя. А если ничего поделать нельзя, то пропустите мимо себя и забудьте, как не было, – искренне посоветовал Яромиру завклубом Лубянков.
За расшитым блестками суконным занавесом гудел набитый битком зал. Яромир, в полном гриме и в костюме – подвязанная рыжая борода, того же цвета лохматый поролоновый парик, деревянные котурны, надетые на белые с резинкой «чешки», хламида из негнущейся синтетической парчи, да на боку кухонный нож, выкрашенный блестящей эмалевой краской, призванный изображать драгоценный кинжал, – выглянул в специально прорезанный для наблюдения «глазок». Инженер заметно волновался, да и как иначе, сегодня впервые выходил он на сцену, если, само собой, не считать детсадовского исполнения роли мальчика-с-пальчика и участия в сводном школьном хоре. Поджилки тряслись, ладони потели, текст полностью улетучился из головы – даром с Хануманом неделю зубрили ночи напролет. Одно спасение, усердный Лука Раблезианович уже занимал место в суфлерской будке, осанисто крякал, раскладывал поудобнее листы с пьесой согласно порядку действия.
С дворником Мефодием тоже все обошлось, нынче бузотер валялся в стельку пьяным в теплой подсобке распивочной «Мухи дохнут!», на всякий случай Яромир подле его особы поставил еще полную чекушку и тарелку с вареной колбасой, вдруг неугомонный проснется. Помощник его Кирюшка гордо восседал в первом ряду на приставном стуле, Яромир хорошо видел его курносую, веснушчатую мордашку в «глазок». На Кирюшку можно было в любом случае рассчитывать, за бесплатную контрамарку славный парнишка готов кричать «Браво!» любому статисту у задника, а не то что начинающему исполнителю одной из главных ролей.
Тут Яромира окликнули. Симпатичная кудрявая девушка Марина, эта уж точно из человеческих, нормально рожденных от папы и мамы существ, парикмахерша из «Болеро», к слову сказать, замечательный мужской мастер. Невесть как заехала Марина в город Дорог, по ее собственному утверждению, спешила к жениху в Глуховск, в военный гарнизон, но так и не добралась ни до жениха, ни до гарнизона, а нечаянно ошиблась в выборе направления, увидала вывеску на парикмахерской, дескать, требуется, – и вот результат, второй год уж здесь, сегодня играет царицу Алкесту. Досужие языки утверждали, будто бы собирается Марина замуж за директора «Продмага № 44» Фиму Степанчикова, вот он, стоит тут же, в костюме героя Геракла: вызолоченные фанерные латы, офицерские высокие сапоги, перевитые разноцветными веревочками, на голове шлем из папье-маше с петушиным гребнем.
Фима был единственный в городе достопримечательный человек, попавший на свою должность по областному назначению. «Продмаг № 44», открытый бог весть по какому капризу еще в хрущевские времена, а после долго стоявший заброшенным, внезапно вдруг всплыл на балансе губернских ведомостей как живая государственная собственность, полностью забытая за давностью лет. Дураков ехать в заштатный город Дорог в области не нашлось, сыскался один Фима. Ему и поручили назначение. Исправно каждый месяц Степанчиков отправлял почтой в торговое управление скудную выручку и налоговый отчет, который, кажется, в области даже и не открывали, тем дело обычно и заканчивалось. Ни тебе обязательных ревизий, ни тебе внеплановых проверок.
У Фимы Степанчикова сложилось даже такое впечатление, будто бы про него и его «Продмаг № 44» в области опять исправно позабыли, и вздумай Фима и вовсе замотать выручку и отчет, мало кого сие обстоятельство привело бы в беспокойство. Таковы уж были особенности города Дорог – пропадать с глаз долой и из зоны начальственного внимания. Теперь Фима торговал фасованным печеньем и развесной халвой, колбасами – куском и в нарезку, молочными сосисками и лицензионным стиральным порошком, в общем, превратил свой «Продмаг № 44» в стандартный супермаркет низкого пошиба, да в придачу спекулировал на вывоз картофелем и разнообразными овощами, скупленными у местного населения с огородов. Еще бы, по вечной осени у горожан не переводились тыквы и кабачки, белая, упругая, без единого изъяна картошка, поздние помидоры в теплицах, при том, что никто и не думал высаживать рассаду, да и не было весны, а на огородах росло как-то все само, будто по щучьему велению. В общем, все это отступление рассказано по случаю, чтобы дать понять – Фима Степанчиков слыл человеком обстоятельным, по городским меркам сильно зажиточным, и с ним парикмахерша Марина никак бы не прогадала. Где гарнизонный прапорщик, пусть и старший, а где оборотистый заведующий «Продмагом № 44»!
Однако пора было начинать. Эдмунд Натанович в третий и в последний раз затряс звонким медным колокольчиком, подавая сигнал к атаке на зрителя, и поспешно убежал занимать свое место подле аккордеона на предмет музыкального сопровождения пролога. Занавес рывком поднялся.
На протяжении всего лицедейства Яромир старался, как мог. Одним ухом ловил подсказки от суфлера, другим – реплики сценических партнеров, несколько раз хватался и за кухонный нож, изображая страдания отца семейства, будто бы намеревавшегося убить себя, хотя по плану пьесы этого напротив никак не полагалось. Но раз уж нож оказался ему придан, не годилось, чтобы все действие холодное оружие провисело просто так. Собственно царь как персонаж не был Яромиру приятен. Корыстная мелкая душонка, спрятавшаяся за бабью юбку, ему, видите ли, о пропитании деток заботиться надо! А ни в чем не повинная женщина, то бишь царица, должна за него отдуваться и спускаться в обитель мертвых вместо трусливого муженька. Хорошо, еще герой Геракл мимоходом подвернулся, заборол бога смерти Танатоса, освободил несчастную Алкесту. Так этот Адмет хоть бы ему копейку какую паршивую дал или, к примеру, коня подарил. Как же, пообещал дружбу на веки вечные, и то много не прогадал, герой отправлялся на очередной подвиг, а вернется живой или нет, еще вопрос. В общем, царь Адмет никак Яромиру не нравился.
Как раз мимо инженера, ожидавшего за кулисой финальной картины, пронесся со сцены побежденный демонический купидон Костик, он же бог Танатос, в черной шелковой накидке с намалеванным поверх белым человеческим скелетом. Костик зашипел, замахал на партнера обеими руками, мол, не стой на дороге – твой заключительный выход, и нечего на пустом месте раздумывать.
Пришлось выходить, как говорится, на морально-волевых, от перевозбуждения случилось расстройство в эмоциях, ко всему прочему Яромир страшно опасался – а как не станут хлопать в конце? Но напрасно он расстраивался заранее. Хлопали, дай бог каждому: застрельщиком, посреди первого ряда, плюхал ладошкой о ладошку сам мэр Волгодонский, отчего-то выкрикивая с традиционным рефреном не имеющее отношения к действу загадочное слово «Упряжь, упряжь!». Яромир потом только разобрал, вовсе никакая не упряжь, а «ву руж», на французском языке после совокупления оного с нижегородским, вдобавок с плохим произношением и скороговоркой. Очевидно, в качестве изящного комплимента Ахмет Меркулович имел в виду вовсе не «руж», что означало красный, а скорее прекрасный, тогда следовало ему кричать «шарман», чтобы получился хоть какой смысл. Но Яромиру, несмотря ни на что, было приятно.
Домой инженер явился за полночь, на выяснение отношений с блядовавшей Нюшкой у него не осталось ни сил, ни желания, да и какой в подобном выяснении смысл? С другой стороны поглядеть, что и каким образом ни делается – оно к лучшему. Следующий день, вплоть до рабочих часов, Яромир намеревался потратить в усердии на раздумья и добросовестное осмысление всего услышанного за последние двое суток, и если получится, то и придать собственное значение произошедшим с ним событиям.
Поутру, получив свой завтрак и в придачу бездну заискивающих тщетно-нежных взглядов от негодницы Нюшки, снова нацепившей на свою безнравственную особу перья марабу, поверх велюрового капота тошнотворного цвета насыщенно разведенной марганцовки. Ну и черт бы с ней! Покончив с киселем, Яромир повелел себя не беспокоить, давая ясно понять, что все еще дуется, и дуться намерен долго, с тем и ушел в свою комнату. Лег на кровать поверх кружевного покрывала, телевизор, однако, включать не стал. При одном только мысленном упоминании любых военных действий у него начиналась теперь великая чесотка. Стало быть, голубой экран на неопределенный срок отпадал. Но к раздумьям требовался непременно фон, просто глядеть в потолок на неуместно-дворцовую люстру инженера удручало. Пришлось встать с кровати и подойти на разведку к окошку, но и там ничего путного узреть не довелось – хряк Мавритан чесался о развесистую грушу, надрывно хрюкал и харкал, чем наводил на размышления, обратные благочестивым. Осатаневший от непонимания окружающего его мира, инженер, ругаясь, выскочил на двор, едва Лисичка-Нюшка успела накинуть ему на плечи дождевик, но как был он в домашних войлочных тапочках, так и остался. Впрочем, пока, в первом порыве раздражения, это не ощущалось неудобством.
У боковой межи, где каменный забор переходил в жиденькое ограждение едва по пояс, на своем участке копался с ржавыми кусками проволоки почтмейстер Митя. Для установления равновесия чувств Яромир подошел к соседу насколько мог ближе и завел необязательный разговор через разделявшую их преграду.
– Хороши вы были вчера в клубе, – похвалил его словно невзначай Митя. – Эмоционально играли, симпатично.
– Куда там, играл! Переигрывал! – честно признался ему Яромир. – Один нож чего стоил. Какого лешего вообще его привесили? Руки, знаете ли, так и горели, чуть что, уж и хвать! А дальше с сим импровизированным кинжалом надо же было что-то делать? Вы меня понимаете? Наверное, и самому доводилось представлять в клубе у Эдмунда Натановича?


![Книга Прасковья [СИ] автора Александра Авдеенко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-praskovya-si-172953.jpg)