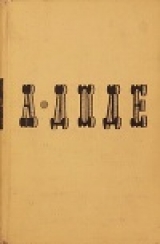
Текст книги "Нума Руместан"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
XX. КРЕСТИНЫ
Базарный день – самый важный в Апсе – приходится на понедельник.
Задолго до рассвета на дорогах, ведущих к городу, на больших, безлюдных дорогах – Арльской и Авиньонской, где слой белой пыли обычно неподвижен, словно только что выпавший снег, начинается движение и шум: скрип повозок, кудахтанье кур в дощатых клетках, лай бегущих вдоль обочины собак, подобный ливню топот овечьего стада, над которым, словно на гребне вздымающейся волны, колышется длинная рубаха пастуха. Тяжело дыша, спешат за своими волами и кричат на них погонщики, раздаются глухие удары дубин по шероховатым бокам скотины, вырисовываются очертания всадников, вооруженных трезубцами, и все это вливается в городские ворота, своими зубчатыми башнями вонзающиеся в звездное небо, все это растекается по широкому Городскому кругу, опоясывающему спящий город, который в это время суток вновь обретает черты древнего римского или сарацинского города с неровными крышами, с остроконечными, забранными мелкой решеткой оконницами над выщербленными и расшатанными каменными ступенями лестниц. Вся эта смутно кишащая в темноте масса людей и животных без особого шума располагается между серебристыми стволами огромных платанов, выплескивается на полотно дороги, во дворы ближних домов, и от нее плывут теплый запах подстилки, сладкий дух трав и спелых плодов. И, проснувшись поутру, город видит, что им завладел рынок – громадный, оживленный, шумный, словно ночное наводнение подняло и прибило сюда весь сельский Прованс – людей, скот, плоды, зерно.
И тогда взору открывается чудесное, меняющееся в зависимости от сезона зрелище богатств земли. В местах, предназначенных для этого по обычаю незапамятной давности, на лотках или прямо на земле грудами, скирдами громоздятся в несметном количестве апельсины, гранаты, золотистая айва, рябина, зеленые и желтые дыни, стоят большие дорожные корзины, наполненные доверху персиками, инжиром, виноградом, и тут же рядом – мешки с овощами. Барашки, козлята, шелковистые розовые поросята со скучающим видом выглядывают из-за ограды своих загонов. Волы – по двое под одним ярмом – выступают впереди своего покупателя; быки с дымящимися ноздрями стараются оторваться от железного кольца в стене, к которому они привязаны. Подальше – лошади, некрупные камаргские лошадки выродившейся арабской породы, подскакивают, машут своими темными, белыми или рыжими гривами, бегут, заслышав свое имя: «Люцифер!.. Эстерель!..», – поесть овса из рук погонщиков, этих настоящих гаучо южноамериканских пампасов, в сапогах выше колен. Потом домашняя птица – куры и цесарки, связанные по две за свои красные лапки: они лежат у ног усевшихся в ряд продавщиц и бьют крыльями о землю. Потом рыбные ряды: живые угри на подстилке из укропа, форель из Сорги и Дурансы, она умирает в радужных переливах своей чешуи. Наконец, совсем в отдалении, сухим зимним лесом торчат между плугами и боронами деревянные лопаты, вилы, грабли, белея еще свежим деревом, с которого только-только содрали кору.
По ту сторону Городского круга, у крепостной стены, выстроились распряженные повозки двумя рядами дуг, брезентовых верхов, высоких остовов, запыленных колес. В свободном пространстве между торгующими рядами и повозками толчется толпа народа, с трудом передвигаясь в тесноте: все окликают друг друга, торгуются, спорят с самыми разными акцентами – провансальским, утонченным и жеманным, который словно требует быстрых движений головой и плечами, оживленной мимики лица, лангедокским, более твердым, жестким, с почти испанской артикуляцией гласных. Время от времени весь этот водоворот фетровых шляп, арльских или венсенских чепцов, вся толчея покупателей и продавцов раздвигается от криков возницы с запоздавшей двуколки, которая может двигаться только шагом, с величайшим трудом пробиваясь сквозь толпу.
В этой толпе очень мало горожан – они полны презрения к вторжению деревенщины, хотя оно способствует и благосостоянию города и его живописности. Крестьяне с утра до вечера бродят по улицам, останавливаются у мастерских шорников, сапожников, часовщиков, смотрят, как на башне ратуши механический человечек отбивает часы, разглядывают витрины магазинов, восхищаются позолотой и зеркалами многочисленных кафе, как восхищались пастухи Феокрита дворцом Птолемеев. [48]48
Птолемеи – династия царей эллинистического Египта (IV–I века до н. в.). Доде допускает неточность: роскошью дворца Птолемеев в XV идиллии Феокрита любуются не обычные герои этого поэта – пастухи, а две городские кумушки.
[Закрыть]Одни выходят из аптек, нагруженные свертками и большими бутылками; другие – целая свадебная процессия – заходят к ювелиру, чтобы после искусного торга остановить свой выбор на серьгах с длинными подвесками или шейной цепочке для невесты. Жадная деловитость этих покупателей, их загорелые дикие лица, грубая одежда – все наводит на мысль о каком-нибудь городе в Вандее, захваченном шуанами во время гражданской войны.
Нынче утром, в третий понедельник февраля месяца рынок был особенно оживлен, народу на рынке было не меньше, чем в самые погожие летние дни, о которых напоминало уже пригревавшее солнце в безоблачном небе. Люди собирались кучками, разговаривали, размахивали руками, но речь шла не столько о купле-продаже, сколько о неком событии, из-за которого и торговля шла вяло: все взоры, даже большие глаза быков, даже чуткие уши камаргских лошадок были обращены к церкви св. Перпетуи. На базаре распространился вызвавший необыкновенное волнение слух, будто сегодня крестят сына Нумы, маленького Руместана, который родился три недели тому назад – весть о его появлении на свет встречена была с живейшей радостью в А псе и на всем провансальском Юге вообще.
К сожалению, крестины, задержавшиеся из-за траура в семье, должны были по тем же соображениям благопристойности происходить без всякой огласки и связанного с ней шума. И если бы о них не пронюхали старые колдуньи на Бо, которые рассаживаются каждый понедельник на ступенях церкви св. Перпетуи, предлагая покупателям душистые травы и ароматичные сушеные лекарственные растения, собранные на склонах Альпин, церемония крестин так и прошла бы никем не замеченной. Завидев остановившуюся у главного входа в церковь карету тетушки Порталь, старые торговки травами оповестили продавщиц чеснока, обходивших весь городской круг с висевшими у них на руках лоснящимися тяжелыми четками из чесночных головок. Те предупредили торговок рыбой, и вскоре улочка, ведущая на церковную площадь, отсосала с рынка почти всю шумевшую там толпу. Народ тесным кольцом окружил Меникля, а тот в траурной ливрее с черными креповыми лентами на рукаве и на шляпе, приосанившись, восседал на козлах и на все расспросы молча и равнодушно пожимал плечами. Тем не менее все упорно чего-то ждали: под коленкоровыми полотнищами, протянутыми поперек торговой улицы, любопытные теснились и давили друг друга, смельчаки взбирались на тумбы, все взоры были устремлены на двери главного входа, и наконец она отворилась.
Раздалось громкое «ах!», торжественное, четкое, какое можно услышать во время фейерверка. Однако оно сразу же замерло, как только из церкви вышел высокий старик в черном – вид у него был удрученный, крестному отцу не подобающий. Он вел под руку г-жу Порталь, гордую тем, что она стала кумой первого председателя апелляционного суда и что теперь их имена записаны рядом в церковно-приходской книге, но тоже опечаленную недавним, грустным событием и печальными воспоминаниями, навеянными этой церковью. Толпа была явно разочарована при виде этой невеселой пары, за которой следовал, тоже в черном сюртуке и в черных перчатках, великий гражданин Апса, продрогший от безлюдья и холода на крестинах в церкви, которую освещали четыре свечи и где хор и орган заменял отчаянный крик младенца, ибо латинские фразы, произносившиеся во время таинства, и святая вода, которой полили его темечко, как у ощипанного птенца, произвели на малыша крайне неприятное впечатление. Однако, когда появилась дебелая кормилица, мощная, грузная, до того разукрашенная лентами, что казалось, ей только что выдали премию на сельскохозяйственной выставке, и когда все увидели сверкающий белизной, вышитый, утопающий в кружевах конвертик, который свисал у нее через плечо на ленте и который она поддерживала обеими руками, уныние зрителей рассеялось. Толпа снова издала такой крик, словно в небо взлетела ракета, и этот радостный гром тотчас же рассыпался бесчисленными восторженными восклицаниями:
– Lou vaqoi!Вот он!..
Пораженный этим столпотворением, Руместан остановился на высокой паперти, жмурясь от яркого солнца, и с минуту разглядывал эти смуглые лица, эту густую, черную, волнующуюся толпу, от которой к нему поднимался порыв исступленной любви. И хотя он давно привык к овациям, сегодняшняя оказалась одним из самых сильных моментов в его жизни – жизни общественного деятеля; он ощущал горделивое упоение, облагороженное новым для него и уже радостно трепещущим в нем отцовским чувством. Он хотел было обратиться к толпе с речью, но потом решил, что паперть – место для этого не подходящее.
– Садитесь, няня… – обратился он к спокойной бургундке, которая смотрела на толпу широко открытыми от изумления глазами, как у молочной коровы, и пока она залезала со своей легкой ношей в карету, он дал Мениклю распоряжение ехать домой кратчайшим путем. В ответ раздался мощный хор протестующих голосов:
– Нет, нет!.. По Городскому кругу!.. По Городскому кругу!
Это означало, что надо ехать вдоль всего базара.
– Ладно, по кругу, так по кругу! – сказал Руместан, переглянувшись с тестем, которого он хотел избавить от буйного веселья толпы, и карета, тяжко кряхтя всем своим старым остовом, двинулась по церковной улице, потом свернула на Городской круг под громогласное «ура!» народа, который разжигал себя своими же собственными криками и в буйном порыве восторга мешал двигаться и лошадям и колесам. Карета с опущенными стеклами следовала среди приветственных кликов, поднятых шляп, развевавшихся в воздухе носовых платков и время от времени налетавших теплых запахов рынка. Женщины прижимались горячим бронзовым лбом к окну кареты и, разглядев только чепчик малыша, восклицали:
– Ах ты господи, какой красавец!..
– Вылитый отец, а?
– Такой же бурбонский нос и та же обходительность…
– Ну покажись, ну покажись! Ведь ты уже настоящий мужчина.
– Хорошенький, словно яичко!..
– Малюсенький – в стакане с водой проглотишь!..
– Сокровище ты мое!..
– Птенчик!..
– Ягненочек!..
– Цыпленочек!..
– Жемчужинка!..
И они обволакивали его, облизывали черным пламенем своих глаз. А младенец нисколечко их не боялся. Разбуженный шумом, он лежал на подушке с розовыми бантами и смотрел своими кошачьими глазками с расширенными неподвижными зрачками. В уголках его ротика белели капли молока. Он был совершенно спокоен, ему, видимо, нравились лица, заглядывавшие в карету, и все усиливавшиеся крики, к которым вскоре примешались блеянье, мычанье, визг животных, охваченных нервным возбуждением и потребностью подражать людям: они вытягивали шеи, открывали рты, разевали пасти во славу Руместана и его отпрыска. Даже в тот момент, когда сидевшие в карете взрослые затыкали себе уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки, крошечный человечек проявлял полнейшую невозмутимость, и его хладнокровие развеселило даже старого юриста.
– Он просто рожден для форума!.. – заметил г-н Ле Кенуа.
Взрослые надеялись, что, миновав базар, они избавятся от толпы, но она неотступно следовала за ними, и в нее вливались ткачи с Новой улицы, плетельщицы, носильщики с улицы Бершер. Торговцы выбегали на пороги лавок, балкон Клуба Белых наполнялся народом, вскоре на прилегающих улицах показались члены хоровых кружков со знаменами, послышалось пение, заиграли фанфары – совсем как по случаю приезда Нумы, только сейчас все было веселее и непосредственнее.
В самой лучшей комнате дома Порталей, в которой белые панели и шелковая обивка с орнаментом в виде языков пламени насчитывали не меньше ста лет, сказали, вытянувшись на шезлонге и беспрестанно переводя взгляд с пустой колыбели на пустынную, залитую солнцем улицу, с нетерпением ждала, чтобы ей поскорей вернули ребенка. По тонким чертам ее бескровного лица с явными следами изнеможения и слез, но и с печатью блаженного успокоения, можно было прочесть историю ее жизни за последние несколько месяцев – разрыв с Нумой, смерть Ортанс и, наконец, рождение ребенка, которое сразу все сгладило. Когда ей дано было это величайшее счастье, она на него уже не рассчитывала – слишком много ударов пришлось ей перенести, и она уже считала себя неспособной произвести на свет живое существо. В последние дни беременности ей даже стало казаться, что она больше не ощущает в своем чреве нетерпеливых толчков маленького пленника. И она из суеверного страха прятала подальше и колыбель и уже готовое приданое для новорожденного, показав тайник только прислуживавшей ей англичанке: «Если у вас спросят одежду для ребенка, вы будете знать, где она находится».
Долгие часы терзаться на ложе пыток, стиснув зубы и закрыв глаза, каждые пять минут издавать душераздирающий крик, от которого никак не удержишься, смиряться с участью жертвы, которая должна дороге платить за любую радость, – все это еще ничего, если в конце испытаний тебе сияет надежда. Но если ждешь величайшего разочарования, последней муки, когда к почти животным крикам женщины должны примешаться рыдания обманутой в своих надеждах матери, – какая это ужасная пытка! Полумертвая, окровавленная, она, теряя сознание, все повторяла: «Он мертвый… мертвый…» И вдруг услышала пробу голоса, первый крикливый вздох, первый призыв к свету, который вырывается у рождающегося ребенка. И с какой переливающейся через край нежностью она ответила на голос ребенка:
– Малыш ты мой!
Он был жив. Ей принесли его. Оно принадлежало ей, это крошечное существо, еще не умевшее глубоко дышать, ничего не смыслившее, почти слепое. Этот комочек плоти вновь привязывал ее к жизни, и ей стоило только прижать его к себе, чтобы весь лихорадочный жар ее тела растворился в ощущении целительной свежести. Нет больше ни скорби, ни горестей! Вот он, ее ребенок, ее мальчик, – она так хотела его, так тосковала о нем целых десять лет, из-за него глаза ей обжигали слезы, едва она бросала взор на чужих детей, – вот он, малыш, которого она заранее целовала, так часто целуя другие розовые щечки! Он был тут, с ней, и она заново переживала и восторг и удивление каждый раз, когда, лежа, наклонялась над колыбелькой и раздвигала кисейный полог над неслышно дышавшим во сне, зябко съежившимся новорожденным., Ей не хотелось расставаться с ним ни на одно мгновенье. Когда его выносили на прогулку, она беспокоилась, считала минуты, но никогда еще не испытывала такой тревоги, как нынче, в день крестин.
– Который час?.. – спрашивала она ежесекундно. – Как они там долго!.. Господи, когда же наконец!..
Оставшаяся с дочерью г-жа Ле Кенуа успокаивала ее, но сама тоже беспокоилась, ибо этот внук, первый, единственный, стал бесконечно дорог сердцу бабки и деда, стал лучом надежды в их трауре.
Отдаленный шум, который, приближаясь, превращался в рокот, еще усиливал тревогу женщин. Кто-то подходит к окну, прислушивается. Песни, стрельба, крики, колокольный звон. Наконец, англичанка, выглянув на улицу, пояснила: – Сударыня! Это же крестины!..
Да, этот шум, как во время мятежа, этот вой людоедов вокруг столба пыток – это и были крестины.
– О Юг. Юг! – в ужасе повторяла молодая мать. Она боялась, как бы в восторженной суматохе не придушили ее малыша.
Но нет! Вот он, живой, великолепный, вот он размахивает ручонками, таращит глаза, на нем длинное крестильное платье, на котором Розали сама вышивала фестоны, к которому пришивала кружева, – платьице того, не родившегося первенца.
И сейчас у нее два мальчика в одном, оба – и мертвый и живой – принадлежат ей.
– За всю дорогу он хоть бы раз крикнул, хоть бы раз потянулся к груди, – объявляет тетушка Порталь и в свойственной ей живописной манере начинает рассказывать о триумфальном путешествии через весь город, а в это время в старом особняке, снова дрожащем от оваций, хлопают двери и слуги бегом несутся в сени – там музыкантов потчуют «шипучкой». Гремят фанфары, дрожат оконные стекла. Старики Ле Кенуа ушли в сад, подальше от этого нестерпимого для них веселья. А Нума собирается говорить с балкона, и тетушка Порталь и англичанка Полли спешат в гостиную послушать его речь.
– Барыня! Подержите чуточку малыша!.. – говорит мамка, любопытная, как дикарка, а Розали счастлива, что ей можно побыть одной, подержать на коленях ребенка. Из окна ей видно, как переливается золотое шитье знамен, как смыкается толпа, внимающая речи своего великолепного соотечественника. До нее долетают отдельные слова Нумы, но лучше всего доносится тембр этого чарующего, завораживающего голоса, и ее пробирает мучительная дрожь при воспоминании о том зле, которое причинило ей это всегда готовое на ложь и обман красноречие.
Но теперь с этим покончено. Теперь она неуязвима – ее нельзя больше ранить, нельзя довести до отчаяния. У нее есть ребенок. В одном этом слове все ее счастье, исполнение всех ее желаний. Обороняясь, точно щитом, тельцем крохотного дорогого существа, которое она прижимает к своей груди, Розали тихонько расспрашивавает его, низко склонив над ним голову, словно в самом деле ждет от него ответа или пытается уловить некое сходство в еще не оформившемся, похожем на набросок, личике, в еще расплывчатых черточках, которые чьи-то ласковые пальцы словно выдавили на податливом воске, но в которых ей уже видится и чувственный, упрямый рот, и хищный нос авантюриста, и в то же время слишком мягкий квадратный подбородок.
«Что ж, и ты тоже станешь лжецом? И ты всю свою жизнь будешь предавать других и себя самого, разбивать доверчивые сердца, которые ничего дурного не сделали, которые верили тебе и любили тебя?.. И ты будешь отличаться безответственным, жестоким непостоянством человека, выступающего на сцене жизни, как пустопорожний виртуоз, исполнитель легких каватин? И ты будешь торговать словами, не заботясь об их подлинной ценности, об их согласии с твоими помыслами, лишь бы только они блестели да звенели?»
Сложив губы как бы для поцелуя, она прошептала прямо в маленькое ушко, окруженное пушинками волос:
– Ну скажи: ты тоже станешь Руместаном?
На балконе оратор уже взвинчивался, уже разливался соловьем, и от этого высокого парения до Розали долетали только первые слова, потому что он подчеркивал их на южный манер: «Моя душа… Моя кровь… Мораль… Религия… Отечество…» – И все это покрывалось «ура!», звучавшим не менее восторженно, чем речь оратора, ибо в ораторе воплощались все достоинства и недостатки Юга, весь Юг, пылкий, подвижный, изменчивый, как море, в котором каждая волна отражает его облик.
Раздалось последнее «ура», затем толпа стала медленно расходиться. Руместан, отирая лоб, вошел в комнату и, упоенный триумфом, неиссякаемой любовью к нему целого народа, от всей души расцеловал жену. Он ощущал в себе доброе чувство к ней, ощущал нежность, как в первые дни, он не испытывал угрызений совести и был свободен от злопамятства.
– Ну?.. Видишь, какое торжество они устроили ради твоего глубокоуважаемого сына?
Стоя на коленях перед диваном, великий гражданин Апса играл со своим ребенком, ловил его пальчики, цеплявшиеся за что попало, ножки, которыми он сучил. Розали смотрела на мужа, и на лбу у нее залегла глубокая морщина. Она старалась понять эту противоречивую, не поддававшуюся определению натуру. Затем, словно что-то уловив, она живо обратилась к нему:
– Нума! Ты не помнишь местную поговорку, какую на днях приводила тетушка Порталь?.. «Радость на улице…» Как дальше?
– Ах да!.. «Радость на улице – горе в доме».
– Вот именно, – как-то особенно значительно проговорила Розали, а затем, роняя слова одно за другим, словно камни в пропасть, вкладывая в них всю свою жалобу на жизнь, она медленно повторила эту поговорку, в которой изобразила и выразила себя целая порода людей:
– Радость на улице – горе в доме.








