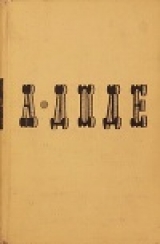
Текст книги "Нума Руместан"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
И вдруг Ортанс, уже совсем готовая к отъезду, счастливая тем, что вернется домой, увидит близких и дорогих людей, ставших ей из-за разлуки еще дороже, ибо дар воображения жил у нее в сердце, ощутила грусть оттого, что покидает эти чудесные места и постояльцев гостиницы, друзей трехнедельной давности; она и не подозревала, что так привязалась к ним. Ах, натуры, в которых заложена способность любить! Как вы умеете предаваться своему чувству, как все вас захватывает и как тяжело вам разрывать потом незримые чувствительные нити! К ней все были так добры, так внимательны, а в последнюю минуту вокруг их коляски оказалось столько протянутых рук, столько растроганных лиц! Девушки целовались с ней.
– Без вас будет не так весело.
Давали обещания писать друг другу, обменивались сувенирами – надушенными ларчиками, перламутровыми ножами для бумаги с надписью «Арвильяр, 1876», хранившими в себе голубой отсвет здешних озер. Г-н Ложе рон потихоньку совал ей в сумку бутылочку шартреза высшего качества, а она смотрела на окно своей комнаты, видела в нем прислуживавшую ей горянку, которая вытирала глаза большим темно-красным носовым платком, и слышала, как надтреснутый голос шептал ей на ухо: «Сила сопротивления, мадемуазель, прежде всего…» Ее чахоточный друг, вскочив на ось колеса, устремлял на нее прощальный взгляд, его глубоко запавшие, лихорадочно блестевшие глаза выражали энергию, волю и отчасти нежное чувство к ней… Какие милые люди, ах, какие милые!..
Боясь расплакаться, Ортанс никому не сказала ни слова.
Министр, провожавший обеих дам до железнодорожной станции, до которой было отсюда далеко, уселся напротив них. Щелканье кнута, звон бубенцов… Вдруг Ортанс крикнула:
– Зонтик!
Он ведь только что был тут. Человек двадцать бросаются на поиски.
– Зонтик!.. Зонтик!..
В комнате нет, в гостиной нет… Хлопают двери, гостиницу обыскивают сверху донизу.
– Не ищите… Я знаю, где он.
Девушка выскакивает из коляски и бежит в сад, в орешник, где еще сегодня утром она добавляла несколько слов к роману, развертывавшемуся в ее взбаламученной головке.
Зонтик действительно там, лежит поперек скамейки, как что-то оставшееся от нее самой, на месте излюбленном ею и чем-то подобном ей. Сколько чудесных часов провела она среди светлой зелени этого уголка, сколько признаний унесли отсюда пчелы и бабочки! Конечно, она никогда сюда не вернется, и эта мысль сжимала ей сердце, ааставляла медлить. Даже скрип качелей был ей сейчас мил.
– Отстань! Вот пристала!..
Это был голосок мадемуазель Башельри, взбешенной тем, что отъезд Ле Кенуа оторвал от нее всю компанию молодежи. Она была уверена, что, кроме нее и матери, здесь никого нет, не стеснялась в выражениях. Ортанс вспомнила жеманные дочерние ласки мадемуазель Башельри, которые так ее раздражали, и, идя к коляске, посмеивалась втихомолку. Внезапно на повороте в одну из боковых аллей девушка очутилась лицом к лицу с Бушро. Она отстранилась, но он удержал ее за руку.
– Вы покидаете нас, мадемуазель?
– Ничего не поделаешь, сударь.
Она растерялась от этой встречи, оттого, что он впервые заговорил с ней, и не знала, о чем говорить. Он взял ее руки в свои, раздвинул их и, удерживая ее прямо перед собой, стал пристально всматриваться в ее лицо своими острыми глазами из-под лохматых седых бровей. Потом его губы и его руки дрогнули, по бледному лицу разлилась краска.
– Что ж, прощайте!.. Счастливого пути!
Он молча привлек ее к себе, прижал к груди с нежностью деда – и сейчас же убежал, держа руки у сердца, разрывавшегося от жалости.
XIII. ШАМБЕРИЙСКАЯ РЕЧЬ
Нет, нет, я птичкой быть хо-о-о-чу,
Я в небо ла-а-сточкой ле-е-е-чу!
Малютка Башельри, стоя перед зеркалом в дождевом плаще «фантазия» с голубым шелковым капюшоном, выбранным под стать беретику, обернутому широкой газовой вуалью, и, застегивая перчатки, заливалась своим серебристым голоском, который, проснувшись нынче утром, был ясен и весел. От нее приятно пахло после утреннего туалета, веяло жизнерадостностью; ее маленькая фигурка была затянута в новый, предназначавшийся специально для акскурсий костюм с иголочки, необыкновенно аккуратный в полную противоположность беспорядку, царившему в номере, где остатки вчерашнего ужина красовались на столе среди жетонов, игральных карт, свечей, в самом близком соседстве с неубранной постелью и большой ванной, в которой ослепительно белела арвильярека я сыворотка – лучшее средство для того, чтобы успокаивать нервы и придавать атласный блеск коже купальщиц.
Внизу ее ждала запряженная плетеная коляска, звеневшая бубенцами, и гарцевавший у подъезда почетный конвой молодежи.
Когда она была уже почти совсем готова, в дверь постучали.
– Войдите!..
В комнату, еле сдерживая волнение, шагнул Руместан и протянул ей большой конверт.
– Вот, мадемуазель… Прочтите… Пожалуйста, прочтите…
Это был ангажемент в Оперу на пять лет, с жалованьем, которого она добивалась, с положением артистки на первых ролях – словом, все, чего ей хотелось. Хладнокровно, не спеша прочитала она документ, пункт за пунктом, до самой подписи, в которой чувствовались толстые пальцы Кадайяка, и тогда – только тогда! – приблизилась к министру, откинула вуаль, уже опущенную во избежание дорожной пыли, и, подняв розовый носик, почти прижалась к нему.
– Вы добрый!.. Я вас люблю!..
Этого было достаточно, чтобы государственный муж забыл все неприятности, которые должны были воспоследовать для него из-за этого ангажемента. Однако он сдержался и стоял прямой, холодный, хмурый, как скала.
– Я сдержал свое слово, а теперь мне остается уйти… Я не хочу мешать вашей прогулке…
– Прогулке?.. Ах да, верно!.. Мы собираемся в замок Баярда. [33]33
Баярд, Пьер (1476–1524) – французский рыцарь, герой войн с испанцами за власть над Италией; был прозван рыцарем без страха и упрека.
[Закрыть]
Обняв его обеими руками за шею, она ласково протянула:
– Вы поедете с нами… Да, да!..
Она щекотала ему лицо ресницами, длинными, как кисти художника, покусывала ему подбородок, но слегка, кончиками передних зубов.
– Со всей этой молодежью?.. Что вы!.. Как это вам могло прийти в голову?
– Молодежь?.. Плевать мне на этих юнцов!.. Не поеду я с ними, вот и все… Мама им скажет… Они к этому привыкли… Слышишь, мама?
– Иду, – скааала г-жа Башельри. Видно было, как она в соседней комнате, поставив ногу в красном чулке на стул, силится втиснуть ее в узкий ботинок с матерчатым верхом. Она сделала министру глубокий реверанс в стиле Фоли-Борделез, а затем поспешила сойти вниз, чтобы спровадить молодых людей.
– Одну лошадь для Бомпара!.. Он поедет с нами! – крикнула ей вслед девушка.
Нума, тронутый этим знаком внимания, упивался своим счастьем: держа в объятиях красотку, он слушал, как расходятся не солоно хлебавши ретивые юнцы, которые так часто топтали ему сердце копытами своих гарцевавших коней. Долгим поцелуем обжег он ее улыбчивые губы, обещавшие ему все. Затем она выскользнула из его объятий.
– Идите одеваться… Мне уже хочется быть в пути.
Все вагудело, все засуетилось от любопытства, когда стало известно, что министр принимает участие в поездке в замок Баярда, когда в плетеной коляске напротив певички появились широкий белый жилет и панама, затенявшая его римский профиль. Но в конце-то концов, как говорил патер Оливьери, которого очень оживили путешествия, что тут худого? Ведь их сопровождает мамаша. А замок Баярда – исторический памятник, подведомственный министру народного просвещения. Не будем так уж нетерпимы, друг мой, в особенности по отношению к людям, которые всю жизнь свою посвятили защите благородных принципов и нашей святой веры.
– Бомпара нет как нет. Ну что он там возится? – бормотал Руместан, раздосадованный тем, что ему приходится ждать у крыльца гостиницы, где, несмотря на балдахин над коляской, его без конца расстреливают все вти пронизывающие взгляды.
Но вот в одном ив окон второго этажа появилось нечто необыкновенное – белое, круглое, экзотичное – и крикнуло голосом предводителя черкесов:
– Поезжайте!.. Я вас догоню!
Пара впряженных в коляску мулов с низким загривком, но крепкими ногами, словно только этого сигнала и дожидалась, она рванулась вперед, тряхнув бубенчиками, вылетела из парка, промчалась мимо ванных зданий.
– Берегись!
Сторонятся вспугнутые больные и носильщики портшезов; у входа в галереи появляются санитарки в белых фартуках с огромными карманами, набитыми разменной мелочью и разноцветными билетиками; массажисты, голые, как бедуины, под своими шерстяными одеялами, высовываются по пояс на лестнице парилен; в ингаляционных валах приподнимаются голубые занавески: все хотят видеть, как едут министр и певичка. Но те уже далеко, мчатся во всю прыть, спускаясь по извивам черных арвильярских улочек, по густому острому щебню с прожилками серы и огня, на котором коляска подпрыгивает, высекая искры, сотрясая низкие домишки, покрытые пятнами, словно язвами проказы, притягивая любопытные головы к окнам с объявлениями о сдаче в наем, к порогам лавок, торгующих альпенштоками, зонтиками, горной обувью с шипами на подошвах, сталактитами, кристаллами горного хрусталя и другими приманками для курортников, – головы, почтительно склоняющиеся или почтительно обнажающиеся при виде министра. Даже зобатые кретины узнают его и приветствуют своим бессмысленным хриплым смехом главу Французского университета, а его спутницы, с достоинством выпрямившись, сидят напротив него, в высшей степени гордые оказанной им честью.
Они позволяют себе принять более удобные позы, лишь отъехав от жилых мест, на красивой дороге в Поншарра, где мулы наконец останавливаются, тяжело дыша, у подножья Трейльской башни: тут назначил им свидание Бомпар.
Но минуты текут, а Бомпара нет. Известно, что он отличный наездник, он сам так часто хвастался этим. Они удивляются, потом раздражаются, особенно Нума, которому не терпится отъехать как можно дальше по этой белой ровной дороге, кажущейся бесконечной, войти поглубже в этот день, открытый перед ним, как целая жизнь, полная надежд и приключений. Наконец – облако пыли, из которого доносится задыхающийся испуганный голос: «Эй!.. Эй!..» – и появляется голова Бомпара в пробковом, обтянутом белым полотном шлеме, отдаленно напоминающем водолазный скафандр (такие шлемы приняты в англо-индийской армии). Южанин взял его с собой, чтобы путешествие выглядело внушительнее и драматичнее и чтобы торговец головными уборами подумал, будто бы его клиент направляется в Бомбей или Калькутту.
– Наконец-то! Чего ты застрял?
Бомпар с трагическим видом качает головой. Видимо, его отъезд был сопряжен с какими-то событиями, и черкесу не удалось создать у постояльцев и служащих гостиницы благоприятное представление о своей способности сохранять равновесие, ибо его рукава и спина покрыты пылью.
– Норовистая лошадь, – говорит он, приветствуя дам (их плетеная коляска уже тронулась), – но я заставил ее идти шагом.
Очевидно, очень тихим шагом, а теперь этот удивительный конь и вовсе не желал двигаться вперед. Несмотря на все усилия седока, он топтался и кружился на месте, как больной кот. Коляска была теперь уже далеко.
– Ну что же ты, Бомпар?
– Поезжайте, поезжайте… Я догоню!.. – крикнул он еще раз с ярко выраженным марсельским акцентом. Внезапно он сделал жест отчаяния и снова помчался в сторону Арвильяра, так что издали видны были только яростно вздымающиеся копыта. «Наверно, что-нибудь забыл», – решили все и перестали о нем думать.
Дорога, широкая французская дорога, обсаженная ореховыми деревьями, огибала высокие холмы. Слева от нее темнели каштановые и сосновые рощи, справа возвышались горы, а по их склонам до самого подножья, где в складках тесно залегали деревушки, расстилались виноградники, посевы пшеницы и кукурузы, тутовые и миндальные плантации, ослепительные ковры желтого дрока, чьи семена лопались от зноя с легким непрерывным треском, как будто потрескивала охваченная огнем почва. И этому можно было поверить – такая тяжкая стояла жара, так пылал воздух – словно не от солнца, затянутого дымкой и почти невидимого, но от горячих испарений земли, из-за которых таким восхитительно прохладным казался издали Глезен, особенно его венчанная снегом макушка: до нее, казалось, можно было дотронуться кончиком зонта.
Равного этому пейзажа Руместан не мог вспомнить даже в своем родном Провансе. Не мог он вообразить себе и большей полноты счастья. Ни забот, ни угрызений совести. Для него перестало существовать все: верная и верящая ему жена, надежда на отцовство, предсказание Бушро насчет Ортанс, неблагоприятное впечатление, которое произведет повсюду появление в «Офисьель» декрета о назначении Кадайяка. Вся судьба его была в руках этой прелестной девушки; недаром сейчас в ее глазах отражались его глаза, ее коленки обхватывали его колено. Голубая вуаль зарозовела от румянца ее щек. Держа его за руки, она напевала:
Теперь любовь твоя сильней.
Бежим, бежим под сень ветвей!
Они мчались, словно подхваченные ветром, лента дороги разматывалась все быстрее, кругозор расширялся, и перед ними открывалась полукружием необъятная равнина с озерами, селами, а еще дальше меняли окраску в зависимости от расстояния горы: отсюда начиналась Савойя.
– Как прекрасно! Как величественно! – говорила певица.
А он шептал:
– Как я люблю вас!
На последней остановке снова появился Бомпар – он с весьма жалким видом вел своего коня под уздцы.
– Удивительная животина… – сказал он и ничего больше не прибавил, а на вопрос дам, не упал ли он, ответил – Нет… Открылась моя старая рана.
Рана? Где и когда он был ранен? Он никогда об этом не упоминал, но с Бомпаром всегда можно было рассчитывать на какую-нибудь неожиданность. Ему дали место в коляске, коня, кстати сказать – смирнехонького, спокойно привязали сзади, и все направились к замку Баярда – две его плохо реставрированные башенки, напоминавшие перечницы, уже виднелись на плоской возвышенности.
Навстречу им вышла служанка, хитрая жительница гор, состоявшая при старом приходском священнике, которого послали «на покой» в замок Баярда с обязательством обеспечить туда свободный доступ туристам. Когда появляются посетители, если только это не какие – нибудь важные птицы, священник с достоинством удаляется в свою комнату. Но, оказавшись тут в сугубо частном порядке, министр отнюдь не собирался открывать свое инкогнито, и служанка, нараспев произнося заученные фразы, показала им, как самым обыкновенным посетителям, все, что осталось от старинного замка рыцаря без страха и упрека, покуда кучер расставлял привезенную для завтрака снедь в беседке садика.
– Вот здесь старинная часовня, где добрый рыцарь каждое утро и каждый вечер… Попрошу дам и господ обратить внимание на толщину стен.
Но они ни на что не обращали внимания. В помещении было темно, свет проникал сюда из бойницы на уровне сеновала, устроенного между балками, и они натыкались на кучи мусора. Нуме, державшему под руку свою малютку, наплевать было на рыцаря Баярда и его «досточтимую матушку, госпожу Элен дез Альман». Им надоел этот запах старья, и когда г-жа Башельри, желая проверить, гулкое ли эхо в сводчатой кухне, запела последнюю песенку своего супруга, песенку, откровенно говоря, забористую: «У меня это от папы, у меня это от мамы», – никто не возмутился, наоборот, все развеселились.
Но когда они вышли из замка, когда им подали завтрак на массивном каменном столе и первый голод был утолен, мирное великолепие развернувшегося перед ними кругозора – долина Трезиводана, высоты Бож, суровые контрфорсы обители Гранд-Шартрез и состав– аявшийконтраст с этими крупными масштабами маленький, расположенный террасками фруктовый садик отшельника, всецело посвятившего себя богу, своим тюльпанным деревьям, своим пчелам, – все это вызывало у них ощущение чего-то значительного и вместе с тем кроткого, похожего на глубокую душевную сосредоточенность. За десертом министр приоткрыл путеводитель, чтобы освежить память, и заговорил о Баярде, о «бедной его матушке, которая плакала от горя и нежности», когда ее сын-отрок, уезжавший в Шамбери, чтобы стать пажом герцога Савойского, гарцевал на гнедом коньке перед северными воротами, на том самом месте, куда сейчас ложится величественная и зыбкая тень главной башни, как призрак исчезнувшей древней твердыни.
Нума прочел им благородные слова, которые г-жа Элен сказала на прощание сыну:
– «Пьер, друг мой! Наказываю тебе прежде всего любить и бояться бога и стараться служить ему так, чтобы никоим образом не прогневить его».
Стоя на террасе замка, Нума простер руку по направлению к Шамбери:
– Вот что надо говорить детям, вот что все родители, все учителя.
Тут он остановился и хлопнул себя по лбу.
– Моя речь!.. Да вот же она, моя речь!.. Я нашел ее… Великолепно! Замок Баярда, местное предание… Две недели ищу… А она тут как тут!
– Перст божий! – в восторженном порыве вскричала г-жа Башельри; впрочем, в глубине души она находила, что конец завтрака получился слишком серьезный.
– Какой человек! Какой человек!
Малютка тоже, казалось, была крайне взволнована. Но впечатлительный Руместан не обращал на это внимания. Слова оратора уже закипали в его уме, в его груди, и сейчас он весь был поглощен одной мыслью.
– Лучше всего было бы, – говорил он, что-то ища глазами вокруг себя, – если бы я мог пометить речь сегодняшним числом и указать место – замок Баярда.
– Если господину адвокату нужен укромный уголок, чтобы писать….
– Да мне только набросать… Вы разрешите, милые дамы?.. Пока вы будете пить кофе… Я сейчас… Только, чтобы без обмана поставить дату.
Служанка устроила его в старинной комнатке на первом этаже; на ее закругленных в виде купола сводах еще можно было различить следы позолоты; существует мнение, что здесь была молельня самого Баярда, а соседнее просторное помещение, где стоит большая крестьянская кровать с балдахином и тиковыми занавесками, выдают за его опочивальню.
Приятно было писать за этими толстыми стенами, куда не проникала царившая на дворе духота, у полуоткрытой стеклянной двери, из которой на листок бумаги падал свет и вливались ароматы садика. Вначале перо оратора не поспевало за бурным разворотом идей. Он бросался общими фразами, ничего не уточнял, и они летели стремглав, – это были фразы адвоката-южанина, общеизвестные, но красноречивые, в их банальности был скрытый жар и местами вспыхивали искры, как в металлическом литье. Внезапно он остановился, не находя больше слов, – голова у него либо вовсе опустела, либо отяжелела от дорожной усталости и обильного завтрака. Он стал прохаживаться из молельни в комнату и обратно, громко говорил сам с собой, старался вдохновиться, прислушивался к своим шагам в гулкой тишине, словно к шагам чьей-нибудь великой тени, потом опять сел за стол, но так и не написал ни строчки… Вокруг него все кружилось – выбеленные известкой стены, гипнотизирующий луч света, бьющий ив стеклянной двери… Из сада донеслись звон тарелок и смех – из далекого-далекого далека! – и под конец он заснул глубоким сном, уткнувшись носом в свой черновик.
…Сильный удар грома заставил его подскочить. Сколько же времени он адесь? Слегка смущенный, он вышел в опустевший сад, где не трепетал ни один листок. Тяжелый воздух был перенасыщен запахом тюльпанных деревьев. В пустой беседке над стаканами, из которых пили шампанское, и не расстаявшим в чашках сахаром лениво кружились осы. Служанка, охваченная нервным страхом животного перед грозой, крестясь при каждой вспышке молнии, бесшумно убирала со стола. Она сообщила Нуме, что у барышни после завтрака разболелась голова, она отвела ее поспать в опочивальню Баярда и «тихохонько» закрыла дверь, чтобы не помешать господину адвокату. А двое других – полная дама и тот, в белом шлеме, – спустились в долину, и уж их, как пить дать, намочит, потому сейчас такая гроэища начнется…
– Смотрите!
Там, куда она указывала, над искромсанной цепью высот Бож, над известковыми вершинами Гранд – Шартрез, венчанными блеском молний, словно некий таинственный Синай, по небу расползалось огромное, разраставшееся на глазах, чернильное пятно, под которым вся долина, влажная зелень деревьев, золото хлебов, линии дорог, отмеченные легкими шлейфами поднятой ветром белой пыли, серебряная скатерть Изеры – все приобретало необыкновенную яркость окраски, словно освещалось косым ярко-белым лучом рефлектора по мере того, как все расширялась и расширялась темная грохочущая угроза. Вдалеке Руместан разглядел полотняный шлем Бомпара, сверкавший, словно грань фонаря.
Он зашел в дом, но не мог сесть за работу. Теперь уже не сон парализовал его перо: напротив, он чувствовал какое-то странное возбуждение от присутствия Алисы Башельри в соседней комнате. Но там ли она сейчас? Он приоткрыл дверь и не решился закрыть, чтобы не потревожить прелестный сон певицы, которая, едва успев раздеться, бросилась на кровать, и теперь он мог издали видеть волнующий беспорядок постели – смятые/ откинутые простыни и одеяла, растрепавшиеся волосы, неясную белизну ее округлых форм.
– Ладно, ладно, Нума, берись за ум! Это, черт побери, комната Баярда!
Он в буквальном смысле слова схватил себя, как преступника, за шиворот, заставил себя сесть за стол, сдавил голову руками, закрыл глаза и заткнул уши, чтобы как можно глубже уйти в последнюю фразу, которую он повторял про себя:
«И вот, господа, мы бы хотели, чтобы высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья, Французский университет…»
Гроза действовала ему на нервы, давила на него, сковывала все его тело, как это бывает, когда стоишь под тенью некоторых тропических деревьев. Голова кружилась, одурманенная дивным ароматом, который струили горькие цветы тюльпанного дерева, а быть может, и пышный сноп светлых кудрей, разметавшихся на кровати в соседней комнате. Несчастный министр! Тщетно цеплялся он за свою речь, взывал о помощи к рыцарю без страха и упрека, к народному просвещению, к вероисповеданиям, к шамберинекому, ректору – ничто не помогало… Он снова зашел в опочивальню Баярда, на этот раз приблизился к спящей настолько, что слышал ее легкое дыхание, и коснулся рукой опущенных полосатых занавесок, которые скрывали спящую и весь соблазн ее сна, скрывали ее перламутровое тело с розовыми тенями и изгибами, как на шаловливой сангине Фрагонара. [34]34
Фрагонар, Жан-Оноре (1723–1806) – французский художник, крупнейший представитель рококо в живописи, создал множество картин, изображающих галантные и любовные сцены.
[Закрыть]
Даже тут, на грани искушения, министр еще боролся и. машинально шевеля губами, бормотал высокие наставления, которые Французский университет… Но тут внезапный и уже очень близкий раскат грома разбудил певицу. Она так и подскочила на кровати.
– Ой, как я испугалась!.. Ах, это вы?
Ясные глазки пробудившегося ребенка узнали его, она улыбалась, нисколько не смущаясь беспорядком в своем туалете. Оба они замерли, опаляя друг друга безмолвным пламенем желания. И вдруг в комнате воцарилась полная темнота – ветер одну за другой закрыл высокие ставни. Слышно было, как где-то хлопнули двери, упал какой-то ключ, взвихренные жалобно свистящим шквалистым ветром, полетели по песку дорожек к порогу дома опавшие листья и сломанные цветы.
– Гроза-то какая! – тихо произнесла она и, взяв его горячую руку, почти втянула его под опущенные занавески…
«И вот, господа, высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья…»
В Шамбери, перед старым замком герцогов Савойских, перед изумительным амфитеатром зеленых холмов и снежных вершин, о которых вспоминал Шатобриан, глядя на Тайгетский хребет, [35]35
Тайгетский хребет – лесистые горы в Пелопоннесе (Греция); Шатобриаи описал его в книге «Путь, из Парижа в Иерусалим» (1811) – записках о своем путешествии 1806 года.
[Закрыть]выступал на этот раз глава Французского университета в окружении шитых золотом мундиров, горностаевых мантий, пышных эполет, возвышаясь над огромной толпой, увлеченной силой его красноречия и жестами его могучей руки, екце сжимавшей лопаточку с ручкой из слоновой кости, – этой лопаточкой он сцементировал первые камни нового лицея…
«Мы бы хотели, чтобы Французский университет обащался к каждому из своих питомцев: «Пьер, друг мой! заказываю тебе прежде всего…»
И когда он приводил эти трогательные слова, его рука, его голос, его плотные щеки дрожали от одного воспоминания о большой благоуханной комнате, где в смятении, вызванном той достопамятной грозой, составлена была его шамберийская речь.








