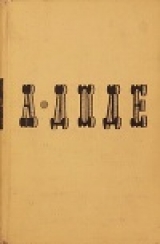
Текст книги "Нума Руместан"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
XIV. ЖЕРТВЫ
Утро. Десять часов. Приемная министра народного просвещения, длинный, плохо освещенный коридор с темными обоями и дубовыми панелями, переполнена толпой просителей – одни сидят, другие топчутся на месте. Их становится с каждой минутой все больше и больше; вновь входящие протягивают свои карточки важному служителю с цепью, он берет их, осматривает и, не говоря ни слова, благоговейно кладет справа от себя на прикрытый промокательной бумагой столик, где он пишет при скудном дневном свете у окна, по которому стекают струйки мелкого октябрьского дождика.
Впрочем, некий посетитель, явившийся одним ив последних, имел честь расшевелить его величественную невозмутимость. Это плотный мужчина, загорелый, опаленный, просмоленный, с серьгами в виде двух серебряных якорьков, с голосом, как у охрипшего тюленя, – такие голоса можно часто слышать в прозрачной утренней дымке провансальских портов.
– Скажите, что пришел лоцман Кабанту. Он знает… Он меня ждет.
– Вы тут не один, – отвечает служитель, скромно улыбаясь своей шутке.
Кабанту не оценил его тонкого остроумия. Но он доверчиво смеется, растянув рот до ушей, украшенных якорьками. Работая плечами, он пробирается сквозь толпу, расступающуюся перед его мокрым зонтиком, и садится на скамье рядом с другим ожидающим, обладателем почти так же основательно выдубленной кожи.
– Эй, глянь! Да это Кабанту!.. Здорово!..
Лоцман извиняется. Он никак не может припомнить соседа.
– Да вы же меня знаете – Вальмажур… Мы познакомились там, в амфитеатре…
– А ведь и верно… Ну, парень, Париж тебя здорово изменил!
Тамбуринщик превратился в господина с длинными черными волосами, на артистический манер отброшенными назад, что при его смуглоте и иссиня-черных усиках, которые он все время крутит, делает его похожим на цыгана с ярмарки. При всем том – неизменно поднятый гребень деревенского петуха: тщеславие смазливого парня и музыканта, тщеславие, в котором переливается через край склонность к преувеличению, свойственная южанину, внешне, однако, спокойному и немногословному. Неуспех в Опере не отрезвил Вальмажура. Как все актеры, он приписывает неудачу проискам враждебной «шатни». Для него и его сестры слово это приобрело какой-то особый варварский оттенок, оно звучит как-то по-санскритски – шшаттия,словно название таинственного зверя, представляющего собой помесьочковой змеи и апокалиптического коня. Он говорит Кабанту, что через несколько дней состоится его первое выступление в большом кафешантане на бульваре – на эскетинге,во! – там он будет участвовать в живых картинах, и ему будут платить двести франков за вечер.
– Двести франков за вечер!
Глаза у лоцмана стали круглыми от изумления.
– А на улицах будут выкрикивать мою биографильюи наклеют на всех парижских стенах мой портрет в натуральную величину, в костюме трубадура былых времен, который будет на мне вечером, когда я буду выступать со своей мувыкой.
Костюмом он особенно гордится. Как жаль, что он не надел фуражку с зубцами и ботинки сдлинным острым носком! Он пришел показать министру великолепный ангажемент, и на этот раз на прекрасной бумаге, которая была подписана без него. Кабанту смотрит на лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и вздыхает.
– Тебе везет!.. А у меня вот уже больше года только одни надежды на медаль… Нума велел мне прислать бумаги, я и послал… А потом молчок – и насчет медали, и насчет бумаг, и насчет всего… Написал в морское ведомство – там обо мне ничего не знают… Написал министру – министр не ответил… А самая-то чертовина в том, что теперь я без бумаг, а у меня по поводу вождения начинается спор с капитанами судов, так они и слушать не хотят. Ну вот, раз такое дело, поставил я свою шлюпку на причал и решил: поеду-ка я к Нуме.
Несчастный лоцман чуть не плачет. Вальмажур утешает его, успокаивает, обещая поговорить о нем с министром, обещает вполне уверенным тоном, бодро крутя усы, как человек, которому ни в чем нет отказа. Впрочем, подобная самонадеянность свойственна не ему одному. Все, добивающиеся здесь аудиенции, – старые священники с благостными лицами, в парадных накидках, подтянутые, важные преподаватели, хлыщеватые, подстриженные на русский манер художники, грузные скульпторы с пальцами, похожими на лопаточку для глины, – все здесь держатся победоносно. Все они личные друзья министра, все убеждены, что их дело в шляпе, и все, входя в приемную, говорят служителю:
– Он меня ждет.
Знай Руместан о том, что они пришли, то, конечно… Это обстоятельство придает приемной министерства народного просвещения особый вид – здесь не увидишь, как в приемных других министров, бледных от волнения лиц, дрожащих от страха рук и колен.
– А кто у него сейчас? – громко спрашивает Вальмажур, подходя к столику служителя.
– Директор Оперы.
– Кадайяк?.. Знаю, знаю… Он как раз по моему делу.
После неудачи тамбуринщика в Опере Кадайяк отказался выпускать его. Вальмажур намеревался обратиться в суд, но министр, опасавшийся адвокатов и бульварных листков, передал музыканту просьбу взять жалобу назад, гарантировав ему порядочную сумму в возмещение ущерба. Именно эта сумма сейчас, видимо, и обсуждается, и не без горячности, ибо трубный глас Нумы поминутно раздается из-за двойной двери кабинета, которую, наконец, кто-то отворяет рывком.
– Не я ей покровительствую, а вы.
С этими словами толстый Кадайяк выходит ив кабинета, сердито шагает через приемную и сталкивается со служителем, который направляется между двумя рядами просителей к кабинету.
– Вам надо только назвать мою фамилию!
– Ему бы только знать, что я здесь!
– Скажите, что пришел Кабанту!
Служитель никого не слушает; зажав в руке несколько визитных карточек, он с важным видом заходит в кабинет. Дверь остается полуоткрытой; в широкую щель видна внутренность кабинета, отлично освещенного тремя большими окнами, выходящими в сад, и нижняя часть большой картины, изображающая подбитую горностаем мантию де Фонтана, [36]36
Фонтан, Луи (1757–1821) – французский писатель и политический деятель, один из идеологов реставрации.
[Закрыть]написанного во весь рост.
Затем служитель снова появляется в дверях. На его мертвенно-сером лице написано нечто вроде удивления. Он вызывает:
– Господин Вальмажур!
Сам музыкант нисколько не удивлен тем, что его принимают раньше других.
С сегодняшнего утра его портреты висят на всех парижских стенах. Он теперь персона, и министр уже не заставит его томиться ожиданием на вокзальных сквозняках. Самодовольно улыбаясь, он стоит посреди роскошно обставленного кабинета, где несколько секретарей, торопливо и растерянно ища что-то, переворачивают вверх дном ящики и картонные папки. Взбешенный Руместан, засунув руки в карманы, громыхает и бранится:
– Да найдите же, черт побери, эти бумаги!.. Затеряли их, что ли, бумаги этого лоцмана? Право же, господа, у вас тут такой беспорядок…
Он замечает Вальмажура. – Ах, это вы!.. – И тут же набрасывается на него, а за боковыми дверьми исчезают испуганные спины секретарей, уносящих целые груды папок.
– Слушайте! Долго еще вы будете донимать меня своей собачьей музыкой?.. Вам недостаточно одного провала? Сколько же вам их нужно?.. Теперь, говорят, вы красуетесь на стенах в маскарадном костюме… А это что за бред мне только что принесли? – Это ваша биография!.. Смесь пошлостей и вранья. Вы отлично знаете, что вы такой же князь, как я, что пергаменты, о которых столько разговора, существуют лишь в вашем воображении.
Грубым жестом человека, забывшегося в резком споре, он изо всех сил ухватил несчастного за борта пиджака и тряс его, не переставая говорить… Прежде всего у этого скетинга нет ни гроша. Это обманщики. Ему не заплатят, все, что он заработает, – это стыд и позор на его грязно размалеванном имени и на имени его покровителя. Газеты опять начнут издеваться: Руместан и Вальмажур, министерская свирель… При воспоминании об втих оскорблениях у Руместана тряслись полные щеки в порыве гнева, столь похожем на порывы тетушки Порталь, но еще более страшном в торжественной обстановке правительственного учреждения, где личности должны стушевываться перед званиями.
– Да убирайтесь вы, убирайтесь вон! – кричал он ему во весь голос. – Никому вы не нужны, всем осточертела ваша свиристелка!
Совершенно ошалевший Вальмажур не сопротивлялся. Он бормотал: «Ладно, ладно!..» – умоляюще глядя на Межана, лицо которого выражало искреннюю жалость, ибо только Межан не бежал от лика разгневанного хозяина, и на огромный портрет Фонтана, по – видимому, крайне возмущенного подобной распущенностъю и все сильнее подчеркивавшего свои величественный министерский вид по мере того, как Руместан его утрачивал. Наконец мощные пальцы Нумы разжались, музыкант высвободился, рванулся к дверям, зажав в кулаке билеты на скетинг, и давай бог ноги.
– «Лоцман Кабанту»!.. – прочел Нума на карточке, протянутой ему невовмутимым служителем. – Еще один Вальмажур!.. Нет, хватит с меня!.. Довольно морочить мне голову!.. На сегодня хватит… Я прекращаю прием.
Он продолжал шагать взад и вперед по кабинету, и остатки гневной вспышки, несправедливо ивлившейся на одного Вальмажура, постепенно рассеивались. А Кадайяк – этакий наглец! Явиться к нему с упреками по поводу малютки, сюда, в министерство, наговорить невесть чего в присутствии Межана, Рошмора!
– Да, я действительно слабохарактерен… Назначение этого человека в Оперу – огромная ошибка.
Правитель министерской канцелярии был с этим совершенно согласен, но он ни под каким видом не стал бы высказывать своего мнения, ибо Нума уже не был теперь прежним добродушным парнем, который сам подсмеивался над своими увлечениями, которого не выводили из себя ни насмешки, ни наставления. Превратившись благодаря шамберийской речи и другим ораторским подвигам в фактического главу правительства, он резко изменился: хмель величия, атмосфера царской власти, от которой кружатся даже самые крепкие головы, сделали его нервным, раздражительным, самодуром.
Открылась оклеенная обоями дверь, и появилась г-жа Руместан, готовая к выезду, изящно причесанная, в широком манто, скрывавшем округлость ее талии. С обычной для нее в эти последние пять месяцев спокойной и ясной улыбкой она спросила:.
– Сегодня у тебя Совет министров?.. Добрый день, господин Межан!
– Ну да… Совет… Заседание Палаты… Чего только нет!
– А я было хотела просить тебя поехать вместе со мной к маме… Я у нее завтракаю… Ортанс была бы так рада!
– Что ж делать, это невозможно.
Он взглянул на часы.
– В двенадцать я должен быть в Версале.
– Тогда я подожду и завезу тебя на вокзал.
Он колебался секунду, только одну секунду.
– Хорошо. Я подпишу бумаги, и мы поедем.
Пока он писал, Розали шепотом сообщала Межану о самочувствии сестры. Приближение зимы плохо сказывалось на ней, врачи запретили ей выходить. Почему он не зайдет проведать ее? Ей нужна поддержка друзей. Межан грустно и безнадежно пожал плечами:
– Но я…
– Да нет же, нет!.. Насчет вас еще далеко не все решено. Это просто каприз, я думаю, это ненадолго.
Ей все представлялось в радужном свете, и она хотела, чтобы все кругом тоже были счастливы, ибо она ощущала такую полноту счастья, что ив неясного суеверного чувства не решалась в этом признаться даже самой себе. А Руместан всюду трубил о предстоящем счастливом событии – и посторонним и близким – с какой-то комической гордостью.
– Мы назовем его «дитя министерства»! – говорил он и до слез смеялся собственной шутке.
Каждому, кто знал, какую жизнь он вел вне дома, в своей бесстыдно существовавшей на виду у всех второй семье, где давались приемы и всегда был открытый стол, этот заботливый и нежный супруг, со слезами на глазах говоривший о своем будущем отцовстве, представлялся человеком необъяснимым, поразительно невозмутимым в своей лживости, искренним в своих излияниях, и это сбивало с толку всех, кто не имел понятия о пагубных противоречиях, которые возникают у людей с южным темпераментом.
– Нет, знаешь, лучше я тебя завезу… – сказал он жене, садясь в карету.
– Но ведь тебя ждут?..
– Подумаешь!.. Пусть подождут… Зато мы подольше побудем вместе.
Он взял Розали под руку и прижался к ней, как мальчик.
– Видишь ли, мне только с тобой по-настоящему хорошо. Твоя мягкость успокаивает меня, твое хладнокровие придает мне сил… Этот Кадайяк довел меня до исступления… Человек без совести, без всяких моральных основ…
– Разве ты его не знал?
– Как он ведет театр! Позор!
– Да, пригласить девицу Башельри… Как ты допустил?.. У этой особы все поддельное – и молодость, и голос, и даже ресницы.
Нума почувствовал, что краснеет. Ведь теперь это он своими толстыми пальцами укреплял малюткины ресницы! Мамаша Башельри быстро его этому обучила.
– С кем связано это ничтожество?.. Недавно в «Месс а же» писалось о весьма влиятельных и таинственных покровителях…
– Не знаю… Наверно, с самим Кадайяком.
Он отвернулся, чтобы скрыть смущение, и вдруг в ужасе откинулся назад.
– Что там такое? – спросила Розали и тоже выглянула в окошко кареты.
На каждом перекрестке, на каждом свободном местечке любой стены или дощатого забора красовалась громадная кричаще-пестрая афиша скетинга, особенно заметная под дождливым сереньким небом, и на каждой такой афише повторялось гигантское изображение трубадура и сцен из живых картин, выделявшихся желтыми, зелеными, синими пятнами, а поперек всего этого охрой был намалеван тамбурин. Длинный палисадник перед ратушей, мимо которого проезжала сейчас их карета, весь был заклеен этой грубой, яркой рекламой, от которой обалдевали даже парижские ротозеи.
– Мой палач! – произнес Руместан с комическим отчаянием.
Розали ласково пожурила его:
– Нет… не палач, а жертва… И если бы только единственная! Но ведь твоей восторженностью загорелся и кое-кто другой…
– Кто это?
– Ортанс.
И тут Розали поведала ему о том, в чем наконец вполне уверилась, несмотря на таинственное молчание девушки, – о ее любви к этому крестьянину, любви, которую она, Розали, считала сперва причудой, но которая теперь тревожила ее как ненормальность.
Министр вознегодовал:
– Да не может быть! Мужик, простофиля!..
– Она видит его таким, каким рисует в своем воображении, и прежде всего – в ореоле твоих легенд, твоих выдумок, которых она не сумела оценить по достоинству. Вот почему эта реклама, эта раздражающая тебя шутовская пестрота меня, наоборот, радует. Я надеюсь, что ее герой покажется ей настолько смешным, что она разлюбит его. Иначе я даже не представляю себе, к чему все это могло бы привести. Вообрази себе отчаяние отца… Вообрази, наконец, самого себя в качестве Вальмажурова шурина… Ах, Нума, Нума! Ты вводил в заблуждение людей, сам невольно поддавшись обману.
Он не защищался, он возмущался собой, «проклятым Югом», который никак не мог в себе побороть.
– Знаешь, тебе бы всегда сидеть вот так, прижавшись ко мне, – ты ведь моя родная советчица, моя священная защита. Только ты по-настоящему добра и снисходительна ко мне, только ты одна меня понимаешь и любишь.
Прижимая к губам ее руку в перчатке, он говорил так убежденно, что на глаза у него навертывались слезы, самые настоящие слезы. Согревшись, успокоившись после этого порыва, он почувствовал себя лучше. И когда они добрались до Королевской площади и он с бесконечно нежной заботливостью помог жене выйти из кареты, то теперь ему оставалось веселым, свободным от угрызений совести тоном бросить кучеру:
– На Лондонскую! Скорей!
Розали шла медленно; до нее донесся этот адрес, и она огорчилась. Не то чтобы у нее возникло подозрение. Но ведь он только что сказал, что едет на вокзал Сен-Лазар. Почему он всегда делает не то, что говорит?
В комнате сестры ее ожидало новое волнение. Войдя туда, она сразу почувствовала, что с ее приходом прервался спор между Ортанс и Одибертой, на лице у которой были еще заметны следы крупного разговора, а на ее растрепанных, как у фурии, волосах еще дрожал черный бант. В присутствии Розали она сдерживалась: это видно было по ее злобно поджатым губам и сдвинутым бровям. Но так как Розали стала расспрашивать ее, как им живется, то ей пришлось отвечать, и она с лихорадочным возбуждением заговорила об «эскетинге», о предложенных им великолепных условиях, а затем, удивляясь спокойствию Розали, спросила почти дерзким тоном:
– А вы, сударыня, не пойдете послушать моего брата? Пойти стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть, какой он в костюме.
Ее по-крестьянски наивное описание этого нелепого костюма, от разрезов на берете до загнутых острых носков обуви, было для Ортанс настоящей пыткой – она не решалась поднять глаза на сестру. Розали извинилась: по состоянию здоровья она лишена возможности ходить в какие бы то ни было увеселительные места. А потом, в Париже немало таких заведений, куда не всякая женщина может пойти. Но крестьянка прервала ее:
– Извините… Вот я, например, пойду, а я женщина порядочная… Я никогда худыми делами не занималась. И насчет церковных обрядов все выполняю, что полагается.
Она говорила повышенным тоном; от прежней ее робости не осталось и следа, как будто в этом доме у нее уже были какие-то права. Но Розали была так добра, она была настолько выше этой бедной невежественной девушки, что не решалась оборвать ее, а главное, она помнила об ответственности, лежавшей на Нуме. Призвав на помощь всю чуткость своего доброго сердца, весь свой такт, она попыталась внушить ей правдивыми словами, которые лечат, хотя и слегка обжигают, что брат ее потерпел неудачу, что он не добьется успеха в неумолимом Париже, что им нет смысла упорствовать в унизительной борьбе, опускаться на дно артистической жизни – гораздо лучше вернуться на родину, выкупить свою ферму – средства на это им дадут – и забыть в труде, на лоне природы разочарование, постигшее их из – за этого злосчастного переезда в Париж.
Крестьянка дала ей договорить до конца, ни разу не прервав ее, – она только метала в Ортанс жалящие злобной иронией стрелы своего взгляда, словно вызывая ее на ответ сестре. Наконец, убедившись, что девушка не хочет говорить, она холодно заявила, что они не уедут, что у брата ее появились в Париже разного рода обязательства… самые разнообразные обязательства… от которых он отказаться не может. С этими словами она бросила себе на руку тяжелую, влажную от сырости накидку, висевшую на спинке стула, и с лицемерной почтительностью присела перед Розали.
– Счастливо оставаться, сударыня… Во всяком случае, благодарим вас.
Ортанс пошла ее проводить.
В передней, понизив голос, чтобы не расслышала прислуга, Одиберта сказала:
– В воскресенье вечером, да?.. В половине одиннадцатого, без опоздания.
И властно, настойчиво прибавила:
– Вы должны это для него сделать, для вашего бедного друга… Чтобы влить в него мужество… Ну чем вы рискуете? Я за вами зайду, я вас провожу домой.
Видя, что Ортанс колеблется, она сказала уже почти громко, с угрозой в голосе:
– Да что в самом деле! Вы ведь его суженая, да или нет?
– Приду, приду… – в страхе пролепетала девушка.
Когда она вернулась, Розали, заметив ее рассеянность и грусть, спросила:
– О чем ты задумалась, родная? Все твой роман? Он, наверно, у тебя очень продвинулся! – весело сказала она, обнимая сестру за талию.
– О да, он очень продвинулся…
Помолчав немного, Ортанс проговорила печально и глухо:
– Только я что-то не вижу, какая будет развязка.
Она уже не любила его, а может быть, и вообще никогда не любила. В разлуке и в том «нежном ореоле», который Абенсеррагу придавало несчастье, он издали показался ей человеком, с которым ее связывает сама судьба. Посвятить свою жизнь тому, кто все утратил – и успех и покровительство сильных людей, – это казалось ей гордым и благородным вызовом. Но в каком беспощадном свете предстало ей все по возвращении, какой ужас охватил ее, когда она поняла свою ошибку!
Прежде всего в первое же посещение Одиберты ее покоробили новые повадки этой девицы, ее беззастенчивость, фамильярность и тот взгляд сообщницы, который она бросала ей, шепча: «Он за мной зайдет… Тсс!.. Никому не говорите!» Все это показалось ей слишком поспешным, слишком дерзким, особенно попытка ввести молодого человека в дом ее родителей. Но крестьянке во что бы то ни стало хотелось ускорить события. И при виде этого комедианта, который с нарочито вдохновенным видом откидывал назад свою шевелюру, заламывал то так, то этак провансальское сомбреро на своей характерной голове, который был все так же красив, но теперь старался что-то из себя изобразить, Ортанс поняла, в каком она была заблуждении.
Вместо того, чтобы проявить некоторую робость, постараться как-то заслужить ее благородный порыв к нему, он хранил победоносный и самодовольный вид покорителя сердец и, не тратя времени на разговоры, – да и о чем он стал бы с ней говорить? – начал вести себя с утонченной парижанкой, как с какой-нибудь девкой из Камбет, – обнял ее за талию жестом вояки-трубадура и попытался притянуть к себе. Она тотчас высвободилась и обрела в этом движении разрядку для натянутых нервов, он же выказал лишь глуповатую растерянность, – тогда вмешалась Одиберта и принялась на чем свет стоит бранить своего братца: что это у него за манеры? Уж не в Париже ли он их перенял, в Сен-Жермейнскомпредместье, у своих герцогинь?
– Подождал бы хоть, пока она станет твоей женой!
А затем начала уговаривать Ортанс:
– Он так вас любит!.. Он просто сохнет по вас, вот беда-то!
Когда Вальмажур пришел за сестрой, он счел нужным напустить на себя мрачный и роковой вид, словно на картинке с изображением сцены из оперы:
Я – всадник Гаджута, и ждет меня море.
Девушку могло бы это растрогать, но бедный парень был, по правде говоря, таким ничтожеством! Он способен был только отглаживать ворс на своей фетровой шляпе, рассказывать о своих успехах в благородном предместье или об актерской зависти. Однажды он битый час разглагольствовал о невежливости прекрасного Майоля, который не поздравил его после какого-то концерта, и все повторял:
– Вот он какой, ваш Майоль! Не очень-то он учтив, ваш Майоль.
Одиберта неизменно играла роль надзирательницы и проявляла суровость полиции нравов по отношению к этой довольно-таки холодной влюбленной парочке. Ах, если бы она могла заглянуть в душу Ортанс и увидеть, какой ужас, какое отвращение испытывает девушка при мысли о своей роковой ошибке!
– Ну же, трусишка, ну же, трусишка!.. – говорила она ей, стараясь выдавить из себя добродушный смешок, в то время как глаза ее пылали гневом. Она считала, что дело слишком затягивается, что девушка не решается бросить вызов родителям, которые, конечно, пришли бы в ужас от подобного союза. Как будто это имело значение для такого свободного и гордого существа, – была бы только в сердце настоящая любовь! Но как сказать «Я люблю его» и вооружиться, настроить себя на борьбу, как бороться, когда на самом деле не любишь?
Однако она обещала, и каждый день ее донимали новыми требованиями. Так обстояло и с премьерой «Скетинга», куда крестьянка силой готова была затащить ее, рассчитывая, что успех, рукоплескания помогут ей сразу добиться всего. После длительного сопротивления бедняжка согласилась выйти вечером потихоньку от матери, прибегнув для этого ко лжи, к унизительному заговору с прислугой. Она уступила из страха, по слабости характера, а, может быть, и в надежде, что там она вновь обретет те первые впечатления, тот исчезнувший мираж, что там снова вспыхнет безнадежно угасшее пламя.








