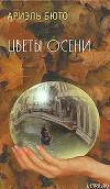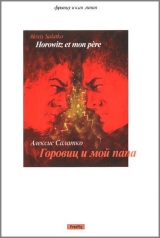
Текст книги "Горовиц и мой папа"
Автор книги: Алексис Салатко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Вот. Началось. Конечно же, первым, что я заметил, – а иначе и быть не могло! – стала stance [43]43
Stance – поза, положение за роялем (англ.).
[Закрыть]Горовица. Его техника, идущая вразрез со всем, что предусматривает академическое обучение, но точно такая же, как у моего отца. Кисть руки расположена ниже клавиатуры, пальцы вытянуты, мизинец приподнят. Он касался клавиши не подушечкой, а всей протяженностью пальца. Это давало возможность сыграть легато наилучшим образом, так как вес равномерно распределялся по нотам, все клавиши получали одинаковую нагрузку. И именно это способствовало блеску исполнения, которое напоминало фейерверк и россыпи искр от бенгальских огней. Еще я обнаружил, что Володя (как и Димитрий) чрезвычайно редко пользуется правой педалью, той, что позволяет словно бы стереть фальшивые нотки, и тут он играл с огнем, потому что малейшая ошибка прозвучала бы как гром с ясного неба. Зато он явно любил левую педаль, и, вместо того чтобы поднять палец и лишь потом снова коснуться клавиши, он продолжал, очень тихо и нежно, тянуть предыдущую ноту, что делало звук поистине волшебным. Такая техника была настолько привычна для меня, что удивления не вызвала, разве что тем, насколько велико сходство. Мне стало интересно, кто кому подражает, но по мере того, как музыка набирала силу, я все лучше понимал, что здесь не может быть никаких вопросов. Вот сегодня передо мной Горовиц – собственной персоной, – а я слышу только своего отца: как он в Шату исполняет ту же самую вещь, Первый концерт для фортепиано с оркестром си бемоль мажор Чайковского, одновременно с пластинкой на семьдесят восемь оборотов. Бабушка была права. Отныне сомнениям места нет. Больше мне бояться нечего, Я ЗНАЮ, кто из них лучший.
Сейчас публика встанет и устроит овацию великому Горовицу, чародею из чародеев Горовицу. «Великолепное исполнение, первозданная красота, дерзость одновременно с неудержимостью…» – порадуется какой-то побежденный талантом маэстро критик. Аплодисменты будут длиться десять, пятнадцать, двадцать минут, и эта овация воздаст должное несравненному пианисту, сумевшему победить своих бесов и предстать в лучах света. Хлопайте, хлопайте, дамы и господа, хлопайте этому человеку – он действительно достоин почитания. Я тоже встану и тоже начну аплодировать, но я повернусь к пустому креслу и стану бить в ладоши – медленно, с чувством, повторяя и повторяя про себя: «Браво, папочка!»
Когда я вернулся в гостиницу, было уже, наверное, больше часа ночи. Возбуждение угасло, его сменила тревога, которая грызла меня изнутри. В каком состоянии я увижу папу? Я злился на себя за то, что оставил его одного, пусть даже он упрямо отказывается воспринимать меня в роли сиделки. Концерт казался мне теперь гроша ломаного не стоящим, просто смехотворным событием в сравнении со зверем, который пожирал его мочевой пузырь.
В отеле «Царевна» горел свет. Я разглядел два силуэта в том зале, где нас кормили завтраком, и тут же узнал в одном из них отца. Собеседник папы сидел спиной к двери, но его голос, бас-профундо, был вроде бы мне знаком… И это благодаря ему здесь образовалась такая же наэлектризованная атмосфера, какая была в Карнеги-холле. Заинтригованный донельзя, зачарованный видом странной парочки, я двинулся к ним. Папа увидел меня и сделал знак: подойди, мол, поближе. Незнакомец обернулся – и я застыл на месте, оцепенев от изумления. Надо же! А я так давно не верю в сказки о привидениях! Между тем тот, кто мне сейчас улыбался, чуть отодвинув дымящуюся миску, был привидением, ничем иным!
– Помнишь месье Штернберга? – спросил папа.
Я кивнул, – выдавить из себя хоть словечко не получалось, – сел за их столик и отказался от предложенного мне лукового супа. Глядя на Штернберга – на выражение его лица, на нелепый наряд, как было не понять, что он прошел все круги ада… Бородка, теперь совершенно седая, торчала во все стороны, отнюдь не была, как прежде, аккуратно подстрижена, разве что в памяти осталось нормальное тогда «ровно до миллиметра», с длинных жирных волос на плечи старенького пальто, выношенного до предела свидетеля многих превратностей судьбы, сыпалась перхоть… Штернбергу не было нужды рассказывать мне свою послевоенную биографию, объяснять, что случилось: номер, вытатуированный на его запястье в лагере смертников, говорил сам за себя. Я жаждал поскорее узнать, каким образом они с папой встретились зимней ночью в Нью-Йорке, но сначала разговор ушел в другую сторону.
– Кажется, мы остановились на этом? – Отец положил на стол фотографию. – И кажется, у тебя накопилось много вопросов… Так вот, месье Штернберг тут именно для того, чтобы ответить на них. Прошу тебя слушать в оба уха, потому что история совсем не простая.
И Штернберг низким своим голосом начал рассказ. Мужчина на снимке, которого я принял за отца, – мой дядя Федор, а балеринка… балеринка – это Соня, дочь Владимира Горовица и Ванды Тосканини. Здесь не может быть и речи о монтаже, было мне сказано первым делом, фотография подлинная, сделана в 1940 году в Нью-Йорке у особняка знаменитого пианиста.
– А я думал, что Федор умер от тифа еще в 24-м году!
– Я тоже так думал, – вздохнул отец.
– Мы все так думали, – подтвердил Штернберг. – Но на самом деле, когда разбушевался тиф, погибла только его жена. Сам же он, твой дядя Федор, сумел вместе с еще несколькими уцелевшими белогвардейцами попасть на какое-то суденышко, и суденышко это долгим кружным путем в конце концов доставило его в Стамбул, куда стекались тогда беженцы из всей Европы. В тот момент Федор был уверен, что его родителей и брата давно уже нет на свете. Нашлись свидетели пожара в административном здании, где жила семья Радзановых, а какой-то молоденький солдатик, служивший якобы в том же эскадроне, что Митя, уверял, что сам видел, как Митю изрешетил минометный огонь. Сирота, без всяких средств к существованию, ко всему еще и раненный в ногу, Федор оказался в госпитале, расположенном в бывшем монастыре. Там его вылечили, и он еще несколько месяцев коптил небо в Стамбуле, пробавляясь случайными заработками. В один прекрасный день его взяли на временную работу кашеваром в столовую американской армии, и вот тогда-то, с помощью некоего высокого чина, пройдя изнурительные таможенные процедуры, Федор раздобыл визу в Соединенные Штаты.
В Нью-Йорке он высадился 6 сентября 1929 года. Единственным знакомым в этих стеклянно-асфальтовых джунглях у него был Горовиц, недавно перебравшийся на Запад и теперь дававший первые концерты на родине дяди Сэма. Федор решил разыскать Володю. Музыкант, узнав, что с ним хочет встретиться земляк, страшно перепугался: что еще за давний знакомый, уж не агент ли он ГПУ, которому поручено Горовица выследить и войти к нему в доверие? Поначалу незваного гостя изгнали, но он вернулся к осаде крепости и смог-таки доказать Лопоухому, что никакой он не предатель, не шпион и уж точно не подлец, просто потерял все вехи на этой земле, и теперь у него на всем белом свете остался один Володя. Речь земляка звучала искренне, и маэстро дрогнул.
Федор, как ты видишь, был красивым молодым человеком, и Горовиц взял его к себе секретарем, предварительно заставив поклясться, что тот никогда, никуда и никому не передаст о «хозяине» ни единого слуха. Тем паче – в Старый Свет. Твой дядя пообещал молчать. Ему показалось, что это совсем не трудно: кому, где он может довериться? С кем поддерживать связь? Зачем? Семья погибла. Все, чего он теперь хочет, – работа и возможность вернуться к танцам, еще киевской своей страсти. Горовиц дал ему и работу, и возможность танцевать.
В 1934 году Федор получил американское гражданство. Теперь он порхал по ночным клубам, где, думаю, отплясывал фокстроты и чарльстоны с грацией Нижинского, иногда общался со всяким сбродом, во всяком случае, перенял кое-какие манеры шпаны. Детей у него не было, он очень привязался к Соне, дочери маэстро, и очень рано обучил девочку всяким антраша. Шли годы, секретарь-танцовщик повсюду следовал за маэстро, заняв прочное место в его свите вместе с настройщиком, диетологом, массажистом и телохранителем, без коих богу пианизма жизни не было.
Пять лет спустя, в 1939-м, пианист окончательно обосновался в Нью-Йорке. И тут, совершенно фантастическим образом, Федор напал на след матери и брата, которых давным-давно числил в Царствии Небесном.
Дело было так. Анастасия, которую вдохновили на это друзья из Ментоны, написала Горовицу длинное письмо и отправила его наугад – как бросают в море бутылку Напомнив вкратце о консерваторских годах и каникулах в Веве, она перешла к основному сюжету – о своем драгоценном сыночке, необычайно, как и Владимир Горовиц, талантливом пианисте, которому только и нужно, чтобы чуть-чуть улыбнулась удача, – и попросила старого знакомца стать другу юности перстом судьбы. Иными словами, организовать для Мити прослушивание – этого, как считала Анастасия, будет достаточно, чтобы сделать старого Володиного знакомца известным.
Федор перехватил это послание и сразу же ответил матери, но не назвался, так как помнил данное Горовицу обещание. Он подтвердил получение письма, сообщив Анастасии, что пишет ей секретарь маэстро. Написал, что, по его мнению, лучше всего для сына госпожи Радзановой было бы приехать вместе с нею в Нью-Йорк, где и состоится встреча. Тогда же были посланы деньги на перелет через Атлантику. Анастасия умирала от желания объявить во всеуслышание, что у нее завязалась переписка с мартышкой (теперь прозвище было окрашено нежностью), и что эта самая мартышка ждет ее по ту сторону Атлантического океана, но потом она подумала: к такой важной встрече следует подготовиться. Димитрия могут попросту осмеять, если он не возьмется за фортепиано серьезно. А чтобы вернуться к прежнему, дореволюционному своему уровню, он должен играть. И она заставит его играть. Вот только для начала Митю надо бы расшевелить. А как? Анастасия позаботилась о том, чтобы он постоянно получал информацию о небывалых успехах своего дружка, известность которого росла как на дрожжах. Госпожа Радзанова попросила секретаря маэстро присылать ей статьи и фотографии, иллюстрирующие путь наверх того, кого англосаксы окрестили «Степным ураганом». Федор так и сделал: он отправлял за океан все, что мог собрать, рискуя нарушить закон молчания, он даже сам фотографировал Горовица. В каждую бандероль он вкладывал немного денег, называя это проявлением солидарности – дескать, соотечественники, находящиеся в изгнании, всегда должны поступать так. Полученные из Америки деньги Анастасия и выдавала по капельке тебе, единственному внуку, заставляя копить их на случай крайней необходимости. В то время она еще надеялась взять реванш у судьбы: как только Митя будет готов, они все поедут в Америку, чтобы присутствовать при его триумфе.
Штернберг продолжал свой рассказ, а я слушал и думал о том, что кабинетный «Эрар» был мною куплен как раз благодаря субсидиям дяди: Федор решил содействовать музыкальной карьере брата, играя роль некоего таинственного благодетеля, который предпочитает оставаться в тени.
Внезапно, когда горизонт начал проясняться, почта перестала приходить. Прямая линия, связывавшая Шату с особняком на 94-й улице, резко оборвалась. Федор потерял работу. Точная причина никому не известна, но, скорее всего, хозяин открыл, какими темными делишками секретарь занимается у него за спиной, и без лишних церемоний выставил его за дверь. Видимо, Федор нарушил их соглашение. Почему? Возможно, ему дорого обходилась страсть к женщинам, и он готов был на все ради удовлетворения этой страсти. Может быть, он продал несколько снимков газетчикам… А может быть, связался с преступниками, всегда готовыми на подвохи, подлости, шантаж, рэкет… Как бы там ни было, шел 1941 год, и мой дядя снова пропал из виду.
В 1945-м Штернберг с несколькими сотнями выживших жертв Холокоста, в свою очередь, прибыл в Америку. Его приняла группа волонтеров, взявших на себя помощь беженцам. Среди них оказалась женщина, американка польского происхождения, муж ее был родом из Киева, он отдал жизнь за спасение Европы. Фамилия этой женщины была Радзанова.
Выяснилось, что после того, как Горовиц прогнал его, Федор пошел служить в американскую армию, а всего за месяц до вступления США в войну женился на сестре своего товарища-поляка.
Моему дяде высадка американских войск во Франции казалась вожделенной возможностью увидеться с братом, который жил в Шату, однако, к несчастью, всех надежд день «Д» оправдать не смог. Федор Радзанов пал за Францию 6 июня 1944 года.
Узнав обо всем этом, потрясенный Штернберг тут же написал Димитрию и вложил вместе с письмом в конверт этот трогательный снимок, чтобы доказать: он не бредит, это не выдумки человека, потерявшего рассудок в Аушвице-Биркенау.
Боже ты мой, наконец-то я понял, почему отец так легко согласился отправиться со мной в Нью-Йорк. Вовсе не ради Горовица! Просто он надеялся встретить свою невестку и племянника: ко всему еще, я узнал, что у меня есть двоюродный брат, который родился в июле 1944 года и которого зовут Игорь.
Но и тут не повезло: напоследок Штернберг сообщил, что вдова Федора снова вышла замуж и живет теперь в Австралии…
Через несколько часов мы уже были в самолете. Этих нескольких часов как раз хватило на паломничество в Сохо – туда, где жил мой умерший, воскресший и снова умерший дядя. Мальчишки скользили по ледянкам, вытянувшимся на тротуаре вдоль суровых фасадов Грин-стрит, и папа вспомнил, как они с братом сломя голову мчались на стареньких санках вниз по Алексеевской улице в Киеве. Федор сажал его себе на плечи – и продолжал тащить на себе в течение всех лет разлуки, хотя их и разделял океан. Я был оглушен этой безумной, но правдивой историей. Почему папа держал ее в секрете? Он признался, что в письме Штернберг сказал не все – папа надеялся увидеть Федора живым и сделать мне сюрприз. У него всегда было чувство, будто есть что-то, что его подталкивает вперед, ну, как бывает с ампутированной ногой, которую ощущаешь как живую. И даже теперь в глубине души у него сохранилась уверенность, что старший брат вовсе не лежит под белым крестом, одним из многих тысяч на скалах Нормандии – нет, он верит, что Федор снова сумел уцелеть, и в одно прекрасное утро они смогут наконец-то обнять друг друга. Вот только под ногами Мити лед уже пошел трещинами, и Федору, коли он жив, придется очень сильно разогнать свои санки, если хочет успеть добраться вовремя.
Штернберг довез нас до аэропорта в своем служебном автомобиле. Он работал в самой большой нью-йоркской прачечной, и в его обязанности входило мотаться челноком между Верхним Ист-Сайдом и доками, где он выгружал грязное белье с пассажирских судов. По воскресеньям он пел в хоре православного храма Святого Николая Чудотворца. Папа вынул из пачки сигарету, поднес к губам, стал нашаривать в кармане спички. Штернберг в это время рассказывал, что его освободила Красная Армия: солдатики, которым едва исполнилось семнадцать, они могли быть детьми тех, кто и его, и папу, и многих других выгнал в 20-х годах из России. Они протягивали ему папиросы, угощали шоколадом, просили улыбнуться в камеру, чтобы увековечить эту минуту. Папа с досады выбросил в окно и сигарету и пачку. Мы сидели втроем на переднем сиденье, я – в середине, между двумя заклейменными каленым железом судьбами. В зеркале заднего вида в последний раз перед нами пламенели окна небоскребов Манхэттена.
Из-за тумана самолет оторвался от земли с опозданием на три четверти часа. Папу свалил крепкий коктейль, замешанный на усталости, боли, волнении. Стюардесса раздала черные повязки – для сна. Папа взял одну и сразу же прикрыл ею глаза. От этого зрелища мне стало совсем нехорошо: уж слишком он стал похож на смертника, привязанного к столбу в ожидании казни. Папа согласился принять таблетку снотворного, но взял с меня честное слово разбудить его, когда самолет окажется над местами, где была высадка войск. Он тщательно изучил план полета и ни за что на свете не хотел пропустить восход солнца на мысу, где погиб брат.
Прежде чем покинуть Нью-Йорк, я накупил газет с отчетами о юбилее Горовица.
– Хочешь посмотреть, как это было?
– Что было?
– Концерт!
– Не хочу.
– Он железно играл!
– Да? Зато здоровье не железное! – сказал папа и провалился в сон.
Между небом и землей я вновь увидел гнусный кошмар, который преследовал меня со времен войны. Димитрий стоит на коленях перед офицером с фарфоровыми глазами, тот вынимает из кобуры револьвер, высыпает все пули, кроме одной, крутит барабан и с садистской улыбкой протягивает мне оружие. Фашист приказывает мне сыграть с папой в русскую рулетку. Если откажусь, они сделают с нами то же, что с собакой Штернбергов. Каждый раз, как я нажимаю на спусковой крючок, папа называет одну из нот гаммы. До… Ре… Ми… Фа… Я вздрагиваю и просыпаюсь. Пот струится по моим вискам. Папа по-прежнему спит, привалившись ко мне. Я поправляю его одеяло. На меня океанским приливом накатывает сумасшедшая любовь к этому упрямому ослу.
Папы не стало вскоре после нашего возвращения из Нью-Йорка. Его последние дни не были ни горькими, ни печальными, наоборот, их освещала надежда на возвращение брата из царства теней. Он ожидал почтальона с таким же нетерпением, с каким мальчишка ждет Деда Мороза.
– Нет, сегодня для вас опять ничего, месье Радзанов, – говорил почтальон. – Но ведь, знаете, почта в наше время так часто запаздывает…
Всякий раз, как я вспоминаю фигуру папы в халате за стеклами эркера гостиной, мне видится картина Эдварда Мунка. Папа бросил курить – в память о мадам Штернберг, а кроме того, ему не хотелось, чтобы я заранее разочаровался в будущих пациентах. Не могут же все быть такими же упертыми, как он сам! – увы, эта хорошая мысль пришла к нему слишком поздно… Он еще успел порадоваться тому, как хорошо я сдал экзамены по специальности, а я не рассказывал, какая в действительности жестокая схватка происходит в моем сознании, как мне хочется бросить учебу – трудно учиться, если тебя так подтачивает бессилие перед болезнью отца. Конечно, отказ от театра был для меня страшным горем, но разве хватило бы у меня духу каждый вечер подниматься на сцену? Нет, я предпочел бы оставаться в тени, «играть в доктора» с людьми, поневоле вовлеченными в мою игру, играть, зная, что нет никакого лекарства от старости и нет никакого лекарства от немощи. Можно сделать так, чтобы стало полегче (немножко), можно задержать (чуть-чуть) их наступление, но победить – никогда.
Он больше не притрагивался к клавишам – не потому, что страсть к музыке угасла, а потому, что изуродованные болезнью пальцы уже не могли выдержать бешеного ритма. Зато он очень часто слушал музыку, меняя пластинки на своем стареньком проигрывателе. Папа запретил мне покупать новый – современность войдет в этот дом, когда он выйдет из него… вперед ногами.
Особенно нравились папе Альфред Корто и Дину Липатти. О Лопоухом мы даже не вспоминали.
В конце 1953 года его состояние резко ухудшилось. Каждый человек назначает себе предел в битве с Костлявой. Папа решил держаться до тех пор, пока я не принесу клятвы Гиппократа. В этот день он настоял на том, чтобы я открыл шампанское, и, в момент, когда мы чокались, вспомнил нашу перепалку в отеле «Царевна» в вечер юбилея. Единственное событие, нарушившее гармонию наших отношений.
– Скажи, а ты на самом деле думал то, что сказал мне тогда?
– Пап, ну я был не прав, я попросил прощения, и хватит об этом, хорошо?
– Знаешь, сынок, я всегда был о тебе очень высокого мнения. И все, что я тебе советовал, мне казалось справедливым, правильным. Но если ты думаешь не так…
– Пап, ну, перестань, да ясно же!..
Но потом он снова принялся ковырять болячку:
– Если бы Федор был жив, хочу сказать, если бы он не играл с нами в призрак оперы, твоя бабка, наверное, не могла бы так давить на нашу жизнь. Он был ее любимчиком и знал это, скорее всего, это и привело его к решению затаиться. Радикальный способ перерезать пуповину, которая его душила. И тогда все надежды матери обратились на меня, и мне пришлось нарастить носорожью шкуру, чтобы защищаться от ее чудовищных когтей. Видимо, это сказалось и на моем характере, и на моем способе тебя воспитывать. Но я думаю, ты достаточно умен, чтобы сделать скидку на обстоятельства…
Он торопился воссоединиться с Виолетт на кладбище – тогда сторож наконец-то перестанет говорить, чтобы месье убирался отсюда, потому как пора запирать ворота. Отныне он зимой и летом станет свободно, без всякого ограничения во времени, разговаривать со своей возлюбленной. Вот хорошая сторона вечности! Но у нее есть и дурная сторона. Лежать под вересковой землей между женой и матерью, которые злобно таращатся друг на друга – Боже, какая тоска! Заговоришь с одной, другая надуется до скончания веков, говорил папа. А я утешал его тем, что наоборот, это будет для него идеальный случай проявить свой талант арбитра!
За пару недель до смерти он привел с кладбища собаку. Пес блуждал среди могил, иногда поднимая лапу, чтобы оросить анютины глазки и бессмертники. Потом он увязался за папой и проводил его до дома. Этот потерявшийся трезор был точной копией щенка, который красовался на этикетках виниловых пластинок. «Голос его хозяина». И не зря! Всякий раз, как папа включал музыку, пес становился на задние лапы, пел и вертелся волчком. Обнаружившиеся у найденыша и столь явные способности к танцам привели отца к решению назвать его Федором. Иногда, приподняв собачье ухо, папа тихонько разговаривал с ним, и чувствовалось, что между этими двоими существует нечто большее, чем просто согласие.
Димитрий Радзанов умер 9 сентября 1953 года. Он навсегда останется ровно на год моложе своего собственного отца. Я был с папой весь день. Ему захотелось навести порядок, и мы принялись, стоя на коленях, разбирать пластинки. Можно сказать, папа ушел под музыку, хотя проигрыватель оставался выключенным. Мы оба знали наизусть содержимое каждого конверта, и достаточно было прочесть имя исполнителя и название вещи, как она тут же начинала звучать в ушах. Наверное, отец заранее назначил час своего ухода, наверное, он знал, под какую музыку покинет землю, потому что он упал, держа в руках «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса [44]44
В оригинале – Рихарда, но это ошибка!
[Закрыть]. Именно этот вальс папа играл в день и час, когда они с мамой познакомились.
От порога своего последнего обиталища папа может каждый вечер наблюдать, как закатное солнце воспламеняет фасад заводов «Пате-Маркони».
Сразу после похорон мы с Федором уехали в Веве. Едва успев открыть дедушкино шале, я узнал, что не один решил насладиться бабьим летом на берегах швейцарских озер: сюда инкогнито приехал и Горовиц – лечиться в одну из клиник близ Люцерны. Его скрутило день в день через месяц после триумфа в Карнеги-холле, когда он давал названный «шутовским» концерт в Миннеаполисе. Для этого внезапного перехода из света во мрак можно было бы найти не одну причину. Непрерывно повторяющиеся колиты, которые доводили его до безумия; ссоры с Вандой, начавшиеся не вчера, но достигшие апогея и заставившие его ночевать в гостинице; проблемы с Соней – странным созданием со слегка поехавшей крышей; нападки прессы, объектом которых он стал с тех пор, как навострился пускать пыль в глаза и театрализовать свои выступления (пианиста обвиняли в том, что он страшится риска и потому играет одно и то же, предпочитая вещи, отвечающие его желанию производить впечатление на публику) – короче, одно к другому, и в результате это привело к переносу sine die [45]45
Sine die – на неопределенный срок (лат.).
[Закрыть]всех гастролей и лечению в психиатрической клинике.
Это была не первая его депрессия. Если сверяться с альбомом Анастасии, в 1938-м он уже пребывал в подобном состоянии после того, как ему удалили мнимо воспалившийся аппендикс (его мать умерла от перитонита, и при малейшей боли в брюхе ему уже требовались похоронные дроги). Кстати говоря, именно в 1938-м папа вернулся к игре на фортепиано, – забавно, что его расцвет пришелся на период полного молчания Горовица. А теперь этот последний, стало быть, опять попал в нокдаун, и врачи встряхивают его, мало-помалу возвращая к жизни с помощью сеансов электрошока. Мне вдруг вспомнилось, как папа обыграл мое «железно» в самолете: «зато здоровье не железное!»… он отлично чуял ловушку, он раньше всех заметил громадного червя хандры, который был нацеплен на рыболовный крючок успеха!
Я был искренне огорчен случившимся. Володя стал в какой-то степени членом нашей семьи, и павловский рефлекс побудил меня навестить его в той клинике Люцерны, где он проходил курс лечения. А то, что клиника оказалась совсем рядом с Веве, стало для меня знаком, подтверждавшим: следует сделать этот шаг.
В клинике сказали, что, должно быть, у меня неверные сведения, потому что никакого господина Горовица тут на лечении нет. Месье явно ввели в заблуждение. Я настоял на том, чтобы меня принял директор, воспользовавшись вместо пропуска своим кадуцеем [46]46
Кадуцей – эмблема врачевания на автомашинах врачей.
[Закрыть].
– Чем могу служить, доктор Радза…
– Радзанов. Мне хотелось бы поговорить с господином Горовицем. И успокойтесь: мы с ним знакомы.
– Крайне огорчен, доктор Радзанов, но никакого господина Горовица в нашей клинике сейчас не лечат.
– Ах, вы его не лечите! Так давайте я этим займусь!
Я положил на письменный стол директора коробочку с суппозиториями.
– Свечи со спазмолитиком. Сделаны только на растительной основе.
Именно в этот момент до наших ушей, перекрывая крики пациентов, которые переругивались в зале для отдыха, донеслись звуки фортепиано. Мне показалось, что я узнал мелодию: «Excursions» Сэмюэла Барбера [47]47
Сэмюэл Барбер (1910–1981) – американский композитор. В ранних сочинениях близок к традициям романтиков, в дальнейшем сочетал романтические традиции с элементами неоклассицизма. Произведения Барбера входили в репертуар Владимира Горовица.
[Закрыть].
– Пусть ставит их утром и вечером. При его расстройстве очень хорошо помогает.
Покидая клинику, я радовался – да, радовался и испытывал облегчение оттого, что Володя продолжает работать, заниматься музыкой, и я от души желал ему такого же счастья, какое ощущал Димитрий в Шату, когда стал играть, движимый любовью. Но какая любовь могла вдохновить Горовица? Вот в чем загвоздка. Он брел один по пустыне, и пустыня эта становилась все более и более бесплодной. Отец в ГУЛАГе, мать умерла, жена – истеричка, дочь – психопатка, ни одного друга, с которым можно было бы поделиться своими сомнениями, ни одного коллеги, с которым можно было бы разделить страсть, ни одного ученика – он не верил в то, что обучение возможно. Его окружение? Никого, кроме клеветников, завистников, паразитов и гангстеров, все только и мечтают прибрать к рукам его денежки, только и ждут его провала. Теперь это случилось. И единственный, кто действительно озабочен судьбой бедняги, – я, Амбруаз Радзанов… Внук самой неискренней из тех, кто пел ему хвалы, сын самого одаренного из его однокашников, племянник его бывшего секретаря, последнее звено цепочки, тянувшейся с Украины, последний живой представитель длинной линии хранителей святыни.
У Горовица не осталось никого, кроме меня, но в поезде по дороге в Париж я понял с безжалостной ясностью, что и у меня не осталось никого, кроме Горовица.
Вернувшись из Веве, я решил не продавать наш домик. Я открыл там свой кабинет. Стану доктором для бедных, таким, как Детуш, который, по крайней мере, нашел, куда приложить силы. Когда ты болен, не важно, сидишь ли ты без гроша в кармане или у тебя лопается бумажник, – ты все равно бедный-несчастный. Скоро ко мне потянутся первые пациенты: молодые побеги, старые клячи – болезнь возраста не выбирает. Я буду принимать одного за другим, одного за другим – и овладею своим ремеслом, найду слова, которые успокаивают, слова, которые снимают напряжение – за неимением тех, что способны спасти. Моя простота и моя преданность делу будут в конце концов вознаграждены. Папин рояль займет место в приемной, крышка останется открытой – пусть мои маленькие пациенты пробуют счастья…
С годами я выработаю оптимальный ритм. Каждые полчаса – их станут отбивать стенные часы – новый больной. Каждый день после работы прогулка с Федором по холмам Шату. Он побежит впереди меня к кладбищу в Ландах, где ждут нас остальные члены семьи.
А воскресенья я стану проводить по-разному – в зависимости от времени года. Летом буду ездить в Везине, восхищаться медового цвета ножками, мелькающими у белых бортиков. Зимой доберусь до стадиона в Монтессоне, чтобы посмотреть, как барахтаются в грязи любители футбола. Пронзительный свисток остановит матч. Игроки – все как один – вскинут головы, пытаясь понять, откуда этот несвоевременный сигнал. А я пойду дальше, сжимая в кармане отцовскую реликвию.
Время от времени мне придется из вежливости бывать в гостях у клиентов из Пека или Везине.
– Разрешите представить вам доктора Радзанова. Великий меломан. Его семья была очень тесно связана с прославленным…
– Ох!.. Ах!.. Как интересно!..
И во время одной из таких вечеринок с вином и сигарами кто-то обязательно скажет:
– Я слышал по радио… тело обнаружили в ее собственной женевской квартире… предполагают, что она покончила жизнь самоубийством… О, она давно уже была не в порядке… говорят, ее отец не приехал на похороны, только выбрал музыку, да-да, не хотел прерывать турне… как трудно быть дочерью великого человека!..
Кусочек кабаньего мяса или мяса косули застрянет у меня в горле, я побелею как мел, а хозяйка дома шепнет на ухо нескромному сотрапезнику: «Потише вы насчет Горовица! Тссс!»
– Мне, право, неловко, – станет оправдываться тот. – Я, право, не знал, что вы знакомы… Скажите, а она была музыкантшей, как ее отец?
– Нет, мой дядя занимался с ней балетом и мечтал сделать из нее звезду.
Бабушка сняла пенки с легенды, сохранила в этой легенде только самое ценное для нее самой, и мне потребуется слегка ободрать позолоту, оформив траурным крепом фотографию моего дяди с маленькой Соней Горовиц – той самой, которую в сорок один год обнаружили мертвой в одном женевском палас-отеле [48]48
В оригинале именно так: в одном случае – квартира, в другом номер отеля. Видимо, сначала тут – слух, а потом – точная информация.
[Закрыть]. Федор на этом снимке предстает во всем блеске, и с какой нежностью ему улыбается балеринка! В глазах девочки нет отсветов безумия – они появятся позже из-за эгоизма отца и его нежелания понять ребенка. А что, если Володя прогнал своего секретаря просто из ревности? Только ему одному известна истина, и моя роль не в том, чтобы его судить, а в том, чтобы поддерживать огонь памяти, выполнять долг памяти. Я стану вести этот альбом-дневник дальше, чего бы мне это ни стоило, я стану записывать туда все факты, только факты – о провалах и бедах, о почестях и лучах юпитеров, о геройстве и трусости, я буду записывать все – вплоть до последнего вздоха человека, который даже не поздоровается со мной, встретив на улице. И тем не менее мы связаны крепче некуда – никому не дозволено в этом усомниться.