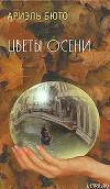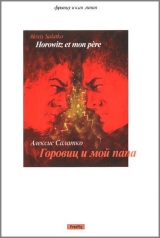
Текст книги "Горовиц и мой папа"
Автор книги: Алексис Салатко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Хоть говори потише! В конце концов, у нас будут из-за тебя неприятности.
Дмитрий пожимал плечами, усмехался, издевался над всеобщим малодушием.
– Если бы у французов хватило смелости сказать вслух то, что они говорят шепотом, мы не сидели бы в таком дерьме!
По мнению папы, Государственная Тайна заслуживал расстрела, и, чтобы спасти Штернбергов, следовало дергать за совсем другие ниточки. Эмиль Демоек по-прежнему пропадал на набережной Орсэ, но никто толком не знал, в чьем он лагере. А может, он и вообще двустволка? И нашим, и вашим? Как бы там ни было – он все еще на плаву…
Отступать было не в характере отца, и слишком сильно он пострадал от красного террора, чтобы не испытывать к коричневой чуме столь же непреодолимого, животного отвращения. Но это было не единственным стимулом для его мятежа. Я узнал (откуда узнал – понятно), что Горовиц, со своей стороны, дает все больше благотворительных концертов, и сборы от них целиком идут на нужды первых беженцев. Папа не смог оставаться безучастным.
Он продолжал встречаться с монмартрской компанией, точнее – с теми из ее членов, кто не соглашался гладить мерзкое чудовище по шерстке. Дядюшка Фредди, Чарли Флэг и Марсель Эме поддерживали добрые отношения с теневой армией.
Однажды ночью меня разбудили доносившиеся из сада шорохи и шепот. Я подошел к окну: под липами виднелись неясные силуэты. А-а-а, это папа в пижаме, он поддерживает какого-то человека, с трудом стоящего на ногах… Я потихонечку спустился по лестнице. Мама кипятила воду и готовила компрессы. Папа переговаривался вполголоса со своим другом Чарли Флэгом – тот, сгорбившись, сидел на табурете посередине кухни. Лицо у Чарли было все распухшее, один глаз открыт, другой закрыт, из носа на усы тянулась черная сопля, на взъерошенных волосах запеклась кровь. Говорил он плохо, и я понимал не все. Эти, в черных кожаных пальто, схватили его и отвезли в отель «Мажестик». Там его в течение нескольких часов били по голове мешками с каменной крошкой. Заметив меня, замершего на пороге, Чарли умолк. Потом сделал знак подойти.
– Смотри, я всю ночь боксировал с Песочным Человеком, и он устал первый…
Его беззубая улыбка, скорее, пугала, чем успокаивала. Такого, насмерть перепуганного тем, как бы Песочный Человек не заглянул теперь ко мне – поинтересоваться причиной моей бессонницы, меня и отправили в постель.
Позже я узнал, что избиение в отеле «Мажестик» имело непоправимые последствия. Чарли Флэг больше не мог ни читать, ни писать. Этот будущий писатель, прозаик, которым восхищались Марсель Эме и Луи-Фердинанд Селин, никогда не напишет романа из жизни Димитрия – как мечтал перед войной. Пианист, делающий грампластинки с записями своих собратьев, и писатель, окончательно и бесповоротно забывший буквы, – два сапога пара…
Чьему божественному вмешательству Чарли Флэг оказался тогда обязан жизнью? Может быть, помогла его бывшая подруга Эвелин Ламбер? Она ведь, по примеру Арлетти, которой во всем подражала, якшалась с господами из вермахта. Сам он спасся, выжил, но, в любом случае, ничем теперь не мог помочь затворникам с улицы Бержер.
В то время я начинал многое понимать благодаря нашему учителю – пылкому коммунисту, обожавшему метафоры.
– Представьте себе, – говорил он нам, – грушу, половина которой подгнила, а другая в порядке, – и сразу увидите, что стало с Францией.
– Хорошее сравнение, – заметил, услышав эти слова, отец. – Пусть-ка твой учитель зайдет к нам на аперитив, я ему объясню, кто такой Ленин.
– Да он сам знает!
– Нет, не знает.
– Говорю, знает. У него даже бородка ленинская.
– Умный человек, если он знает, кто такой Ленин, не носит ленинской бородки.
Мама, которая по-прежнему работала телефонисткой в издательстве «Деноэль», не хотела бросать и актерскую работу, пропуская мимо ушей предостережения отца, разоблачавшего засилье немецкой цензуры в кино и издательском деле. Однако среди «трепачей и позеров» оказались не одни коллаборационисты. Превер, Карне, Траунер [22]22
Траунер Александр (1906–1993) – знаменитый художник-декоратор, работавший в плодотворном сотрудничестве с Жаком Превером, Марселем Карне и др.
[Закрыть], Косма… В то время эти всплывавшие в разговоре имена ничего мне не говорили. С Превером я пару раз сталкивался на набережной Пуэн-дю-Жур. Немного неуклюжий, всегда недовольный на вид, он болтал, не умолкая и не выпуская изо рта окурка. Любил детей и, когда видел меня, строил смешную клоунскую рожу. Время от времени он приезжал в Париж, но основным местом его пребывания была гостиница «Золотая голубка» в Сен-Поль-де-Ванс – отель, где собирались тогда сливки кинематографа. Превер одним из первых понял, что евреи рисковали собственной шкурой, и уговаривал своих друзей Косма и Траунера перебраться следом за ним в королевство цикад [23]23
Жак Превер во время Второй мировой войны был освобожден от воинской повинности. Он оставил Париж и поселился в Сен-Поль-де-Ванс. Его друзья Косма и Траунер тайно работали с ним там над фильмами.
[Закрыть], чтобы о них хотя бы на время забыли – и надеясь, что времени хватит. А мама краем уха услышала где-то обо всей этой истории и уловила на лету пользу, которую можно из нее извлечь. Превер выслушал маму и сделал все необходимое, чтобы его друзья из Сопротивления могли вывезти из Парижа и Штернбергов. Но увы… налет полиции на улицу Бержер перечеркнул все планы эвакуации. Стояло лето 1942 года. Начиналась массовая облава с отправкой на Вель д’Ив [24]24
«Vel d’Hiv» – сокращенное «Velodrome d’Hiver», «Зимний велодром». 16–17 июля 1942 года французской полицией были арестованы в Париже и его пригородах свыше 13 000 евреев, большинство из которых были доставлены на Зимний велодром, превращенный в центр для интернированных. Условия содержания в этом, по существу, концлагере были ужасные. Около сотни узников покончили жизнь самоубийством, каждый, кто пытался бежать, расстреливался на месте. После шести дней на «Вель д’Ив» евреев отправили во французские лагеря Дранси, Бон-ла-Роланд и Питивьер, откуда потом этапировали в немецкие лагеря смерти. Позднее, в 1959 году, этот велодром был разрушен. А с 1994 года воскресенье, следующее за 17 июля, во Франции отмечают как «День скорби и поминовения жертв „Вель д’Ив“».
[Закрыть].
Спустя сутки после облавы мы услышали, как кто-то царапается в дверь нашей халупки. Папа выключил радио, накинул халат и пошел открывать. За дверью он увидел Мойше, немецкую овчарку, которую Штернберги осенним днем 1938 года подобрали, гуляя по лесу Марли. Припадая на раненую лапу, собака брела по дорожке. Ошейника на ней не было. Наши друзья тогда забрали ее с собой, вылечили, и с тех пор овчарка слушалась их с полувзгляда. Мойше умел даже промолчать и рта не открыть, если лаять было нельзя. Так и вижу Мойше лежащим у ножки кровати и безмолвным как могила.
Для того чтобы, повинуясь своему безошибочному нюху, добраться до нас после облавы, ему пришлось пересечь все западное предместье. Жалкий вид овчарки говорил о том, что по дороге пришлось драться – и с другими собаками, и с полицаями. Мы подлечили Мойше и, поскольку ему явно у нас понравилось, оставили себе, так что теперь каждый вечер мы с папой и собакой отправлялись в Буживаль погулять вокруг дачи Тургенева. Но однажды мимо проходил немецкий патруль. Мойше бросился на офицера и вцепился ему в горло. Один из солдат выстрелом уложил собаку на месте, затем несколькими ударами приклада размозжил Мойше череп, а два других фрица в это время держали под прицелом маузеров нас с папой. Папа на своем безупречном немецком объяснил патрульным, что это вообще не наша собака. У нас потребовали «бумаги». Но папа вышел гулять без документов. Солдаты заставили его встать на колени перед офицером, а тот вытащил револьвер из кобуры и приставил дуло к виску Димитрия. Я был испуган до смерти. Папа бормотал что-то непонятное. Офицер с бесцветными, будто фарфоровыми глазами сделал мне знак подойти поближе.
– Твой отец… террорист?
– Нет! Пианист! – выпалил я.
Не знаю, почему это слово так подействовало на наших палачей, но – случилось чудо, не иначе! – нам позволили уйти.
После трагедии со Штернбергами, ненависть бабушки к маме стала просто для нее наваждением: «Эта безграмотная курица приносит несчастье всем, к кому приближается!» Фразочки такого рода, к счастью, не вылетали за пределы ее кельи, и я был единственным, кто испытывал на себе вспышки дикого гнева Анастасии.
Что до папы, он продолжал сражаться в одиночку. Теперь, придя с завода, отец не притрагивался к клавишам – он запирался в своей берлоге и иногда пропускал даже священный час ужина. Из форточки тянулся дымок от сигарет, которых он, склонившись над верстаком, выкуривал несчетное количество. Мама не сразу, но сумела все-таки проникнуть за эту дымовую завесу. Оказалось, что ее неисправимый супруг вернулся к старому блокноту в молескиновой обложке с чертежами и расчетами адской машины, некогда предназначавшейся для того, чтобы превратить Ленина в кровавый бифштекс. В первый и последний раз я тогда видел маму рассерженной. Блокнот полетел в печку, а папа, вынужденный отказаться от робких попыток покушения на Гитлера, снова взял в обычай после двух-трех раундов с Лопоухим – ничто лучше не успокаивало нервы – ужинать в семейном кругу.
Нехватка продовольствия, бесконечные перебежки из Билланкура в Шату и обратно – перебежки, потому что надо было успеть до комендантского часа, – и постоянное напряжение, в котором мы жили, все это, в конце концов, всерьез подорвало мамино здоровье. Она сильно похудела, и ее личико, все такое же прелестное, стало смертельно бледным. Тем не менее Виолетт старалась не поддаваться усталости, продолжая свою профессиональную карьеру и оставаясь преданной женой и матерью.
Пришло освобождение. Мне пошел пятнадцатый год. По части низости и трусости меня – так, во всяком случае, казалось мне самому – уже трудно было чем-то удивить, всякого навидался. В мае того года нежданно-негаданно выпал снег. А в августе, рассекая ликующие толпы, по Елисейским полям прошли как победители танки знаменитой дивизии генерала Леклера. Стоя на подножке американского джипа, перепоясанный трехцветным шарфом Эмиль Демоек радостно приветствовал парижан.
Но не все могли разделить этот ура-патриотизм. Государственную Тайну застрелили на авеню Боске, у афишной тумбы. Эвелин Ламбер, которой грозила бритая голова, сбежала в Южную Америку. Политические эмигранты доктор Детуш и его жена, оставаясь пока в Бад-Вюртембергском замке Сигмаринген, готовились к встрече лицом к лицу с ненавистью целой нации. Что же до патрона моей мамы, Робера Деноэля, которого привлекли к суду за публикации Селина и Ребате [25]25
Люсьен Ребате (1903–1972) – журналист и писатель, с 1945 по 1952 год отбывавший заключение как активный коллаборационист.
[Закрыть], то он был убит на бульваре Инвалидов еще до начала процесса.
Папа относился ко всем этим мелким и крупным событиям с полнейшим безразличием. Оставаясь затворником в своем устричном садке, он даже радио не слушал, как не слушал и советов близких, настаивавших на том, чтобы он заткнулся. Он – как и его матушка – был совершенно не способен лишить себя удовольствия, он то и дело отпускал колкости и страшно этим себе вредил. Кстати о матушке – Анастасия не жила больше в коллеже, снова заполнившемся криками школьников и свистками надзирателей, теперь бабушка отправилась поправлять здоровье в шале своего отца в Веве. Оттуда она прислала мне почтовую открытку ко дню рождения и немножко денег – с целью умножить запасы «денег Радзановых», в соответствии с нашим давним договором.
Возвращаясь к папе, расскажу о том, что произошло через несколько дней после самоубийства Адольфа и Евы в их берлинском бункере. Во время довольно мрачного периода, когда при чистках справедливые обвинения смешивали с простым сведением счетов, на заводах Пате тоже заседал суд исключительной юрисдикции, целью которого было утвердить список уволенных под самыми разнообразными и беззаконными предлогами. А надо сказать, что во время английских бомбардировок Парижа – в апреле 44-го, как раз на Святой Неделе – папа пошутил так: «Лучше бы они забросали нас шоколадными яйцами, эти олухи!» Я чуть не умер со смеху, но надо же понимать: чувство юмора, как и здравый смысл, достаются далеко не каждому И вообще дело было не в том. На самом деле папа никогда не скрывал своих антикоммунистических взглядов, и потому члены партии, составлявшие большинство в трибунале, попросту воспользовались удобным случаем, чтобы расквитаться с тем, кто их так презирал. Рубили сплеча, приговоры были не только постыдны, но и противозаконны, но дирекция из трусости утвердила решение уволить папу и его коллег с заводов Маркони, и мы прочно сели в лужу.
1946 год. Джаз в Сен-Жермен-де-Пре! Фантастическая радость жизни, взрыв чувств после пяти лет дикой их задавленности – прямая противоположность печали и растерянности, которые охватили наш дом. Решительно, всё и всегда у нас, у Радзановых, вверх тормашками. Высадка американцев. Жизнь, казалось, вошла в колею. Только мой отец, полностью из этой колеи выбитый, потерял вкус ко всему на свете. Жестокость увольнения, которому предшествовала кафкианская пародия на процесс, довела его до состояния, близкого к безумию. Он уже не понимал, где находится, что с ним. Хуже того, он уже не понимал, кто он сам. Он перестал быть русским, а Франция, которую он выбрал, страна, заменившая ему родину, страна, за которую он дрался, его отторгала. Из человека без гражданства он стал парией. И это унижение вновь пробудило в папе комплекс побежденного, который преследовал его со времен разгрома в 1917-м. Старая рана опять принялась кровоточить. Он больше не мог бороться с судьбой. Проигравшим он родился – и сколько бы ни сражался, сколько бы ни протестовал, сколько бы ни сотрясал небо и землю, сколько бы ни атаковал ветряные мельницы, нахлобучив на голову тазик для бритья, – проигравшим он умрет.
В воскресенье утром вместо того, чтобы идти на футбол, он продолжал валяться в постели. Он остался равнодушен даже к появлению на Монтессонском стадионе «Черного паука» [26]26
Прозвище знаменитого вратаря Льва Яшина (1929–1990). В 16 лет Яшин дебютировал в футбольной команде г. Тушино на первенстве Московской области, в 1949–1970 гг. был вратарем московской команды «Динамо», им сыграно 326 матчей. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион Олимпийских игр (1956) и Европы (1960); участник трех чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 г. первым из советских футболистов признан лучшим футболистом Европы и удостоен приза «Золотой мяч».
[Закрыть]– в Монтессоне проходил товарищеский матч между командами завода Пате и Тушинского завода. Как жаль! Папа наверняка успел бы первым сказать все хорошее в адрес Льва Яшина, знаменитого вратаря в черной форме, благодаря которому советская сборная одержала в 1960 году триумф. Между прочим, когда этот Яшин вставал в боевую позицию и приготавливался встретить мяч, он и впрямь напоминал паука-птицееда, плетущего в воротах сеть для жертвы.
Папина ракетка, зажатая в винтовой пресс гайками-барашками, лежала без движения на шкафу, а между тем по теплу на кортах в Везине уже начали играть в теннис… А сам я уже начал с вожделением пялить глаза на девичьи ножки… И день ото дня невыносимее становилось сочетание всего этого брожения соков, всей этой весны в сердцах и – мрака, в котором Димитрий пребывал сам и в который, похоже, хотел погрузить нас. Он даже не делал попыток найти работу. Он больше не имел права называть себя инженером, он уволен – это висело на нем как ярлык, потому в лучшем случае он мог рассчитывать лишь на сочувственную улыбку, а в худшем – на грубый отказ.
Раненый зверь покидал свою берлогу только для того, чтобы пройтись с Чарли Флэгом по кабачкам предместья, где одинаково нищие дружки изливали накопившуюся злость, безжалостно нападая на целый мир.
Больная, страшно похудевшая Виолетт выбивалась из сил, одна зарабатывая на жизнь. Мне случалось после лицея дожидаться ее у выхода со службы. Эти дежурства на улице Амели навсегда останутся связаны в моей памяти с запахом ландыша: прямо напротив издательства находился цветочный магазин, и реклама на его фасаде сильно меня интриговала:
«Нет индустрии роскоши,
Есть индустрия Франции.
Для француза, которого цветы кормят,
ЦВЕТОК так же важен, как СТАЛЬ»
Мы возвращались домой поездом. До вокзала Сен-Лазар, по Парижу, пешком, приехав в Везине – пешком. Мама, весившая не больше детского воздушного шарика, брала меня под руку. Конечно, мы не решались сказать этого вслух, но оба страшились возвращения в тягостную атмосферу нашего домика, в которой гнил на корню мой отец. Я хотел было бросить лицей и начать работать, но мама, собрав последние силы, наложила вето на мое решение. Отказ от медицины точно стал бы для папы последним ударом – таким добивают раненого, чтобы прекратить его страдания. Ну и я смирился – как в песенке: «если и ты тоже покинешь его…»
Самым невыносимым было молчание. Тишина. Пианино закрыто. Я никак не мог сосредоточиться на уроках, пытаясь найти выход из этой зашедшей в тупик жизни. Я понимал: действовать быстро и твердо. И тут – пусть и не впрямую – мне пришел на помощь Лопоухий.
Перед самой войной бабушка страшно негодовала по поводу того, на какой развалюхе вынужден играть мой отец, тогда как Горовиц «жмет педали Стейнвея». С гневным хохотом она обличала несправедливую судьбу, одарившую лучшего из двоих драндулетом вместо инструмента. От того, что сын мог, несмотря ни на что, извлекать из этого драндулета наитончайшие оттенки звучания, она, естественно, бесилась еще больше. Кровь в ней постоянно кипела, желчь лилась рекой, и она то и дело впадала в метафизический раж, громогласно вопрошая себя о тайнах судеб. Кто виноват в том, что одни блаженствуют в эмпиреях, в то время как другие, ворочая тяжелыми веслами, с трудом ведут свою лодчонку по мутным водам Стикса? В глубине души она была по-прежнему уверена, что ее сын по отношению к Володе то же, что Моцарт по отношению к Сальери. «Ах, если бы у твоего отца был Стейнвей, нам бы не пришлось так надрываться!»
Набравшись мужества, я написал бабушке. Мне бы хотелось опустошить свою кубышку, где скопились в основном ее деньги – плата за то, что я рассказывал папе о Горовице, пресловутые «деньги Радзановых», к которым я имел право притронуться лишь в случае крайней необходимости. В ответном письме Анастасия дала согласие и сообщила, что страшно рада моей бережливости и ничуть не меньше – «романтическому применению», какое я выдумал для «нашей копилки». И вот уже с довольно приличной суммой в кармане я иду за советом к бывшему папиному коллеге по заводу, который служит теперь в музыкальном магазине. И тот находит для меня рояль – подержанный, но почти новый. Ох… это не был Стейнвей, о котором так мечтала бабушка, это был кабинетный Эрар [27]27
Основателем фирмы «Эрар» был талантливый французский мастер С. Эрар. Он не просто усовершенствовал фортепиано, а изобрел «механизм двойной репетиции», позволявший пианистам исполнять сложные виртуозные пассажи. Изобретение демонстрировалось в 1823 году на Парижской выставке и вызвало массу подражаний.
[Закрыть], но вполне приемлемый и, в любом случае, в тысячу раз лучше нашего драндулета. Правда, и драндулет мы сохраним – как талисман. В конце концов, это он защищал нас во время бомбардировок.
Дверь грузчикам, которые доставили инструмент, открыл отец. Поскольку рояль не проходил в дверь, надо было просунуть его через окно гостиной, что потребовало внушительной перестановки в комнате, неимоверных усилий, а затем и вызова стекольщика. Папа хорошенько выругал меня за «отравленный дар», но я знал, что таким образом он показывает, что растроган. А потом, в ответ на нежный усталый взгляд мамы, умолявшей его принять этот подарок, папа признал, что натворил глупостей и что самое время снова взяться за дело. Еще одно событие помогло ему победить ощущение одиночества и покинутости Богом.
Чарли Флэг жил в просторной квартире напротив обезьянника при цирке Медрано. Квартира стоила гроши из-за животных, которые горланили целыми ночами, так что спать было невозможно. Закоренелый полуночник Чарли только веселился, слушая хохот макак, и называл их вопли братским приветом. В своей гостиной он строил одноместный автомобиль, газеты, устилавшие пол, должны были защитить паркет от отработанной смазки. Целью папиного друга было участие в гонках «24 часа Ле-Мана» [28]28
Самая престижная в мире автомобильная гонка на выносливость. Проводится с 1923 года, по традиции – в середине июня. Конфигурация трассы, которая расположена близ города Сарте (250 километров от Парижа) постоянно менялась, и в настоящий момент ее длина составляет 13 километров. Часть кольца проложена по дорогам общего пользования.
[Закрыть]. Чарли изобрел систему, позволявшую гонщику на полном ходу мочиться: резиновая трубка, торчавшая из ширинки, была выведена на трассу. 7 марта 1947 года, накануне своего сорокалетия, Чарли Флэг покончил с собой в гостиной-гараже, наглотавшись выхлопных газов прямо из этого самого искусственного мочеточника, приделанного к недостроенной машине…
Ну вот папа и возвращается к жизни, вот он и опять в кругу живых! К нему вернулся боевой дух – вернулся только благодаря любви близких и музыке. Хоть я и не специалист, но думаю, что в этот период нашей жизни дремавший в моем отце виртуоз приближался и приближался к полному совершенству. Димитрий перестал быть канатоходцем, канатным плясуном, он испытал все, нахлебался по максимуму, и теперь его летающие над клавиатурой пальцы рассказывали о том, что у него на сердце. Никогда его музыка не была так прекрасна, как в эти долгие летние дни в Шату, когда он играл, не сражаясь с призраком, а свободно. И эта внутренняя его свобода создавала у нас ощущение, что ему доступно все, удается все, ощущение ни с чем не сравнимого счастья. Он играл только для нас одних, от этого получалось еще лучше, и у нас не было сомнений в том, что любовь – та, которую ему расточали, и та, которую дарил нам он сам, – именно любовь стала движущей силой папиного возрождения.
Пришел страшный 1948 год. Теперь два-три раза в неделю мама ездила в больницу Кошен [29]29
Благотворительная больница в Париже в предместье Сен-Жак, существует с XVIII в., свое название получила в честь одного из ее основателей – священника Кошена (1726–1783).
[Закрыть], где потребовалось наблюдаться. Папа нашел какую-то ерундовую работенку на фабрике по изготовлению клея, близ Шарантона. Я продолжал свои взлеты и падения в учебе, перейдя в лицей Жансон-де-Сейи, куда меня приняли благодаря вмешательству одного расположенного ко мне педагога. Работа, переезды, лечение… единственным, что нас объединяло, была музыка.
Когда, поздно вечером, преодолев усталость, папа баловал нас сонатой Прокофьева или адажио Шопена, все заботы и тревоги уходили, мы словно бы стряхивали с себя пыль прожитого дня, и наступало неизъяснимое блаженство. Пока длилась пьеса, мы, все трое, были вместе и были счастливы. Я исподтишка поглядывал на маму, и мне чудилось, будто музыка возвращает ей прежнюю свежесть, и лицо ее потихоньку оживает, заставляя отступать страшную маску, в которую это прекрасное лицо превратила болезнь. Я был уверен, что, едва грянет тишина, мама опять погрузится в бездну страданий, снова станет тем изможденным существом с кругами чернее ночи у глаз, которое с каждым днем уходило от нас все дальше, а мы не могли удержать, и всей душой молил отца не останавливаться… «Играй, прошу тебя, умоляю тебя, играй! Не надо пауз!» И папа играл, играл, играл, бросая все силы на борьбу с неумолимым врагом, вцепившимся когтями в его любимую, пытаясь остановить ход времени, – он, который когда-то считал делом чести завести часы с боем и поставить стрелки точнее просто невозможно.
Февраль 49-го, студеный февраль 49-го… Доктор, который пользует маму в больнице Кошен, посоветовал ей отправиться в санаторий, не скрывая, впрочем, от отца, что питает мало надежды на результат. Чтобы не похоронить вообще всякую надежду, эскулап добавил: «Можно быть пессимистом, но продолжать верить!»
Папа разозлился на это донельзя: высокомерное светило из светил, как ему казалось, почти хвастается неверием в то, что делает. Заведенный до предела, он попытался прибегнуть к «параллельной науке» – обратиться к так называемым ученым, которые за счет умирающих вели жесточайшую конкуренцию, размахивая едва ли не каждый день новой революционной терапией, рекламируя то одну, то другую новую панацею. Но тут возникла проблема: эти шарлатаны требовали слишком высокой платы за свои услуги, а у нас денег и без того не хватало, так что платить им было просто нечем. Я пробовал урезонить папу, намекая – прозрачно, но так, чтобы не огорчить его еще больше, – на тщетность подобных усилий.
В итоге – и после изрядной нервотрепки – он решил последовать совету консультанта из Кошен.
Мы поедем в Швейцарию – как раз туда, где много лет назад папа провел незабываемые каникулы со стариной Горовицем. Бабушка уже давно освободила дедушкино шале, снова отправившись в Ментону – тосковать в оцепеневших садах виллы «Серена», поливать помоями отпускников, современных варваров, потеснивших тех, кто жил тут постоянно. В общем, территория в Веве на то время оказалась свободна.
В первый раз мы собирались в отпуск втроем. Горы я знал до сих пор только по рассказам бабушки и по немногим дореволюционным фотографиям, на которых братья Радзановы высаживались на берега Лемана с теннисными ракетками под мышкой. И теперь мне было ужасно странно ступить на ту же щебенку у вокзала в Веве. Думаю, папа был взволнован не меньше моего, когда вновь оказался в обстановке своей юности рядом с верзилой, в точности похожим на молодого человека, каким был в те далекие времена он сам, – ну, по крайней мере, внешне.
Папа настаивал на том, чтобы мы вернулись к игре в теннис. Пообещал, что не будет психовать. Я заметил, что у нас нет ни ракеток, ни мячей, кроме того, сейчас мертвый сезон, а значит, убрали сетку с корта. «Ну и что? – удивился папа. – Не вижу никаких проблем!» Он помог закутанной маме подняться в кресло арбитра и попросил вести счет, а мы стали делать вид, что разыгрываем сет, используя вместо мячей снежки. Это был единственный раз, когда я победил папу, и он с улыбкой мне поклонился.
В Веве я познакомился с совсем новым отцом. Его оставила всякая суровость, и он с жаром рассказывал о своей жизни до изгнания. Он вспоминал брата, вспоминал, что они вытворяли под носом у Анастасии. Священный тандем братьев Радзановых. Неразлучных, как пальцы одной руки.
Димитрий настоял и на том, чтобы мы поехали обедать в Монтрё. Взяли такси. Папа выбрал дорогу мимо виноградников, прилепившихся к склону горы, – оказалось, что за виноградниками этими здесь ухаживают с помощью особой, зубчатой железной дороги [30]30
Зубчатые железные дороги прокладываются в горных местностях на крутых подъемах и отличаются от обыкновенных тем, что посредине пути между гладкими рельсами уложена зубчатая полоса, с которой сцепляется зубчатое же колесо локомотива.
[Закрыть]. Потом он пригласил нас с мамой в тот самый ресторан, в котором отличился Федор двадцать пять лет назад. Папа выпил бокал вина, а вместо закуски рассказал нам эту историю:
– Мой брат хлебнул лишнего и приударил за женой своего соседа, баварского туриста. Спор. Пощечина. Федор с баварцем дерутся на дуэли в шесть часов вечера, на лугу, неподалеку от озера. Федор ранит баварца в плечо. Чуть позже мы уже заключаем мирный договор в баре дансинга – мой братец, баварский турист, его жена и я. Водка льется рекой. Федор танцует с дамой, она прижимается к моему брату чуть теснее, чем угодно мужу. И всё сначала. В шесть часов утра брат с баварцем опять стоят лицом к лицу с оружием в руках. В полдень мы все сидим в ресторане. На этот раз у баварца перевязаны обе руки. Между столиками прогуливается цветочница с розами. Федор поворачивается к сопернику и самым любезным на свете тоном спрашивает разрешения подарить цветы его жене. Тот свирепеет. И тогда Федор добавляет: «Будь у вас руки свободны, век бы мне не видать такого счастья!»
День окончен. Возвращаемся ночью. Мама закрывает глаза и приникает к папиному плечу. Она улыбается. Никогда раньше я не видел, чтобы мои сдержанные, стыдливые родители на людях проявляли друг к другу такую нежность.
То, что должно было прозвучать траурным маршем, звучит последним па-де-де – возвышенным и волнующим. Чаще всего я оставляю их наедине: во мне вспыхнула надежда, что любовь Димитрия победит зверька, грызущего легкие Виолетт. Часами брожу вдоль берегов озера, бросаю в воду камешки, вдыхаю ледяной воздух… Направляясь с пляжа домой в последний вечер, переступаю через растерзанный труп лебедя, ставшего жертвой неизвестного мне хищника.
Мама умерла в Шату спустя несколько месяцев после этой чудесной, светлой и нежной, проникнутой ностальгией поездки. Это случилось 12 июня 1949 года. До последнего вздоха она улыбалась, до последнего вздоха сохраняла свою душевную чистоту. Пока длилась агония, папа не отходил от ее постели, держал маму за руку и что-то тихонько говорил ей. А потом, наверное, по маминой просьбе, подошел к роялю и сыграл последнюю часть одной из сонат Моцарта, и это было – как если бы забил фонтан из тридцати, сорока разноцветных струй.
Сидя в своей комнате на втором этаже, я готовился к экзаменам на звание бакалавра. Было, наверное, часов семь вечера, пот лил с меня ручьями. Дверь и все окна мы распахнули, но все равно по дому не гулял ни малейший сквознячок. Листья на деревьях оставались неподвижны. Гроза, обещавшая разразиться еще в полдень, все созревала.
Вдруг музыка резко оборвалась. Бросив учебники, я сбежал вниз по лестнице. Папа больше не играл. Он спрятал лицо в ладонях и плакал горючими слезами. Я вошел в спальню и приблизился к кровати, где покоилась мама. Ее правая рука так и замерла на стоящей на тумбочке у изголовья чашки с лесной земляникой. Я закрыл маме глаза. Потом тихо-тихо подошел к проигрывателю и поставил на вертушку первую попавшуюся пластинку. Оказалось – «Мефисто-вальс» Ференца Листа в исполнении старого приятеля из Нью-Йорка. Папа знал эту вещь наизусть, и мне не было необходимости доставать ноты и переворачивать страницы. Преодолевая горе, папа попробовал ответить Горовицу, но руки не слушались, дрожали. Я без дела стоял рядом и мысленно уговаривал папу принять вызов. Папа сделал еще одну попытку… нет, он не поспевал за записью. Пальцы у него сводила судорога, и ему не удавалось взять ни одного аккорда. Тогда я приподнял звукосниматель, убрал пластинку. Пытка закончилась. В комнате стало тихо. Я крепко обнял папу.
Похороны отложили, чтобы я смог сдать вторую часть письменного экзамена. На самом деле экзамены-то я завалил, но меня вытянули: сыграли роль мой школьный дневник и, наверное, драматические обстоятельства. Место освободилось, и бабушка быстренько этим воспользовалась. Для нее жизнь продолжалась, нет, скорее даже началась заново после неудачного периода, который следовало вычеркнуть. Все забыто, ничего лишнего не осталось, начинаем сначала. Бабушке было под восемьдесят, но она развивала бурную деятельность и совершенно не понимала, с чего это мы так подавлены. Бедняжка Виолетт? Так ей все равно теперь уже ничем не помочь! Мир принадлежит тем, кто борется. Таким, как она, Анастасия. Когда красные убили ее мужа, а саму ее – как прокаженную! – выгнали из России, ей надо было справиться с этим, и она справилась. Нас не было бы на свете, если бы она не сражалась из последних сил!
– Давай-давай, встряхнись-ка немножко, – то и дело говорила она Мите, но он, убитый горем, не слушал и не слышал.
И тогда она взялась за меня. Забыв все свои великие теории наследственности, отнюдь не говорившие в мою пользу, она убеждала меня в необходимости быть на высоте. Раз у меня есть хоть капля радзановской крови, сейчас самое время это доказать, не так, что ли? Мы не станем плыть по течению, мы не позволим дому прийти в упадок! Она говорила и говорила, глядя мне прямо в глаза и сжимая мою руку своей крабьей клешней, она говорила, потряхивая тремя выбившимися прядями, до тех пор, пока я – уже не в силах ее слушать, доведенный до предела – не заорал:
– Бабушка, КАК ты нам осточертела!!!
Это был крик души, тут не было никакого расчета, разве что надежда: от подобной дерзости Анастасия вылетит в окно со скоростью торнадо.
Ничуть не бывало! Не ответив ни слова, она через всю гостиную направилась к папе, расположившемся в Восточном Экспрессе (на банкетке из поезда, служившей нам диванчиком, – папаша Штернберг в свое время разыскал ее где-то на блошином рынке).
– Послушай, Митя, – произнесла бабушка. – Не может быть и речи о том, чтобы я тебя покинула. Слышишь: не может быть и речи! Ну а теперь доставь-ка мне удовольствие, скинь этот подрясник и оденься прилично. Сейчас уже без пяти восемь, а в двадцать минут девятого к нам придут друзья, и мы должны быть готовы их принять!
Она все предусмотрела. Друзья – по крайней мере, те, кто выжил, те же самые, что несколько дней назад проводили маму на кладбище, – явились даже немножко раньше, как, например, неистребимый Ефимов, нагруженный овощами со своего огорода. Потом настал черед дядюшки Фредди с тремя сыновьями, ставшими совсем взрослыми. Да, не забыть бы еще верного Жирардо, запомнившегося мне своей перекошенной физиономией, – единственного, кто не говорил по-русски, но, поскольку ранение так сильно изуродовало не только его лицо, но и речь, ему вообще лучше было помалкивать. Бабушка устроила пир горой и вела себя как истинная хозяйка дома, переходя от одного к другому, предлагая легкие закуски, которые, как всё, что она готовила, отдавали плесенью. Всякий раз, оказываясь рядом со мной, она улыбалась нежнейшей из улыбок и сладенько выпевала: «Кушай, деточка, кушай!» Папа (все в том же халате-«подряснике») не покидал Восточного Экспресса. Он шел ко дну на глазах свидетелей своей жизни.