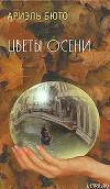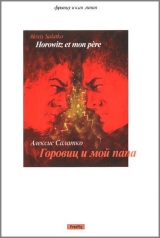
Текст книги "Горовиц и мой папа"
Автор книги: Алексис Салатко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
А Жюдикаэль (так звали жену баса-профундо), брюнетка с осиной талией на двадцать лет его младше, вообще оказалась бывшей ученицей госпожи «Caramia» в том самом Институте благородных девиц. Патологически скромная, застенчивая и хрупкая, она, по утверждению бабушки, страдала болезнью стеклянных костей [14]14
Стеклянная болезнь, или болезнь стеклянных костей – редкое неизлечимое врожденное заболевание, при котором кости отличаются повышенной хрупкостью, и переломы появляются от самых незначительных причин.
[Закрыть]. Жюдикаэль говорила мужу «вы», он ей «тыкал». Жюдикаэль конечно же смотрела на бабушку с почтительным обожанием, ну, и вознаграждалась за это похлопыванием по плечу – ласковым и предельно легким в связи с шаткостью объекта.
Боже, как удивительно месье Штернберг говорил! Он изъяснялся с поразительной неспешностью, прерывая фразы немыслимо серьезным смехом, причем каждый смешок его состоял из трех «ХА!», отделенных одно от другого и резонировавших в воздухе целым каскадом обертонов:
ХА!.. XXА!.. XXXА!..
Можно долго перечислять странности и достоинства наших друзей Штернбергов, но дело не только в их странностях и даже не только в их достоинствах. Кроме всего прочего, Анастасия ведь никогда не упускала случая унизить мою маму, потому была уверена, что, приглашая в «свой дом» таких утонченных, таких образованных Штернбергов, одним выстрелом сражает двух зайцев. Во-первых, вынуждает невестку укрепляться в осознании собственного интеллектуального убожества, мало того – еще глубже увязать в его тине, а во-вторых, не мытьем, так катаньем подталкивает дорогого сыночка, который, за отсутствием подходящей для него компании, страдал размягчением мозгов, выползать из болота, в которое загнал его этот дурацкий мезальянс.
В чем месье Штернберг и впрямь великолепно разбирался, так это в искусстве. Грозный критик и большой любитель прекрасного, он постоянно осведомлял нас о последних, находившихся в центре всеобщего внимания торгах, от Друо до Кристи, не обходя даже Нью-Йорк. Среди прочего как-то прозвучало сообщение, что «наш друг» Горовиц только что приобрел на 94-й улице особняк, где поместил на втором этаже коллекцию импрессионистов и полотен XX века. Картины музыкант начал покупать, едва к нему пришел первый успех. Среди имен художников фигурировали главным образом Дега, Моне, Писарро, Модильяни, Матисс, Руо.
– Никаких акций на Бирже, никаких ценных бумаг. Все, что наш друг Горовиц зарабатывает на одном искусстве, он вкладывает в другое, – восхищенно говорил Штернберг.
Главной изюминкой в коллекции знаменитости был, ни малейших сомнений, Пикассо – рисунок с отдыхающим акробатом. Папа, который следил до сих пор за беседой, не принимая в ней участия, почувствовал, что бабушка уже готова пустить новую пропитанную ядом стрелу, и заранее отразил нападение. Он произнес, не сводя взгляда с дымившейся в руке сигареты:
– Вот как? Тогда у тебя ситуация не хуже, мама! На что тебе жаловаться? Ты живешь в Шату, колыбели импрессионизма. А что до акробата на отдыхе, так вот же он перед тобой – во плоти и в натуральную величину.
Однако, как ни высоко ценила Анастасия общество Штернбергов, предпочитала она всем Евгения Куликова – с ним в роли ее фаворита не мог соперничать просто никто.
Это был персонаж с жестами левантинца, с манерами флорентийца, он всегда выглядел заговорщиком и говорил под сурдинку, низко склонившись к собеседнику. Папа прозвал бабушкиного любимца Государственной Тайной.
Куликов не упускал случая попросить папу сесть к фортепиано, обращаясь всегда с одной и той же манерно, с раскатистым «р», высказанной просьбой: «Сыграй мне, пожалуйста, дорогой, „Райскую птицу“!» – и папа немедленно начинал играть: как автомат, в который бросили монетку. Я очень хорошо помню слова и интонацию просителя, но до сих пор не знаю, что это была за музыка, откуда взялся неувядаемый шедевр. Государственная Тайна в свои всего-навсего тридцать пять лет был вдовцом, и никто не знал, отчего умерла его жена. Всякий раз, как возникал разговор об этом, бабушка поднимала глаза к небу, будто желая сказать: бедные мои дети, все еще ужаснее, чем вы могли бы себе представить!
Наступила Пасха, и родители собрали всю привычную компанию. Я раскрасил яйца, мама напекла гору блинов. Николай Ефимов с папой принесли с завода новенький радиоприемник, гость спросил у меня, какой язык мне хотелось бы послушать. Я не знал, и гость посыпал названиями, гуляя по всему миру, высвеченному на шкале, и порождая во мне мечты… а как было не мечтать, слыша названия радиостанций дальних стран с такими экзотическими, такими завораживающими именами:
Гильверсум, Беромюнстер, Монте Ченери… —
…и вот уже волны, долетавшие оттуда до нас благодаря чуду техники, которое мой наставник воспевал с привычным пафосом, вертя при этом в пальцах обыкновенную пластмассовую пупочку, привлекли всех к деревянной коробке, снабженной – как это было ново! – колдовским зеленым глазом. Возбужденный не меньше жюль-верновского путешественника, добряк Николай носился по шкале частот, а остальные, скучковавшись вокруг приемника, поочередно прижимались восторженным ухом к динамику, жужжавшему, шипевшему и трещавшему на разные голоса.
Внезапно из омерзительного треска вынырнул «Полет шмеля» Римского-Корсакова в исполнении Владимира Горовица, и мелодия, подобная струйке чистой воды, пробившейся из сточной канавы, погрузила гостей и хозяев в состояние почти религиозное. Мы все были вместе. Мы словно причастились.
Но бабушка не дала длить очарование, бабушка, ухватившись за соломинку, протянутую ей этим шмелем, решила подсуетиться. До сих пор она говорила по-русски, а теперь перешла на французский, чтобы поняла невестка. И – постаралась ужалить побольней:
– Если бы не вы, мадемуазель, сейчас бы мы слушали здесь моего сына!
В гробовой тишине, последовавшей за этим заявлением, голос отца прозвучал подобно трубам Страшного Суда.
– Мама, прошу тебя сию же минуту извиниться перед моей женой!
Из искры возгорелось пламя. Бабушка, сразу же став похожей на оскорбленную индюшку и звеня голосом, принялась декламировать так, как это делают трагические актрисы:
– Помни, Митя, это не ты меня изгоняешь, это я ухожу. Но предупреждаю тебя, мой мальчик, если ты сейчас позволишь мне выйти за порог этого дома, я никогда в жизни его уже не переступлю, и ты никогда в жизни меня больше не увидишь!
Папа сделал вид, будто ничего такого не сказано. Он, обладавший абсолютным слухом, притворился, будто не слышал предупреждения, он выключил радио и продолжал, как ни в чем не бывало, беседовать с гостями. А бабушка, пока мужчины, попивая и покуривая, говорили о футболе, набивала вещами свой помятый жестяной чемодан, столько переживший со времени ее бегства из России. Больше она не произнесла ни слова, и при полном безразличии к происходящему всех окружающих покинула бочку с сельдями на улице Рибо, чтобы и на самом деле порога этогодома никогда уже не переступить.
После ухода бабушки дышать стало легче. Появилась возможность хоть как-то развернуться. Даже воздух, казалось, очистился, даже щеглы запели. А самое удивительное – с каким равнодушием принял мой отец всю эту мелодраму. Никаких чувств. Ничего. Что это означало? Только одно: он больше не нуждался в матери, ему хватало Виолетт и меня. Отныне у него – своя семья, и все тут.
Я побаивался отца. Он был строгим и, никогда не повышая голоса, тем не менее заставлял себя слушаться. Разок еще как-то можно было ему воспротивиться, второй – никак. Вспомнить хотя бы ненавистную картофельную похлебку с луком-пореем, которую мне, даже не разогрев, снова подали на завтрак. Он был строгим. Но при этом умел быть и очаровательным, и привлекательным, думаю, он обладал какими-то достаточно таинственными способностями, раз сумел так пленить семилетнего мальчика.
Одна сцена мне особенно запомнилась. Это было в воскресенье, и папа только что отсудил футбольный матч (Шату – Монтессон или что-то в этом роде). Умение обращаться со свистком делало из папы безраздельного хозяина площадки, и его решения никогда там не оспаривались. Так и вижу, как он рассказывает о перипетиях игры, и вдруг, проронив: «…в перерыве между таймами…», – встает и направляется к стенным часам, чтобы мельком взглянуть на свои, ручные, и перевести стрелки. Он не закончил фразы, не уточнил, что же произошло между таймами, но само слово «тайм» прозвучало для меня странно, и я терялся в догадках, стараясь уловить его смысл и понять, какое отношение оно может иметь к футболу. Раздумывая, я восхищался изяществом жеста, с которым отец передвинул большую стрелку. Этой задачи он никому никогда не доверял, потому что, по собственному же признанию, был хранителем точного времени. И разве не слышал я, как он говорил, будто его «лонжин» (настоящий швейцарский хронометр) лично сообщает говорящим часам, в какое мгновение должен раздаться четвертый сигнал…
Иными словами, мой папа – великий волшебник. Он применял каббалистические формулы вроде этого «между-таймами» и иногда нарочно оставлял их недоговоренными, чтобы раскинуть перед слушателями головокружительную бездну возможностей. И его власть этим не ограничивалась, потому что папа имел обыкновение утверждать, особенно – давая понять, что и у него есть подобие интереса к чему-то, чего нисколько не одобряет: «Вот я и говорил…» Зачем он использовал тут прошедшее время вместо настоящего, ведь оно бы подошло больше? Не знаю. Он ведь в совершенстве владел языком Вольтера, который его мать, с грамматикой шуток не допускавшая, вдолбила ему в голову навечно, и говорил без малейшего акцента на самом что ни на есть отточенном французском, не позволяя мне никаких отклонений от нормы. Как-то я получил пару затрещин только за то, что решился при нем промурлыкать: «Вот я девушка из кеча – поглядите, что за плечи, посмотрите, что за зад, посмотрели и дрожат!» Эту привязавшуюся ко мне и самую популярную из тогдашних эстрадных песенок папа счел не приличной. Но вот поди ж ты: его литературный французский, выученный еще в России, обогатился со времен изгнания лишь несколькими бытовыми выражениями типа «вот я и говорил…», бытовыми, да, но делавшими из моего отца первопроходца, первооткрывателя, умеющего задать тон в любом разговоре.
Еще папа любил теннис. Он научился играть у деда в Веве, и тогда ему особенно нравилось объединяться в пару со старшим братом – дядей Федором. Однако стоило отцу вспомнить о тех временах, и у него начинало щемить сердце, хотя он, не склонный выставлять напоказ свои чувства, всегда старался это скрыть.
Летом мы каждое воскресенье приходили в городскую усадьбу, принадлежавшую Везине, на берег озерца, где в зарослях тростника беспокойно покрикивали водяные курочки. Здесь собирались члены маленького и очень закрытого клуба, среди которых был и наш друг Евгений Куликов – он сроду не держал в руках ракетки, зато раз и навсегда был избран на должность казначея этого заведения. Незаурядная смётка и вошедшая в легенду обходительность позволили ему ввести моего отца в круг завсегдатаев-богачей и, мало того, уладить все так, чтобы папа – в память о героических подвигах, некогда совершенных им в рядах Белой армии – платил только половину членского взноса.
Здесь был корт, и папа часто играл в паре с неким Эмилем Демоеком – дипломатом, уроженцем Брюгге, занимавшим высокую должность в Министерстве иностранных дел, будучи кем-то вроде серого кардинала, специалиста по отношениям Востока с Западом. Этот Демоек всегда носил белые брюки, белую рубашку, очки с притемненными стеклами и седоватый парик. Жил он в особнячке, окруженном разбитым на английский манер садом, у самого въезда в Пек. Наверное, папа подозревал, что Демоек из гомиков, потому что советовал мне не поворачиваться к нему спиной и почаще оглядываться в его обществе, и хотя я был слишком мал тогда, чтобы соображать в таких тонкостях, все равно опасался этого человека, а если он просил меня подобрать мячи, на всякий случай старался сделать так, чтобы между нами оказывалась сетка.
Чаще всего мы с папой шли в Везине пешком и, миновав весь городок с его несуразными уродливыми халупами, оказывались в оазисе роскоши и богатства, стоящем посреди бирючин. Мама приходила к нам попозже, по холодку. Я с нетерпением ожидал, когда же кончится день, потому что на обратном пути мы устраивались на террасе одного из угловых кафе на «Принцессиной авеню», папа заказывал себе рюмку лимонного абсолюта, мама порцию коктейля, где настойка горечавки смешивалась с ликером из черной смородины, а я наслаждался гренадином. Потом мы так же, пешком, мимо рядов красивых белых вилл, отправлялись в свой бедняцкий квартал. Мой папа держался великолепно, и здешние богачи раскланивались с ним так, словно он был одним из них.
– Кто это?
– Как? Разве ты их не узнал? – отвечал папа, притворяясь удивленным. – Это же маркиз Карабас и граф Параграф!
Однажды после победы в паре Эмиль Демоек настоял на том, чтобы нас подвезти. Прежде чем включить зажигание, он надел светло-желтые перчатки и – под предлогом того, что надо поправить зеркальце – поплотнее надвинул парик, напоминавший блин, который только что комом упал на сковородку. Помню, папа дал ему тогда неправильный адрес – в шикарном месте на другом конце города.
У Эмиля Демоека был «хочкисс», внесерийная модель, предназначенная для великих мира сего.
– А зачем ты все время сигналишь? – поинтересовался отец.
– Устрашаю противника, дорогой мой, главное – внушить страх противнику! – ответил дипломат.
Вскоре – когда на перекрестке улиц Ланд и Водной наперерез нашей дипломатической карете сунулась маленькая «Симка-5» – мы поняли смысл этого ответа. Никакого физического вреда, но шуму-то, шуму!.. Из двух автомобилей меньше пострадала кроха. «Хочкисс», стараясь избежать аварии, врезался в стену, из пробитого радиатора било, как из гейзера, и все искали парик полномочного представителя, куда-то улетевший во время столкновения. Ничего страшного не случилось, но перепугался я ужасно и штанишки мои сразу стали мокрыми. И вообще день не задался: ко всему еще, из-за этой автомобильной прогулки мы не попали в кафе, и я, ко всему еще, остался без гренадина.
Бабушка выбрала местом добровольного изгнания Ментону. Она жила там среди друзей «своего ранга» – дворян и военных, коленом под зад вышибленных из красного рая, как мой отец окрестил бывшую Российскую империю. Между бабушкой и Государственной Тайной шла переписка, а Куликов часто и подробно пересказывал нам новости с Юга. Французская Ривьера, ее пальмы, ее пастельных тонов виллы… мы грезили всем этим, бедные крысы из предместья. Ментона, столица лимонов и мимозы, триста шестнадцать ясных дней в году, a Caramia еще ноет, нашла, на что пожаловаться, – подумать только, она говорит, будто с тех пор, как людям дают оплаченные отпуска, «перестаешь чувствовать себя дома на Лазурном берегу».
Она играла на скачках… в настольную игру с маленькими лошадками на террасе какого-то из палас-отелей, то ли «Ориента», то ли «Империала», точно не помню. Государственная Тайна рассказывал, а я так и видел нашу «изгнанницу» – в мантилье, со сногсшибательной эгреткой, конечно же в леопардовых перчатках… Она окружена ареопагом опальных генералов, она трясет своим стареньким кожаным стаканчиком с костями, сохранившимся со времен ее первой поездки на Украину – наверное, уже в те времена она жульничала вовсю. Я так и слышал, как она злословит в адрес «рядовых» приезжих с той язвительной ненавистью, которая заставила доктора Детуша, нашего семейного врача, сказать, что бабушка рано или поздно отравится, облизнув губы своим гадючьим языком.
Упреки «ядовитой» свекрови проложили себе дорогу в сознании мамы, и Виолетт стала настаивать, чтобы отец возобновил серьезные занятия музыкой. Аргумент ее был хорош своей недвусмысленностью: мама хотела, чтобы их дитя восхищалось отцом как великим пианистом, каким он и был на самом деле. Папа скромничал: ничего особенного он собой не представляет, но можно попытаться улучшить технику. И Димитрий вернулся-таки к фортепиано, правда, твердо решив, что станет теперь извлекать из клавиш музыку, а не фиоритуры.
Еще и сегодня я не могу воспринимать мазурки, этюды, экспромты, баллады или ноктюрны, «Баркаролу» или «Колыбельную» Шопена иначе, как в исполнении отца. Любые другие, включая исполнение Горовица, кажутся мне слабее. Но это, на первый взгляд несколько пристрастное, мнение не имеет ничего общего с благоговением. Так и было. Я и сейчас совершенно убежден в превосходстве моего отца над любым гигантом пианизма. Одно только его рубато несказанно меня чарует. И насколько же мало все это имеет отношения к чистой технике. Я даже и не уверен, что Димитрий владел техникой безупречно. Он не старался блеснуть и не боялся сфальшивить… Нет, сила его заключалась в несравненном качестве звука, который он черт знает каким образом умел извлекать из клавиш нашего убогого фортепиано. За несколько месяцев до того, как угаснуть, уже очень слабый физически, папа еще мог сыграть в темноте рахманиновского «Полишинеля» – вещь, от виртуозности которой перехватывает дыхание, – и его пальцы безостановочно летали от одного края клавиатуры до другого. Зато музыкальная культура его застряла на эпохе до большевистской революции и на Рахманинове. Он презирал джаз, был непримирим по отношению к современным ему композиторам, включая Дебюсси, но при этом «он же и говорил», что среди «Прелюдов» интересна «Девушка с волосами цвета льна», и сам охотно играл эту пьесу.
Когда отец стал снова серьезно заниматься музыкой, мне было лет шесть или семь. До того с двадцатилетнего возраста он почти не прикасался к клавишам, разве что тренировал пальцы на гаммах в глубине огорода в Монруже, да и это делал, всего лишь подпитывая бабушкины мечты о сыновней славе.
Ребенком я не понимал связи между музыкой и заводами «Пате-Макарони», где папа пропадал каждый день. Мне казалось, что папина работа имеет отношение к сельскому хозяйству, к пищевой промышленности, да он и сам до войны отчасти поддерживал во мне заблуждение, то и дело говоря: «Иду за хлебом насущным», награждая завод прозвищами вроде «Мой кормилец» или «Замора для червячка», а членов своей бригады именуя «Вареной лапшой» или жалуясь, что у него «мозги всмятку», если вечером возвращался с работы с мигренью и не хотел, чтобы я приставал к нему с расспросами… Только два-три года спустя, в черные дни оккупации, когда он принес с завода первые пластинки на 78 оборотов и я стал их верным поклонником, мне удалось понять, чем отец занимается на самом деле. Но до этого времени мы еще не добрались.
И вот, значит, перед войной мама уговорила отца снова наброситься на игру – ему нравилось так называть возрождение угасшей страсти. На первый взгляд тренировки давались ему легко, но на самом деле он мучился. Руки сводило, пальцы болели, в плечах тянуло… Он опасался заболеть тем же, чем страдал его дед, посвятивший себя геральдике: деформирующим артрозом, от которого искривляются и утолщаются суставы, меняется форма фаланг, а вскоре руками становится вообще уже трудно что-то делать. Но прошло совсем немного времени, и вернувшаяся к Димитрию музыка стала для него самым главным, самым неотложным делом. Поклонники отцовских пассажей не упускали случая сунуться с просьбой исполнить ту или иную вещь, и он никогда не отказывал, он спешил к инструменту и не лгал, утверждая, что это ему только в радость. Потерянное и вновь обретенное счастье.
А мама тем временем продолжала свою артистическую карьеру, пробовалась на маленькие роли в фильмах студии Билланкур. Я еще не ходил в школу, и Виолетт брала меня с собой, а в ожидании своей очереди читала мне тексты… О, конечно же не поэтические тирады, вот уж чего не было, того не было, – нет, коротенькие фразы, такие же убогие, как и та роль, которую ей предстояло играть: «Месье поручил мне передать мадам, что не ужинает с нею сегодня вечером»… Мелкие, ничего не значащие фразы, но для шестилетнего мальчишки слушать, как его мама, переодетая в наряд горничной, повторяет сто раз подряд важную для нее реплику, вкладывая в повторы всю душу… – это было просто убойно! Мы возвращались домой в трамвае, и, отражаясь в моих восхищенных глазах, Виолетт, должно быть, видела себя такой же красавицей, как самые знаменитые актрисы того времени: Мишлин Прель, Габи Морлей…
Мамина подружка, Эвелин Ламбер, часто провожала нас до городской черты. Она называла маму «мой кроличек», чего я никак не мог понять. Почему – кролик? Разве моя красавица мама похожа на кролика? Эвелин была довольно развязной блондинкой, но дружить умела по-настоящему, как умеют русские – на жизнь и на смерть. Если ей кто-то нравился, она окружала его заботой, она шла ва-банк, она проявляла непомерную нежность и предупредительность, и также истово, тигрица да и только, бросалась на защиту своих подопечных. Взять в толк, отчего это моя мама никому не известна, ей никак не удавалось, и она постоянно выталкивала подругу вперед, призывая ее работать локтями и вообще пошевеливаться.
– Нужно уметь пользоваться всем, чем Мадам Природа тебя снабдила, мой кроличек, – учила Эвелин маму. – Ты, с твоей грустной мордашкой и слезами всегда наготове, ничем не хуже этой Морган, да какое там, ты в миллион раз лучше, слушай, тебе надо познакомиться с Жанно (она имела в виду Жана Габена), ты в его вкусе, это точно!
Папа терпеть не мог Эвелин, изо всех сил работавшую под Арлетти, да и вообще не слишком любил киношников, считая их трепачами и позерами, у которых только и есть, что смазливые физиономии. А вот с монмартрским народом он, наоборот, чувствовал себя в своей тарелке и оставался одним из столпов группы вплоть до самого ее развала в войну, когда пришли немцы. Беспощадная ирония Марселя Эме или злой юмор Луи-Фердинанда Детуша приводили его в восторг. Он захаживал к художнику Жену Полу на авеню Жюно. Праздники у Жежена славились по всему Парижу – здесь пили, здесь устраивали схватки, здесь ненавидели попов и ослов любого рода… Все это напоминало цирк, но затевалось не ради смеха.
Чарли Флэг звал моего папу Радзá. Высокий человек, румяный, свежий, в костюмах в полосочку, с прилизанными бриллиантином волосами – тогда ему было года тридцать два. Его мать (единственная наследница Женевского банкира) в свое время снова вышла замуж – за англичанина, владельца конного завода в Кенте и большого любителя псовой охоты. Чарли так люто ненавидел отчима, что пытался даже убить его во время свадьбы, праздновавшейся в замке Рошфор-ан-Ивлин. Орудие преступления – пробка от шампанского!
Англофоб и забияка, он частенько дрался в баре «Савой», хорошо известном как логовище Ростбифов. Он лихачил на своей «испано-суизе» цвета какао и напропалую, весело транжирил деньги, в очередной раз выданные матерью. Если он не напивался, мог быть чудовищно скучным, а когда был пьян, принимался либо приставать ко всем, либо всем хамить. Я никогда не мог понять, ни каким образом они с папой ухитрились познакомиться, ни – главное! – каким образом смогли остаться такими добрыми друзьями, но как бы странно ни выглядела эта дружба, именно эта дружба оказалась способна выстоять в любых испытаниях. Ни ссор, ни споров между ними не случалось. У Чарли, по словам Марселя Эме, побуждавшего его взяться за перо, был писательский темперамент, однако лень родилась раньше него самого, и он оправдывал свое ничегонеделанье отсутствием сюжетов. «В день, когда на меня выйдет персонаж, можете заготовить мне место в Пантеоне!» Вроде бы мой папа сам предложил себя другу в качестве персонажа, но как бы то ни было, Чарли Флэг поклялся как-нибудь рассказать историю последнего из Радзановых. И я почти уверен, что он сдержал бы слово, если бы однажды вечером 1943 года ему не перешел дорогу Песочный человек.
Папа, получивший французское гражданство в 1927 году, не служил в армии, а потому был мобилизован в сентябре 1939-го рядовым. Отца ничуть не огорчало отсутствие галунов и нашивок, основным преимуществом которого стало освобождение от самых неприятных обязанностей. Его направили на базу Серкотт поблизости от Орлеана, где испытывались артиллерийские снаряды, и он благодаря своему таланту пианиста занимался там солдатским клубом. Серкотт, смерткотт – неплохое укрытие!
Этот период был отмечен не только отъездом папы, но и торжественным возвращением бабушки – не хватало только фанфар. Война смешала все карты, и кошмарная Анастасия воспользовалась исключительными обстоятельствами, чтобы покинуть ментонское убежище, где она изнывала от жары и умирала со скуки в окружении своих дряхлых и бездельных генералов. Разумеется, она представляла это стратегическое отступление грандиозным самопожертвованием, утверждая, будто долг в ней возобладал над собственными интересами. Сметя одним движением руки все свои вчерашние нарекания, бабушка безо всякого урона для своей чести вернулась домой и сообщила, что не могла поступить иначе, потому как необходимо поддерживать в войсках высокий боевой дух. На полный мир с мамой рассчитывать было нечего, но нечто вроде перемирия для внутреннего пользования Анастасия установила, – естественно, на выгодных лишь ей одной условиях. Бабушка одарила нас своим присутствием, а мы – теперь вечные бабушкины должники – обязаны были забыть навсегда, что первый выстрел прозвучал с ее стороны.
Мама держала нейтралитет, не желая подливать масла в огонь. В то время, когда столько французов обдумывало, не придется ли пойти на сделку с немецкими захватчиками, нам приходилось учиться мирной жизни с оккупанткой, вломившейся в дом 37 по улице Гамбетта, махонький трехцветный домишко (синие ставни, белые стены, красная крыша) на окраине Шату: мы туда только что переехали. Драконша снова заняла свое место, полная решимости царствовать в нашей вселенной и не признавая ни малейшей возможности оспаривать ее соизволения.
– У тебя нет никаких данных, можешь не стараться!
Эту фразу, навсегда запечатлевшуюся в моей памяти, бабушка впервые бросила мне в лицо в тот вечер, когда – как часто бывало после ухода отца в армию – я попытался заглушить тоску, подобравшись к его святилищу, осторожно трогая слоновую кость клавиш, но даже и не стараясь извлечь какие-то звуки. Мне казалось важным только одно: поставить пальцы на еще теплые отпечатки папиных, и пианино я использовал на манер инструмента не музыкального, но необходимого для занятий спиритизмом. Вот только ответил мне не папа, этим озаботилась его мать, наградив в придачу к обвинению такой затрещиной между ушей, что я чуть было не стал инвалидом на всю жизнь.
Слуха моего никто и никогда не проверял, да и какая надобность: без того ясно, что «нет никаких данных», и причина не имеет никакого отношения к музыке, причина только в генетике: мне, конечно, передались по наследству все материнские пороки и изъяны, радзановская же прекрасная наследственность пропала даром. «Этот парень – вылитая мать!» – с наслаждением подчеркивала коварная Анастасия в минуты гнева. Единственным обладателем радзановского гения был, есть и будет ее сын Димитрий. С той минуты, как в расцвете лет ушел из жизни старший сын, блестящий танцовщик Федор, все надежды несравненной родительницы обратились на последыша, ну и она, меча взгляды-молнии и грозя крючковатым пальцем, вбивала мне в голову его непростой жизненный путь – причем так, словно я один виновен в том, что мой отец оказался не востребован.
– В пять лет он дал свой первый концерт! В пятнадцать затмил Горовица! В семнадцать записался в Белую армию! А в двадцать шесть влюбился как ненормальный в эту Виолетт Маржори, которая даже грамоты не знает! Да-а-а, единственное, что не удалось обоим моим сыновьям, – жениться по-человечески! А поскольку они оба никогда ничего не умели делать наполовину, вот тебе и полный провал!
– Чем это вы тут занимаетесь в темноте?
На пороге стояла мама – она внезапно вернулась от соседки, мадам Ефимовой, и теперь с неизменной своей улыбкой нас разглядывала.
Бабушка не ответила ни слова, резко отвернулась и вышла из комнаты.
– А я принесла голубей и репы! – Мама явно была счастлива, что может приготовить вкусный ужин.
– А я сегодня вечером иду в гости, – сухо заявила бабушка, возникнув на пороге и накидывая на плечи голубого песца.
Все мужчины, окружавшие нас раньше, теперь находились, как и папа, на боевом посту. Все – за исключением Государственной Тайны, которому благодаря своим связям с Эмилем Демоеком снова удалось выкрутиться и не попасть под мобилизацию. Он работал в Военной школе перехватчиком телефонных и радиоразговоров, что меня не слишком удивляло: такая работа очень подходила человеку, охотно подслушивавшему под дверьми. Едва он узнал, что дражайшая Анастасия снова тут, нас стали удостаивать обычных визитов. Судя по тому, сколько времени Куликов проводил у нас и с каким трудом маме удавалось его наконец выставить, вряд ли он работал сверхурочно, да, вероятнее всего, там и слушать-то было особенно нечего.
Я ложился рано, но не мог уснуть и вскоре вставал с постели. Когда сон не шел, мне нравилось сидеть на верхней ступеньке лестницы и слушать разговоры взрослых, собравшихся вокруг детекторного приемника. Бдения длились таким образом до поздней ночи, и маме приходилось терпеть присутствие двух чужих людей, которые и по отдельности взятые были не сахар, а объединившись и вовсе превращались в монстров. Казалось, что помехи, еще вчера скрипевшие и трещавшие в приемнике, захватили гостиную, воплотившись в образах бабушки и ее преданного поклонника. Лишь много позже я осознал, до чего мучительно все это было для мамы, которую с двух сторон дергали первоклассные специалисты в области травли, умевшие терзать так, чтобы не оставалось видимых следов.
«Странная война» – выражение, мне кажется, самое подходящее, чтобы определить характер постоянного конфликта между матерью и бабушкой – шла в течение всех следующих девяти месяцев. Маленький домик в Шату стал ареной вражды, ее нервным центром, и на равнине Сены происходили сражения куда более ожесточенные, чем на линии Мажино.
Тем не менее мама держалась стоически, изо всех сил старалась скрыть от меня свои муки и гораздо больше переживала из-за лишений, которые приходилось переносить моему отцу, чем из-за унижений, которым поминутно подвергали ее саму. Стоило ей погрустить вслух об участи своего бедного мужа, гадюка разом высовывала жало и впивалась в бедняжку, обвиняя ее в недостойном поведении: как это можно – оплакивать судьбу солдата, вставшего на защиту родины! Разве она, Анастасия, плакала, когда ее дорогие сыновья записались в Белую Гвардию? Разве принималась стонать и охать всякий раз, как узнавала об очередном поражении армии Деникина?