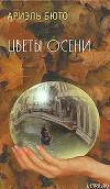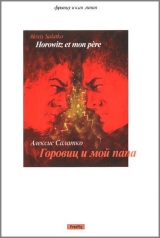
Текст книги "Горовиц и мой папа"
Автор книги: Алексис Салатко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Алексис Салатко
Горовиц и мой папа
Моему деду и моему отцу – их воспоминаниями вдохновлен этот роман.
Я с детства обожаю Скарлатти, Брамса, Шумана: папа включал старенький приемник, и даже речи не могло быть о том, чтобы слушать что-то иное, не классическую музыку. И я слушал. Еще очень люблю Шопена – не вальсы, а ноктюрны, прелюды, больше всего – этюды. Я люблю их в исполнении Липатти, но особенно – в исполнении Горовица.
Это был гений века – Горовиц.
Серж Гейнсбур
В январе 1953 года я решил слетать с отцом в Нью-Йорк. Там отмечался юбилей Горовица, и можно было пойти на праздник в Карнеги-холл. Жить Димитрию оставалось совсем недолго, и путешествие стало для нас последней возможностью не только побыть вместе, но и приблизиться к божеству, оставившему такой глубокий отпечаток на моем детстве.
Мне тогда только что исполнилось двадцать два, и я мечтал о театре – мама, умершая несколько лет назад, была актрисой. Я-то мечтал, зато родителю моему вовсе не хотелось таким мечтам потакать, напротив того – он настаивал, чтобы сын занялся медициной. Что было делать? Какая может быть чистая совесть, если не ходить на вскрытия… Ходил. А поскольку для этого требовалось мужество, я, пытаясь его набраться, старательно представлял себе, какие ужасы довелось наблюдать Димитрию, когда он шел по России с Белой гвардией.
Распотрошенные трупы устилали путь, по которому двигалась разбитая армия Деникина. Юные добровольцы – мой папа был одним из них – по колено в снегу пробивались сквозь снежные бури. Красивые мундирчики приказали долго жить, все были одеты во что попало, все заматывали корпией голову вместе с лицом, чтобы не померзли уши и нос.
Я воображал длинную вереницу мумий, тянущуюся через опустошенные волками леса. Добровольцы ночевали где придется, они спали под открытым небом даже в лютые морозы – ниже двадцати градусов. Им безжалостно одним махом отсекали кому почерневший палец на ноге, кому всю захваченную гангреной конечность. Папе повезло: руки уцелели. Нет, не то чтобы повезло, на самом деле он знал секретный способ: шевелить пальцами от зари до зари. Превосходный пианист, настоящий профессионал, он, засунув руки в карманы, проигрывал там Шопена, одну вещь за другой! Было ему, когда началась его истинно мужская жизнь, всего семнадцать. И началась она с этого запомнившегося навсегда разгрома.
«Поступить так! С нами!» Пишу и слышу бабушкин голос, резавший слух, как скальпель прозектора резал в анатомичке трупы. Оскорбленное «с нами» бабушка относила исключительно к Радзановым, обращая тем самым историческое поражение в личную обиду. Бабушка была по происхождению француженка. Дочь Огюстена Мулинье, художника, специалиста по геральдике, она провела часть своего детства в Веве на берегах Лемана. Бабушке нравились иностранные языки, она изучила русский и польский, после чего, восемнадцатилетняя, эмигрировала на Украину, в Киев – хотела стать там учительницей и стала ею.
В Киеве и случилось ей познакомиться с Сергеем Радзановым. Сергей работал в городской администрации, где обязанности у него были весьма туманны, зато деятельности обладателя завидного места неизменно придавалось значение, обратно пропорциональное его занятости. Этот добрейшей души человек не без удовольствия подставил властной Анастасии палец под обручальное кольцо и сделал ей после свадьбы с интервалом в тринадцать месяцев двух сыновей – Федора и Димитрия.
На одной из немногих сохранившихся у меня фотографий дедушки-чиновника он стоит, томно облокотившись о кресло, где восседает супруга, крепко прижимая к себе мальчонку лет четырех-пяти – в платьице и с кудряшками. Скорее всего, это мой дядя Федор.
У Сергея черты лица были тонкие, изящные, только нос крупноват – такие носы передавались у Радзановых из поколения в поколение. «С радзановским носом всем нос утрешь!» – шутил папа. Дедушка носил тонкие усики, а курчавые его волосы стояли, будто хохолок, над обширным лбом. Взгляд у дедушки на снимке ласковый, но чуть-чуть насмешливый.
В самом начале их романа бабушка позволяла себе называть дедушку «mon chou» [1]1
Mon chou (фр.) – мой миленький, душенька. Игра слов: «mon chou» по-французски еще и «моя капуста». (Прим. перев.).
[Закрыть]– обращение, привычное любому французу, но для русского слуха странноватое: оно словно бы придает любви оттенок фривольности. Вскоре эта фривольность Анастасии перестала нравиться, тем более что в ответ, словно бы желая приравнять свой порыв нежности к бабушкиному, дедушка, уже по-русски, называл ее то «морковкой», то «тыквочкой». Бабушка с трудом это переносила, особенно если дедушка награждал ее подобным «овощным имечком» на людях. Еще бы! Став преподавательницей Института благородных девиц, Анастасия возомнила о себе чрезвычайно высоко. Мы должны поддерживать свое положение в обществе!
Думаю, из всего сказанного выше ясно, что детство братьев Радзановых проходило под самой что ни на есть счастливой звездой. Они вели в Клеве вполне беззаботное существование, а требовалось от них всего лишь прилежание в занятиях – но уж тут бабушка спуску не давала, держа их если не всегда в узде, то все-таки в ежовых рукавицах.
Бабушка вечно была окружена стайкой учениц старшего класса, явно перед ней заискивавшими, и, бесспорно, царила в своем мирке. А дедушка жил себе помаленьку в тени жены и ни о чем не тревожился. Понятия не имею, какими на самом деле были дедушкины вкусы и склонности, но мне и до сих пор нравится представлять себе, как он балуется с хорошенькими горничными, пока спесивая Анастасия гордо вышагивает по Крещатику – киевским Елисейским Полям – и в знак милости и высокомерного дружелюбия чуть наклоняет голову в ответ на почтительные приветствия прохожих. Представляю еще, как в их гостиной в определенные для визитов дни собираются вокруг сияющего медным блеском самовара друзья дома, среди которых господин Штернберг и – со времени своего приезда в Россию – мой двоюродный дедушка Фредди.
Бабушкин родной брат Альфред приехал, по совету старшей сестры, участвовать в распространении французского языка и французской культуры в этом чрезвычайно франкофильском краю Российской империи. Не забыть бы сказать, что незадолго до отъезда в Киев, еще в Монруже, дядюшка Фредди женился на некой Урсулине, подручной швеи у Пуаре – к вящему разочарованию Анастасии: бабушке этот брак не нравился, она считала его мезальянсом.
Димитрий пошел в школу и почти сразу же начал серьезно учиться игре на фортепиано – поступил в Консерваторию. Что же до его старшего брата Федора, тот оказался даровитым танцовщиком, и дарование помогло ему впоследствии стать непременным распорядителем всех балов, какие только устраивались в хорошем обществе. Бабушка, естественно, превозносила обоих сыновей до небес, бдительно следя за тем, чтобы ее мальчики не дали увянуть своим Богом данным талантам.
Братья Радзановы были неразлучны. Всё у них было общим, всё на двоих – девушки, кружки пива, удары кнутом: стоило «мальчикам» отклониться от намеченной бабушкой линии, Стася порола их, как порола бы крепостных, будь у нее крепостные.
Соучеником Димитрия в консерватории был некий Владимир Горовиц. На старой фотографии класса, датированной 1915 годом, заметнее всех мой папа – наподобие некоторых артистов, он ухитрился заполнить собой весь экран. Стоящий слева от него однокашник – маленький, тщедушный, ушастый (уши у мальчика были как у слоненка, за что он и заслужил прозвище Лопоухий) – выглядит бледно. И уж у кого-кого, а у Анастасии сомнений не было: какой там Горовиц, какие могут быть сравнения, ее Митя первый и лучший. Вот увидите: мой Митя обставит их всех!
Много лет спустя бабушка описывала мне, как ее Митя вводил себя в состояние транса, чтобы начать общение с богом музыки. Он обрушивал на клавиши гром и метал молнии. Опять-таки по бабушкиным словам, Горовиц – жалкая мартышка, из последних сил выбиваясь, лишь бы ни в чем не уступить ее Мите, и подражая ему во всем – ни на что подобное способен не был. В те времена на втором этаже дома, принадлежавшего городским властям и стоявшего примерно на середине Алексеевской улицы, мальчики то и дело устраивали в гостиной Радзановых дуэли. Оружием становилось, разумеется, фортепиано. Они бились вовсе не до первой крови – нет, до тех пор, пока кто-то сфальшивит, а чтобы усложнить задачу и придать схватке ожесточенности, иногда смазывали клавиши хозяйственным мылом. Надо ли уточнять, что победителем в этих головокружительных состязаниях неизменно выходил мой отец?
На других фотографиях они стоят с ракетками под мышкой на перроне вокзала в Веве. Мальчики только-только сошли с поезда – их пригласили провести каникулы в Швейцарии, у отца Анастасии, того самого рисовальщика гербов.
Это весна 1916-го. Тут и Федор, и мой папа, и Лопоухий, а с ними юные русские красавицы, естественно, тоже консерваторки. Теннисные матчи, судя по всему, были забавными. Неуклюжему, совершенно не спортивному Горовицу не удавалось отбить ни одного мяча. Степной ураган за фортепиано, на корте он превращался в слабое дуновение ветерка, нетвердый в коленях, он исчезал в облаках утоптанной поначалу, но взрытой им земли, – и тогда Володю водружали на судейское кресло, где этот маленький хитрец брал реванш, выдумывая ошибки теннисистов и непрестанно свистя.
Приезжие поселились в шале прадедушки с великолепным видом на озеро Леман. Дом был битком набит всяким хламом, имеющим отношение к геральдике. Митя влюбился по уши в одну из девочек, скрипачку Ольгу, самую красивую и талантливую из девочек, но любовь его натолкнулась на непредвиденное обстоятельство: Лопоухий! Тайна тайн – этот последний явно пользовался успехом у прекрасного пола! Вот тут Володя явно преуспевал, тут его жалели, но при этом еще и холили и лелеяли. Ольга взяла Лопоухого себе под крылышко – Мите в этом сближении ради опеки виделось что-то непристойное, и мой будущий папа не упускал случая высмеять соперника. Скрипачка же неизменно кидалась на защиту малыша, а Димитрия Радзанова, уродившегося рослым красавцем, называла грубой скотиной. Крошка Горовиц посматривал на такие дела искоса и мотал на ус. Этот парень, объясняла мне бабушка, всегда был мастер оборачивать самое что ни на есть неприятное положение себе только на пользу, он-то уж всегда из воды сухим выйдет – должно быть, еврейская кровь все решает, не иначе.
На выпускном экзамене в Консерватории Горовиц, разумеется, показал себя блестящим пианистом, но все-таки не таким блестящим, как Митя, который был просто ослепителен. Быстрые, ловкие, сильные пальцы со звоном рубили горный лед клавиш и возносили юного маэстро к заоблачным гималайским вершинам 29-й сонаты Людвига ван Бетховена, известной под названием «Хаммерклавир» [2]2
Хаммерклавир, или венское фортепиано – предшественник рояля, отличающийся от него рядом конструктивных и акустических особенностей. Инструмент меньше размером, музыкант нажимает на педали коленями, и – благодаря тонким струнам и кожаным молоточкам – хаммерклавир звучит тише и мелодичнее.
[Закрыть]. Еще бы – в жюри сидела Ольга! Да-а-а… в жюри сидела Ольга – стало быть, можно было ожидать худшего. Однако соревнование окончилось ex æquo [3]3
Ex æquo (лат.) – вничью.
[Закрыть], и бабушка по этому поводу страшно негодовала. Скандал века – так она называла итоги того памятного конкурса.
Революция положила конец золотому времечку. Братья Радзановы вступили добровольцами в Белую Гвардию. Никто их об этом никоим образом не просил, особенно моя бабушка, что не мешало ей много лет спустя рассказывать всю историю на свой лад:
– У нас не было выбора. Когда родина в опасности, не время рассуждать. Мы прислушивались только к голосу долга, мы очертя голову бросались в атаку. И если бы все надо было начать сначала, мы бы…
В то самое время, когда красные разоряли и грабили Киев, моего дедушку хватил удар. Он выздоровел, только лицо у него после пережитого осталось частично парализованным, и выражалось это главным образом в том, что он не мог согнать с губ дерзкую улыбку – невольную, но совершенно неистребимую. Когда захватчики вторглись в служебную квартиру Радзановых, дедушка дорого заплатил за эту улыбку. Ее расценили как провокацию, преступника на глазах застывшей в ужасе жены выгнали ударами прикладов на лестницу, избили, и несколько дней спустя после медленной агонии ни в чем не повинный и совершенно безобидный городской чиновник скончался. Ему было всего пятьдесят пять лет. Два его сына, объединенные равной ненавистью к коммунизму, в те дни за много верст от родного дома с последнею силой отчаянья защищали изначально проигранное дело.
Мой отец мало говорил об этом одинаково героическом и бедственном периоде своей жизни. Не знаю, к примеру, в каких арьергардных боях они с Федором, одетые в белые мундиры с малиновой опушкой, участвовали в течение двух лет. Позже, в редких разговорах на эту тему, папа только называл места, где шли сражения, и названия эти звучали загадочно: Карпова Брека [4]4
Ошибка! Подлинное название: «Карпова Балка» – у Степана Щипачева есть стихи о Гражданской войне с таким названием, там есть строки: «С Карповой Балки и ветер, и гром / молниями клинки, – / И обессилели под огнем / В сибирских папахах полки…»
[Закрыть], Галлиполи… Моя фантазия тут же и озвучивала эти странные слова грохотом взрывов, окрашивала заревом пожаров. На фотографии, сделанной в полевом госпитале, отец изображен с горсточкой меньшевиков, по ним будто дорожный каток проехал – бледные щеки запали, мундиры изодраны, они выстроились в последнее каре. И здесь тоже папа выделяется – взъерошенными волосами, осанкой человека, которого смерть не берет, сигаретой, обращенной огоньком к ладони левой руки.
Белые капитулировали, мой дедушка умер, все его добро было конфисковано, бабушка и вернувшийся домой папа отправились в Севастополь, откуда отплыли во Францию – им разрешили уехать, потому что ушлая Анастасия оставалась подданной Французской Республики. Это было в 1923-м. А Федор, к тому времени женатый, не стал покидать Киев, и годом позже его прикончил тот самый тиф, что опустошил тогда едва ли не весь новенький Советский Союз.
После трех недель изматывающего путешествия грязные, донельзя запаршивевшие, во вшах и без гроша в кармане Анастасия с Димитрием отыскали в одном из парижских пригородов дядюшку Фредди, который вместе со своими тремя ребятишками вернулся во Францию после первых же залпов «Авроры».
Осесть в Монруже [5]5
Дословный перевод названия – «красная гора».
[Закрыть], когда ты два года прослужил в Белой Гвардии – История улыбнулась не без иронии! Квартирную хозяйку Альфреда звали мадам Курья… ну и пришлось семерым чудом избежавшим гибели постояльцам тесниться в каком-то курятнике, другого места не нашлось, а для моей бабушки, привыкшей к «придворной роскоши», это было – как скатиться вниз по наклонной плоскости, это просто ужас, это полный крах! Но Анастасия была не из тех женщин, что опускают руки. И Радзановы всегда находили выход из положения, несмотря ни на что, разве не так? Если они смогли пройти через всё, это не случай помог, это потому так получилось, что Димитрию назначена исключительная судьба. От этого Стася никогда не отступится. И что там материальные трудности! Имеет значение только то, что ее сын станет блестящим концертирующим пианистом!
Она, не поколебавшись, заложила в ломбард последние драгоценности, чтобы подарить ему фортепиано – подержанное, разумеется, но талант юноши позволит ему раздобыть и получше, когда колесо фортуны повернется куда положено.
Я почти не знаю подробностей их жизни тех лет. На что жила эта маленькая колония? Дядюшка Фредди устроился работать в Опера Комик. Официально он занимался в театре машинным оборудованием, но подозревался в том, что куда больше времени проводит, шатаясь по кабакам Больших Бульваров, чем лазая по колосникам на манер акробата. Что же до Урсулины, то Урсулина шила дома театральные костюмы. Ее прозвали «Мастерица-золотые-руки», и это прозвище подходило ей как нельзя лучше. Представляю себе «курятник» в Монруже, битком набитый нарядами разных там сопрано, меццо и контральто, пудреными париками… а посреди всего этого грязно-феерического декора – Фредди (у него был крепкий звучный баритон), распевающий во весь голос великий дуэт Фауста и Маргариты! Бабушка, наверное, давала тогда уроки иностранных языков. Пусть разорившаяся, пусть лишенная всего, что у нее было, она сохранила аристократические манеры, она четко делила людей на «наших» и «не наших», и, с этой точки зрения, мадам Курья и собственная невестка представлялись ей одного поля ягодами. Иными словами, вот тут она и ее сын, Божий дар, а тут – эти тетки, яичница.
Димитрий играл на своем пианино днем. Ему оборудовали «музыкальный салон» в лачужке позади огорода, и музыканту приходилось перекрывать аккордами гомон настоящего птичьего двора. По вечерам же отец занимался химией в Школе искусств и ремесел.
Дядюшка Фредди открыл мне позже, что в те времена его племянник тайно встречался с членами террористической организации, которые регулярно устраивали сходки в помещении, где прежде выращивались шампиньоны, а теперь преобразованном в винный погреб. Он рассказал, что пещерная группка собиралась в Карьер-сюр-Сен, по адресу: Офицерская, 26, – и что намерения ее были очевидны: убить Ленина и посадить на трон царевича. Рассказал, что папа тогда пошел изучать химию с единственной целью: выучившись, он сделает адскую машину, с помощью которой превратит лысого тирана с его бороденкой в кровавый бифштекс, полетят клочки по закоулочкам. «Если бы Димитрий не познакомился с твоей матерью, – заключил дядюшка Фредди, – быть бы ему одним из самых великих преступников в современной истории!»
Каждое воскресенье Альфред со всем семейством отправлялся на Монмартр, где собирались нищие и богемные, но сильные радостью жизни художники. Марсель Эме [6]6
Марсель Эме (1902–1967) – блестящий французский прозаик, автор семнадцати романов и множества новелл, использовавший в своем творчестве богатую палитру изобразительных средств: сатиру и юмор, злой гротеск и тонкий психологизм.
[Закрыть], Жен Пол [7]7
Жен Пол (Эжен Поль, 1895–1975) – французский художник и гравер.
[Закрыть], доктор Детуш [8]8
Доктор Детуш – Луи Фердинанд Селин (1894–1961), французский писатель, врач по образованию, имеющий устойчивую репутацию человеконенавистника, анархиста, циника и крайнего индивидуалиста.
[Закрыть]и Чарли Флэг, ставший лучшим другом моего папы… Сюда – в эти пока еще вполне деревенского вида края – приходили и девушки, причем немало. Кого тут только не было: вот гризетка, вот синий чулок, а вот и синий чулок, в свою очередь, уступает место танцовщице с Пигаль…
Именно здесь, на танцплощадке, и встретил однажды во время довольно пьяной прогулки Димитрий семнадцатилетнюю начинающую артисточку по имени Виолетт.
Пианино на танцплощадке было, но музыкант играл отвратительно, и дядюшка предложил племяннику сию же минуту подменить неумеху. Папа, естественно, согласился.
На том повороте жизни мой будущий отец внешне страшно напоминал какого-нибудь демонического персонажа Достоевского: бледный, изможденный, с лихорадочно пылающим взглядом, волосы цвета воронова крыла, разметавшиеся по высокому лбу, – словом, было в нем все, чтобы решительно нравиться новым друзьям-маргиналам. Но не только им…
Димитрий стал играть. Когда дело дошло до штраусовского вальса «На прекрасном голубом Дунае», он заметил, что юная Виолетт глаз с него не сводит.
– Что же вы не танцуете? – удивился отец.
– А с кем мне танцевать? – вопросом на вопрос ответила девушка. – У моего кавалера руки заняты!
Это была любовь с первого взгляда.
Весной 1925-го мои родители поженились, не обратив никакого внимания на бабушкин запрет, и, в ответ на это, последняя сразу же яростно возненавидела невестку. Отец взял в свидетели Чарли Флэга, а мама – Эвелин Ламбер, актрису, двойника Арлетти.
Виолетт родилась на юге, у Средиземного моря, она была сразу и отчаянно веселая, и очень сдержанная. Мой французский дедушка, отец Виолетт, погиб во время Первой мировой, бабушка и прабабушка после его гибели стали торговать рыболовными снастями и наживкой – они держали лавочку то ли в Сете, то ли в Нарбонне, я никогда толком не знал. А потом они обе умерли от испанки. У юной Виолетт не осталось ни брата, ни сестры, ни тетки, ни дяди. Зачем ей понадобился Париж, как она добралась до столицы, – тоже понятия не имею, но всегда слышал от папы, что Виолетт приехала специально для него. У мамы не было образования – недостаток в глазах свекрови и сам-то по себе непростительный, а к тому же еще больше отягчавший главное преступление злодейки против ее величества Анастасии: «Она отняла у меня сына!»
Вскоре произошло знаменательное событие: папа получил работу. Узнав, каким пиротехническим безумием одержим ее новоиспеченный муж, моя будущая мама умолила его не взрывать Ленина, применить свой диплом к целям менее безрассудным. Впрочем, сопротивление отца было не слишком упорным: заговор тем временем раскрыли, и тайное общество на Офицерской улице распалось. Очень кстати оказалась и весть о том, что Владимир Ильич, сраженный односторонним параличом, отдал концы в Нижнем Новгороде [9]9
Ошибка оригинала, вызванная, скорее всего, путаницей в голове автора: Горки показались ему городом Горьким, ну а Горький, уже естественно, превратился в Нижний Новгород.
[Закрыть], освободив место для товарища Сталина.
Итак, отделавшись от разрушительных склонностей, папа отправился работать – на заводы Пате-Маркони в Шату. Его назначили ответственным за гальванопластику, и он принялся изготовлять диски Альфреда Корто [10]10
Корто (Cortot) Альфред Дени (1877–1962) – французский пианист, педагог и музыкально-общественный деятель. Дебютировал в 1896 г. в Париже. В 1907–1917 гг. профессор Парижской консерватории. В 1918 г. основал (совместно с А. Манжо) и возглавил высшую музыкальную школу в Париже – «Эколь нормаль». В 1943 г. организовал общество камерной музыки. Автор работ по методике фортепианной игры, книги «Аспекты Шопена» (1949) и др. Как пианист известен исполнением сочинений романтиков и французских импрессионистов. В СССР гастролировал в 1936 г.
[Закрыть], Дину Липатти [11]11
Дину Липатти (1917–1950) – румынский пианист с трагически рано оборвавшейся карьерой: он умер в 33 года от лейкемии. Его игра восхищала тонким чувством ритма и расчетом по времени, что особенно впечатляло при исполнении им произведений Шопена.
[Закрыть]и некоего Владимира Горовица, который только-только взволновал, как говорится, общественность своими выступлениями на европейских подмостках.
Моя бабушка, которая никогда не отрекалась от мечты о сыновней славе, увидела в этом лучший рычаг, какой только мог подвернуться. Немедленно изменив своим убеждениям, она, во времена Киевской консерватории клеймившая позором и неустанно поливавшая грязью бывшего папиного соперника, переметнулась в другой лагерь и с каждым днем становилась все более рьяной поклонницей Лопоухого. Ларчик открывался просто: она намеревалась воспользоваться Горовицем как механическим зайцем, чтобы, пустив его вперед, вынудить папу устремиться к той же цели. И весь расчет был на то, чтобы, разбудив гордость Димитрия, оторвать его от жены, этой третьей лишней, и – в темпе allegro vivace– вернуть гения пианизма к заброшенному фортепиано.
Анастасия принялась собирать статьи из газет, где описывались успехи молодого украинского чуда. Это был 1926 год, и Горовиц, недавно сбежавший из «красного дома», приступил к завоеванию Парижа.
– Вот послушай, Митя, он уже дал сольный концерт в салоне Жанны Дюбо… Исполнял «Грустных птиц» и «Игру воды» Равеля в присутствии самого композитора! И тот от всего сердца расхваливал Володю… 12 февраля и 12 марта он выступает в зале бывшей Консерватории… а 24 марта – в Гаво, а 30 мая в зале Земледельцев…
– Вы знакомы с Горовицем? – удивилась моя мама.
– Нет, мадемуазель, это Горовиц знаком с НАМИ!
Бедная мама! У нее и так в зубах навязло это бесконечно повторяемое в разных падежах, трескучее и надменное «мы», это слово, вводящее в семью элитарную систему и напрочь исключающее ее самое из круга людей, достойных дышать одним воздухом с Радзановыми. Чего она только не делала, стараясь завоевать расположение Анастасии! Чего только не делала – вполне безуспешно: можно было подумать, будто любой поступок Виолетт, имевший целью умаслить драконшу, оказывает обратное действие, не усмиряя, а разжигая ярость последней. Свекровь просто не выносила эту актрисульку-недоучку, эту дочь и внучку торговок дождевыми червями, она отказывала плебейке в статусе цивилизованного человека и относилась к ней хуже, чем если бы Димитрий нашел себе жену на помойке.
И к сыну вдовствующая императрица обращалась, как правило, только по-русски, хотя он-то откликался на французском, решительно отказываясь играть в эти игры.
– Говори нормально, мама, прошу тебя, и отвечай, когда Виолетт тебя о чем-то спрашивает.
– Ну, – снисходила Анастасия, – ну, скажем, Горовиц приходил к моим сыновьям. Мы были киевляне, а он из Бердичева, и у бедного мальчика из такой жалкой дыры всего-то и было радости, что поиграть в нашем доме. Но, разумеется, теперь, когда прошло столько времени, когда он пережил столько ужасных событий, Володя вряд ли вспоминает наши музыкальные дуэли и каникулы на берегах Лемана…
Благодаря тому, что с тех пор, как папа нашел работу, деньги поступали регулярно, «чертова семейка» смогла перебраться в дешевую квартирку в Шату, в кирпичном доме под номером 4 по улице Рибо. Это было так называемое социальное жилье, которое город предоставлял малоимущим. И самым прекрасным в концертах Горовица было то, что они позволяли парочке хотя бы несколько часов пробыть в своем тесном гнездышке без настырной свекрови.
А выступления шли иногда день за днем. Поскольку дядюшка Фредди везде был своим человеком, ему ничего не стоило раздобыть билеты, и Анастасия смогла побывать на всех концертах парижского турне Горовица, вплоть до апофеоза во дворце Гарнье, 14 декабря. Триумф. Появившись на вызовы в седьмой раз, пианист сыграл свои «Вариации на тему Кармен». Восторг публики вылился в бурю. Люди отпихивали друг друга локтями, оттаптывали пытавшимся вырваться вперед ноги, только что не по головам шли, умирая от желания хотя бы дотронуться до нового Рубинштейна. Полиции пришлось применить силу, чтобы вывести всех из зала. Бабушка явилась домой в порванном платье и с громадным синяком на заднице справа – синяк она охотно всем демонстрировала как ощутимое доказательство истинности музыкального чуда.
– Ну? Потрогайте-потрогайте, сразу убедитесь, вру я или нет! И вот, скажу я вам, это больше не жалкая бердичевская мартышка, мальчик созрел, мальчик растет, более того… Я не стану врать, утверждая, будто он с тех пор ничего не добился! Потому, если мы не примем мер, он очень скоро нас обскачет. Димитрию теперь, чтобы подняться до его уровня, нужно вернуться к занятиям музыкой и заниматься серьезно.
Эти увещевания продолжались с утра до ночи и едва ли не с ночи до утра, но отец словно бы их не слышал. Отказывался слышать. Для него все это ушло в историю. Горовиц был эпизодом, Горовиц остался в той жизни, которую ему хотелось бы целиком стереть из памяти. А сейчас самое прекрасное в жизни – водить молодую жену в Луна-парк. Они усаживались там в поезд-призрак, и всякий раз, как в таинственной тьме начинала светиться адским светом костлявая с косой, Виолетт прижималась к любимому… что же может быть лучше!
Только бабушку было не переупрямить, и она не собиралась отказываться от своих планов. Она то и дело возвращалась к рассказу о последних приключениях маэстро, добавляя новые и новые, и рассказ постепенно разросся до романа с продолжениями. Забавно, что вскоре уже и я сам мог подхватывать повествование с любого места, поскольку красная нить была выучена назубок и ясна заранее.
Я появился на свет 25 сентября 1931 года в той самой двухкомнатной квартирке без отопления на улице Рибо, где мы жили не просторнее сельдей в бочке, где и втроем-то не удавалось разойтись. Но как бы ни было в этих клетушках тесно, думаю, я не ошибусь, утверждая, что этот день стал самым счастливым в жизни папы. Он не находил слов, чтобы выразить отцовскую гордость и восторг при созерцании плоти от плоти своей. Он настоял, чтобы меня назвали Амбруазом – в честь знаменитого хирурга Амбруаза Паре, ведь все было решено еще до того, как я родился: мальчик станет врачом. Мальчик станет великим врачом – отец кричал об этом повсюду: на Монмартре, на заводе, при встречах с русскими друзьями, в теннисном клубе Везине… все-все должны были знать, что именно его ребенку предстоит вылечить весь земной шар. Димитрий застревал на своих мыслях. Он никогда не менял мнения (но не дай бог было кому-нибудь даже и намекнуть на это, потому что он тут же начинал с пеной у рта утверждать обратное). Он предпочитал скрывать истину от самого себя, что лишний раз доказывало, как всемогуща генетика.
Виолетт думала-думала и, все еще надеясь понравиться бабушке, надумала превратиться в русскую. Но не тут-то было: свекровь только сильнее ее возненавидела. И все-таки мама одевалась на русский лад, готовила русские блюда и принимала у себя русских изгнанников. Одного из них, работавшего, так же, как отец, у Пате, звали Николай Ефимов. Ему медведь наступил на ухо, и, начисто лишенный слуха, он говорил по-французски, коверкая слова, с чудовищным русским акцентом. Его жена, размалеванная не хуже портрета Кикоина [12]12
Кикоин Михаил (1892–1968, по другим сведениям 1973) – известный художник-нонконформист парижской школы, входивший в круг Модильяни, Шагала, Сутина и Кислинга.
[Закрыть], делала себе самокрутки и курила их. У нее был хриплый голос и надсадный кашель. Стоило ей прийти, как распахивались все окна. «Да как же у вас натоплено! – восклицала мадам Ефимова с порога. – А дома я вечно дрожу! Приходите – сами увидите, как у меня!»
Ефимовы жили в двух шагах от нас, домик у них был довольно миленький, чтобы попасть в комнаты, следовало сойти вниз по двум или трем ступенькам. Николай возделывал клочок земли, полого спускавшийся к Сене, и выращивал голубей, многочисленные отпрыски которых нередко воссоединялись с зеленым горошком под крышкой нашей кастрюли. Мне было немножко грустно думать о судьбе несчастных птенчиков, но стоило найти их в собственной тарелке, ход мыслей резко менялся, и радости моей не было предела.
Я любил Николая Ефимова. Если у него оставалось время после работы и после ухода за садом, он мастерил всякие бесполезные штуки. Лучшей из таких штук оказался «Поцелуй Родины-Матери»: ребенок в кроватке, мать стоит у его изголовья. Толстая резинка и два ловко прилаженных противовеса позволяли головке малыша подниматься, а голове матери склоняться к ней. «Да что там особенного, пустяковая работа – проще пареной репы!» – говорил изобретатель.
Мой отец стал первым (наверное, других претендентов не оказалось) покупателем этой жемчужины абсурда. Бабушка была готова сделать из Димитрия котлету за столь идиотский поступок:
– Может, объяснишь, Митя, зачем тебе этот кошмар?
– Низачем. Тем-то он и хорош.
«Поцелуй Родины-Матери» был поставлен на самое видное место – на пианино, и нелепый символ красовался там до того дня, когда папа, за что-то обидевшись на Французское государство, сорвал злость на игрушке и сам отнес ее на помойку.
Помню один вечер, когда развеселая бражка русских собралась у Ефимовых. Разговор был живой, быстрый, подогретый водкой. Мама конечно же немного потерялась, но, слава Богу, мадам Ефимова не лучше землячки Виолетт владела загадочным наречием и потому могла составить ей компанию. Что же до меня самого, то меня убаюкивала музыка языка, которого я так и не выучил, но чьи раскатистые «р» и мягкие «л», составляющие всю его прелесть, навсегда остались мне родными.
Так и вижу перед собой этих набоковских персонажей, воодушевленных, иногда меняющих из уважения к дамам кириллицу на латиницу, разбрасывающихся великими идеями, принимающихся вдруг выспренне мечтать о лучшем мире и способных заразить своей уверенностью по любому вопросу такого простодушного, каким был я.
– Тайна жизни, – сказал Николай Ефимов, – заключена в трех словах!
Я и сейчас слышу, но не способен повторить три этих магических слова: он произнес их тихонько на милом моему сердцу языке, которого, к сожалению, я и до сих пор не научился понимать.
Кроме Ефимовых, нашими постоянными гостями были Штернберги и Куликовы – друзья Радзановых еще по Киеву. Они умели нравиться бабушке и пользоваться ее расположением, а это, как, надеюсь, давно понятно, ох какое нелегкое было дело.
Месье и мадам Штернберг выглядели немножко странно. Папаша Штернберг, высокий, лысый, с мефистофельской бородкой, треугольничек которой сужался к концу ровно до миллиметра. Но главное, что в нем удивляло, – впечатляющий бас-профундо, заботливо выращенный в стенах храма Святого Сергия на Крымской. Это был бас из басов, никогда и нигде больше я такого не слышал. Ни в чем папаша Штенберг был не похож на других – ему, например, ничего не стоило припасть к ручке, свидетельствуя свое почтение, бабушку же он именовал «Cara Mia» [13]13
Дорогая моя (ит.).
[Закрыть], от чего отношения с нею становились еще теплее.