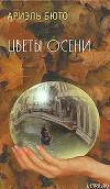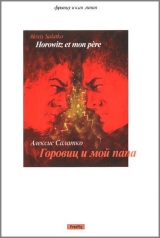
Текст книги "Горовиц и мой папа"
Автор книги: Алексис Салатко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Ну и вот. Я все-таки позволю бабушке еще какое-то время увечить нашу семейную хронику. Эта особа, которая всю жизнь только то и делала, что устраивала скандалы по любому поводу, угаснет годом позже невестки, и, хотя нет никаких доказательств того, что существовала какая-то связь между двумя этими кончинами, готов спорить, что, не имея больше души, которую можно тревожить, и плоти, которую можно травить, кошмарная Анастасия в конце концов умерла от тоски.
Это случилось осенним утром 1950 года. Встав в четыре утра, чтобы выпить ритуальные полчашки чаю с двумя твердокаменными сухарями, взятыми из старой бонбоньерки, Caramia снова улеглась и уснула навеки. Тихая смерть, которой никто в доме даже и не заметил. В половине двенадцатого отец, как обычно, отправился на кладбище – разговаривать с призраком Виолетт до тех пор, пока не запрут ворота, – и только в половине восьмого, в священный час ужина, нам стало ясно, что отныне на стол нужно ставить одним прибором меньше. Такой редкостно сдержанный уход почти заставил нас забыть громкие и красочные уходы из ее репертуара.
Теперь чай заваривал я. Один, в ночи, перед тем как сесть в поезд, который отвезет меня в Париж. Папа еще спал на стареньком железнодорожном диванчике. Я поправлял на нем одеяло, надевал куртку…
Когда мама умерла, мне хотелось продать дом и уехать из Шату. Нет ничего хуже места, в котором прежде ты был счастлив и в котором поселилась беда. А беда любит вить гнездо там, где прежде царили любовь и нежность.
«Старик Радза скоро подохнет, как собака, потерявшая хозяйку», – говорил сосед, вскапывая грядку под салат-эскариоль. Сосед был из тех людей, которые питаются чужой болью. Надо думать, это его успокаивало.
На гвоздике для ключей у входной двери висит старенький судейский свисток, с которым папа управлялся, как никто другой. Мы в середине истории, и пока мне не приходится задумываться о выборе стратегии: я стану врачом, как решил человек, которого сейчас нельзя огорчать еще больше. Однако сцена манила меня по-прежнему, и я все-таки нашел выход, не сам нашел – нищета, в которой мы жили, подарила мне прекрасное алиби, позволявшее и от драматического искусства не отказываться окончательно. Папу выкинули с его фабрики клея (эта работа никогда его по-настоящему не привлекала), и деньги на жизнь стал зарабатывать я, устроившись осветителем в театр «Эберто». Раз уж нельзя самому блистать на подмостках, буду освещать таких потрясающих актеров, как Серж Реджиани и Мария Казарес. Направлять луч света на других – дело, вполне подходящее для сына жалкой статистки и безвестного пианиста.
Каждый вечер после дежурства я поднимался в осветительскую ложу и проливал дождем на сцену волшебство, только этот вечер стал исключением: из Сальпетриер [31]31
Расположенный в одном из самых живописных районов Парижа госпиталь «Питие Сальпетриер» – один из самых старинных во Франции. Еще в 1665 году «Король-Солнце», Людовик XIV, решил начать строительство больницы на месте небольшой оружейной мастерской под названием «Сальпетриер»: здесь производился порох для боеприпасов (глагол «salpêtrer» означает «смешивать с селитрой»). К 1789 году больница, ставшая самым большим в мире хосписом, могла принимать уже до десяти тысяч больных. Позже она превратилась в крупный Университетский центр, объединяющий так называемую «Группу больниц Питие Сальпетриер» – основными задачами этого центра являются лечение, обучение специалистов и научные исследования.
[Закрыть], минуя театр, я поехал прямо в Шату. Я смотрел, как проплывают мимо вагонного окна выстроившиеся вдоль железной дороги маленькие домики в обрамлении грязной зелени.
Димитрию жить остается недолго. Стрелки его часов замерли в семь вечера, когда ушла от нас Виолетт, и хозяин времени потерял голову. С тех пор по предместью бродит несчастный старик. Он приходит на могилу жены и весь день говорит с нею, куря одну за другой «Голуаз». Он рассказывает ей, что их сын скоро станет великим врачом, микрохирургом, что он поселится в Калифорнии и станет лечить руки старых пианистов. Такие клиенты на вес золота. Возвращаясь с кладбища, он не преминет заглянуть в бар на углу «Принцессиной авеню». Зайдет, побудет там часок-другой. Потом, пошатываясь, добредет до дому и сразу – к Восточному Экспрессу: свернется здесь калачиком и станет рассматривать альбом с фотографиями, пока не сгустятся сумерки…
Когда я пришел домой, папа дремал. Альбом выскользнул из его рук, снимки рассыпались по полу. Во сне он пускал слюни. Я вытер ему рот, собрал фотографии, вгляделся в них. Некоторые рассматривал чуть подольше – как вот эту, где мой юный отец в центре компании своих приятелей по Консерватории, взлохмаченный, с сияющей улыбкой, а с краю – так, что одно ухо осталось за кадром, – Володя Горовиц. Великий Радзанов, великолепный Митя. Тот, кто должен был превзойти всех, пал сейчас ниже некуда. Кладу альбом на закрытое пианино. Больше папа никогда к нему не подойдет. Он играл только для нее.
Я выхожу из здания вокзала и поднимаюсь по дороге к улице Мезон. Выпавший с утра снег почти совсем растаял, превратившись в грязно-желтую кашицу. Оставляю позади цеха «Пате-Маркони», прохожу вдоль стены, отделявшей могилы от социального жилья: узкой полоски хибар, кое-как сложенных из песка и кирпичей. Кладбище зимой закрывается раньше. Будка сторожа освещена, в воздухе плывет запах жаркого, смешиваясь с ароматом туи. Ужасное время года, когда живых разлучают с мертвыми: летом папа может оставаться с мамой допоздна.
Димитрию исполняется пятьдесят четыре года. Сегодня его день рождения. Никаких свечек, потому что никакого пирога. Он любил только еепироги. И голубей с зеленым горошком от Николая Ефимова. Если онаих готовила.
У меня грандиозная новость, которой я побаиваюсь с ним поделиться. Пошлет ведь куда подальше! Да как я мог быть настолько безумным, чтобы хоть на минутку предположить, будто он присоединится ко мне в этой авантюре?
Толкаю дверь нашего домишки. Темно. Восточный Экспресс пуст. В гостиной папы нет. Наверху тоже нет. Спускаюсь в подвал, молясь о том, чтобы с ним ничего не случилось, но уже готовлюсь увидеть его труп у ножки верстака. Нет, и в подвале никого. Взлетаю по лестнице. Вместе со звуком спускаемой воды с души моей сваливается страшный груз. Папа, застегиваясь, выходит из туалета. Мы почти сталкиваемся. Он кажется смущенным – так, будто я застал его бог знает за каким занятием.
– Как ты рано вернулся!
Не раздумывая, машинальным движением, и молча, без единого слова, протягиваю ему большой конверт. Димитрий его открывает и разглядывает билеты.
Объясняю. Места в концертном зале нам обеспечил верный Жирардо, который руководит товариществом бывших сотрудников «Пате-Маркони». Билеты на самолет я смог купить, договорившись в больнице – мне выдали аванс в счет будущих дежурств. Все в порядке, мы можем трогаться в путь, остается только прибыть в аэропорт, а там пристегнуться и – вперед, в Америку!
Как я и опасался, папа возвращает мне конверт и молча идет к лестнице, ведущей в подвал. Если он не слишком устал, иногда ему случается что-нибудь помастерить. На третьей ступеньке он останавливается и, погладив подбородок, спрашивает:
– Когда мы летим?
– Через неделю, одиннадцатого.
Он качает головой и скрывается в глубине пещеры…
Мы оба, и папа, и я, впервые поднимаемся по трапу в самолет. Позади нас сидят два стреляных воробья: в ожидании взлета они делятся воспоминаниями и хохочут как ненормальные. Они говорят об авиаторе Жильбере, который приземлился на крышу завода, где делают плитку, на улице Сен-Шарль, говорят о падении Блерио в ров укреплений в Исси и о том самом Моране – как ему удалось в последний момент сесть на эспланаду Инвалидов, где он и схлопотал штраф – первый такого рода.
Прошу отца застегнуть ремень безопасности и слышу категорическое «нет». Если самолет загорится или мы станем падать в море, он предпочитает быть свободным в действиях. Стюардесса предлагает нам фруктовый сок. Он вынимает из кармана пиджака фляжку с водкой. Каждому – свое горючее. Незадолго до взлета он говорит, что хочет писать. Прошу его немного потерпеть: он сможет облегчиться, когда наберем высоту. Опять нет, ему надо срочно, сию минуту, он больше не может терпеть.
– Ты же не хочешь, чтобы твой отец намочил штаны, правда?
Я вспоминаю Чарли Флэга с его хитроумной трубкой, пытаюсь урезонить папу. Он говорит, что сил нет терпеть, глаза его полны слез. Делаю знак стюардессе, но та уже пристегнулась. Самолет трогается с места, едет по взлетной полосе. Гудят моторы. Резкий толчок – и мы устремляемся к облакам. Уши как ватой закладывает. Впечатление такое, словно нас поместили на дно аквариума. Мы летим. Папа морщится от боли. Помогаю ему встать и чуть подталкиваю в нужном направлении, он грубо меня отпихивает.
– Может, ты мне еще и егоподержишь?
Никогда я не видел отца в таком состоянии. В спешке он роняет пиджак. Наклоняюсь, чтобы поднять. Из бумажника все высыпается прямо на пол в проходе. Собираю. Кладу все на место. Хм, удивительно: что это за фотография, где Димитрий, в итальянском костюме и ботинках с гетрами, стоит, прислонившись к «кадиллаку»? Рядом с ним девочка лет семи-восьми в балетной пачке и черных пуантах. Девочка улыбается.
Папа возвращается. Он идет, по-обезьяньи согнувшись, хватаясь за кресла. Выглядит неважно. Пропускаю его на место. Он хочет курить. Стараюсь отговорить – как положено врачу. Он пожимает плечами, откручивает крышку своей фляги и делает солидный глоток. Мне не предлагает. Отворачивается и смотрит в иллюминатор.
На фотографии у моего отца усы, как у Аль Капоне, проплешинки еще нет – значит, можно предположить, что ему где-то от тридцати до тридцати пяти. Бросающийся в глаза наряд плохо вяжется с его обычным строгим и сдержанным стилем. Быстро подсчитываю в уме: снимок, должно быть, сделан года через два-три после моего рождения. Кто эта балеринка? Что делает мой отец рядом с этим автомобилем, достойным короля воровского мира? Вопросы пронзают меня, как тонкие иглы, их много. И потом… почему он так быстро согласился на путешествие? Хотелось повидаться со старым приятелем Лопоухим? Господи, да я уверен, что на этот юбилей в Карнеги-холле ему плевать с высокой колокольни…
Водитель желтого такси, пакистанец, везет нас в самое сердце Манхэттена. Мерцанию огней не удается сразу загипнотизировать меня – я высматриваю сквозь грязное стекло совсем другое. Папа, который все понял, просит шофера затормозить у обочины. Говорит мне, опустив стекло:
– Оно вон там! – и втягивает ноздрями морской воздух.
– Уверен?
Он кивает. Мне остается только навострить уши. Я никогда в жизни не видел моря. Папа, который не раз проводил каникулы в Крыму, называл море «Черным». Мое первое свидание с океаном произошло ночью и, слушая ворчание этого неразличимого в темноте гиганта, я лучше понимал любовь Мити к его «Черному», способному творить музыку из ничего. Море не видишь, море слышишь. Едва высадившись в Америке, папа дал мне первый урок музыки.
Мы остановились в квартале под названием «Маленькая Украина», в отеле «Царевна», в двух шагах от площади Тараса Шевченко [32]32
Маленькой Украиной называют несколько кварталов в Восточном Вилледже (Нью-Йорк). Площадь же Тараса Шевченко на самом деле не площадь, а маленькая такая улочка длиной в один квартал, которая упирается в старейшую пивную Нью-Йорка «Максорлис».
[Закрыть]. На самом деле это была никакая не гостиница, а просто старый русский пансион, который держала сухонькая и не слишком приветливая хозяйка. Мебель в номере оказалась обветшалой, кругом царила жуткая грязь, окно выходило на кирпичную стену, точь-в-точь такую, как фасад нашего первого социального жилья на улице Рибо. Мы представляли себе сказку наяву и точно рухнули с высоты, увидев все это. Стоило пересекать Атлантику, чтобы обнаружить то, что давно осталось позади! Просто фарс какой-то! Вот вам и прелесть путешествия…
Зато Нью-Йорк предстал нам чистой фантасмагорией. До тех пор я видел этот город только глазами Селина и Кафки (последний, впрочем, в жизни не бывал в Америке), ну и знал его по газетным вырезкам, которые собирала бабушка. После ее смерти я взял себе большой альбом, куда она вклеивала всю собранную ею информацию о Горовице. Интересно, что отразилось бы на лице этого человека, когда он, воображавший (с полным на то основанием), будто за ним следит КГБ, узнал бы, что не менее пристально с момента его отъезда из СССР в 1924 году за ним наблюдает матушка его однокашника по Киевской консерватории?
Теперь мне все было досконально известно: его бегство на Запад, шесть лет спустя после папиного, его лондонский и берлинский периоды перед тем, как он обосновался в США, где сразу же – благодаря своим связям, особенно знакомству с Рахманиновым и дружбе с Тосканини – вышел в звезды первой величины. На дочери Тосканини он в декабре 1933 года и женился, свадьба была в Милане. Впрочем, злые языки утверждали, что Горовиц женился на папаше, а не на дочке… Единственная дочь Горовица и Ванды, Соня, родилась 1 октября 1934-го, в тот самый день, как ему исполнился 31 год. Тут уже пришлось умолкнуть слухам о его гомосексуальности. Этот муж и отец дома появлялся редко, вечно был занят выше головы, ему не сиделось на месте. А еще Горовицу, очевидно, хотелось шокировать обывателя своим поведением – и он успешно это делал. «Стейнвей» доводил до изнеможения, за собой тоже не всегда мог уследить. На гребне успеха, уверенный в своих чарах, опьяненный скоростью, с какой он умел извлекать ноты, Горовиц перестал слышать вещь во время исполнения. Друзья его, во главе с Рахманиновым, забили тревогу: «Вы выиграли гонку по октавам, никто не играет быстрее вас. Но я не могу вас с этим поздравить, потому что здесь нет музыки!» Вот где было его больное место. Три последних года он давал концерты через день, и на каждый приходило еще больше народу, чем на предыдущий. От Сан-Франциско до Чикаго, от Сиэтла до Нового Орлеана – по всей стране люди толпами сбегались поглядеть на его головокружительный акробатический номер. Публика устраивала овации прославленному виртуозу – а виртуоз страдал оттого, что он не признан музыкантом. Серебряный юбилей Горовица даст ему возможность отделаться от репутации ловкача и занять наконец-то место в ряду величайших пианистов всех времен. Завтра вечером он твердо намерен показать, кто здесь первый. Американская публика обожает выступления такого рода. До начала концерта оставалось меньше суток, и вдоль обледенелого тротуара, ведущего к окошкам касс Карнеги-холла, преобразованного в храм благородного искусства, вытянулись очереди.
Я читаю отцу последнее интервью Горовица, готовящегося выйти на ринг и вернуть себе звание лучшего пианиста ровно – день в день – десять лет спустя после своего сенсационного дебюта на нью-йоркской земле. Слушая, понимаешь, что он уже надел боксерские перчатки и пахнет кровью.
«Давление у меня – как у двадцатилетнего. Каждый день я обхожу пешком тридцать – сорок кварталов. Питаюсь исключительно фруктами и свежей рыбой – ни крошки мяса! – и, как минимум, три десятка лет не брал в рот спиртного!»
– Значит, последний раз он пил со мной…
Димитрий так и стоит лицом к окну, глаз не сводя с кирпичной стены. Потом переходит оттуда к кровати, садится на нее, и сетка отвечает ему отчаянным скрежетом.
– Мы обмывали его диплом. Он едва пригубил рюмку водки величиной с наперсток – и был пьян в стельку…
Папа скептически глянул на альбом Анастасии: вот уж собрание глупостей! Попросил меня забыть все эти враки моей бабушки (русские, так сказать, навороты) и послушать его. Хватит уже детских сказочек, вот правильная версия фактов.
– Ну, значит, Владимир Горовиц. В семнадцать лет он первым закончил Консерваторию: выиграл выпускной конкурс. Наградой стали овации и публики, и жюри. Такого сроду никто не видел. Такого сроду никто не слышал – особенно после Листа и Паганини. В него, как и в них в свое время, явно бес вселился. Это было самое начало 20-х годов. Ему хотелось сочинять, но, поскольку большевики конфисковали все имущество евреев, пришлось давать концерты – надо же было прокормить семью. Они организовали трио – он, его сестра Регина и скрипач Натан Мильштейн, – и это трио моталось по Украине: этакое просветительское турне, целью которого считалось музыкальное образование трудового народа: рабочих и крестьян. Целая программа. Их окрестили «детьми Октября», то есть Октябрьской социалистической революции. Они играли в амбарах и хлевах с ужасной акустикой, играли на раздолбанных инструментах. Публику сгоняли туда силком, потому что сразу после музыкального просвещения начиналось просвещение политическое, то есть произносились одна за другой речи, и все это никак не вязалось одно с другим. С ними расплачивались шоколадом, колбасой, иногда – кусочком тухлого мяса. Именно с тех лет, ты же понимаешь, он и сохранил стойкое отвращение к мясу. Но даже играя за ломоть колбасы, даже играя перед несчастными рекрутами-оборванцами, он выкладывался, как на лучшей площадке. Он надевал фрак и гримировался: подводил брови, приглаживал волосы, смазав их гусиным жиром. Он делал это из уважения к публике, он хотел показать согнанным на его выступление рабочим и крестьянам, что он-то, Владимир Горовиц, здесь не для того, чтобы насмехаться над ними. Любой человек, совершенно не знающий музыки, выходя с Володиного концерта, мог подумать: «Уж этот парень, по крайней мере, нас слышит!» Вот в чем секрет его успеха. Играть означает принимать гостей, – так он считает. Он угадывает желания публики. Он хочет нравиться во что бы то ни стало. Или, точнее, боится не понравиться – это не совсем одно и то же. Сейчас поймешь…
Так вот… он давал концерт за концертом, и обаяние его было настолько могучим, что теперь уже сгонять людей на его выступления не требовалось: целые толпы приходили, чтобы похлопать именно Горовицу. В 1924 году его взял под крылышко Артур Шнабель, который и организовал переезд на Запад. А дальше ты уже знаешь: Берлин, Лондон, первые европейские турне, затем – Нью-Йорк и встреча с Рахманиновым и Тосканини, и дальше тоже он своими силами добивается славы, вступает в порочный круг успеха… Надо же знать, что такое жизнь концертирующего музыканта! Это – как если бы ты каждый день взбирался на альпийскую вершину, не имея точки опоры, безо всякой страховки. И он делал это, но, на мой взгляд, прошел мимо главного. Я же выбрал другой путь.
Наши консерваторские профессора не понимали, какого черта я разбазариваю свой талант. Феликс Блюменфельд, ученик Антона Рубинштейна, ужасно сердился на меня за легкомыслие. А мне кажется, я попросту боялся того, что меня ожидает, если стану воспринимать все всерьез. Думаю даже, что записался в армию Деникина только для того, чтобы сбежать от фортепиано. Конечно же, твоя бабушка об этом и не подозревала. Кроме того, Горовиц играл быстрее всех на свете. Он стал кем-то вроде гениальной борзой, которую заставляют обегать все закоулки Североамериканского континента. Тогда он отлично понимал: то, чего от него ждут каждый вечер, имеет мало отношения к музыке, здесь, скорее, цирк, это номер из программы Барнума [33]33
Барнум (Bamum) Финеас Тэйлор (1810–1891) – известный американский антрепренер, основатель названного его именем музея редкостей в Нью-Йорке, творец так называемого «гумбуга», основанного на смеси шарлатанства и рекламы способа, которым он заманивал публику. В 1854 году издал в Нью-Йорке «Автобиографию», где беззастенчиво расписал свои проделки (перевод на русский был напечатан в 1855 г.). Само слово «барнум» стало существительным нарицательным: так называют антрепренеров-ловкачей.
[Закрыть], и рано или поздно он потеряет себя. Некоторые критики уже упрекали его в том, что, желая угодить публике, жадной до звуковых фейерверков, он якобы продал душу дьяволу. Но разве по-настоящему у него был выбор? Проваленный или хотя бы средний концерт выводил его из себя. Он хватался за голову. Он подыхал со страху от одной мысли о том, что разочарует Америку. Ему сразу представлялось, как его возвращают туда, откуда пришел, и ему снова придется играть за кусок колбасы, а если откажется – его вышлют в Сибирь, как отца, который гнил в ГУЛАГе, – и там он отморозит пальцы. У него была слава, у него были деньги, но он не был счастлив. А я предпочел жизнь в тишине, в той тишине, что таится в самом сердце музыки, и не жалею ни о чем.
Утром того дня, когда должен был состояться концерт, мы вышли пройтись по Маленькой Украине. Мы были похожи на двух homeless [34]34
Бездомный (англ.).
[Закрыть]– вид праздных гуляк, заросшие щетиной подбородки… Мы не освоились с разницей во времени, и нас пошатывало. На Нью-Йорк сыпался снежок. Я думал о Бардамю [35]35
Бардамю – Герой романа Луи Селина «Путешествие на край ночи».
[Закрыть], блуждавшем по этим каменным джунглям, среди этих обрюзгших тел, болтавшихся по линиям воздушного метро, переходя с одной на другую… Папа думал о своем. Казалось, он не осознает, что находится в стране Питера Пэна и Буффало Билла. Я попытался зажечь его собственным юношеским энтузиазмом.
Тогда, в начале пятидесятых, Сид Чарисс блистала рядом с Джином Келли в «Поющих под дождем». Ее длинные медового цвета ноги на афишах напоминали мне о теннисистках из Везине. Стены в переходах метро были залеплены рекламными плакатами, прославляющими всякую бытовую электротехнику. Производство дисков переживало настоящий бум. Первые проигрыватели на несколько пластинок в кафе и ресторанах оповещали о том, что наступает эра автоматики. Мир ушел довольно далеко от Томаса Эдисона с его белым барашком. Я не решался выдать своей очарованности Фрэнком Синатрой и Чарли Паркером, боясь схлопотать оплеуху, как тогда, когда спел отцу эстрадную песенку. А папе вроде бы и дела не было до научно-технической революции. Он смотрел на мир высочайших технологий взглядом отставника. Весь этот прогресс оставлял его равнодушным. В одном только выпущенном на заводе хлебе – рыхлом, напоминавшем резину, не имевшем ни вкуса, ни запаха, – для него концентрировалась вся пошлость и ненатуральность Нового Света, решительно настроенного на безудержное потребление. Мой папа, как и Горовиц, принадлежал прошлому.
– Мне нравятся только парижские предместья, – говорил папа. – Осень в Круасси. Терраса в Сен-Жермен-ан-Лэ весной. Зимой – хлопья снега, падающие на баржи. Знаешь, однажды был такой сильный мороз, что мальчишки могли кататься на коньках – прямо по Сене, между Буживалем и Ле Пеком. Можно было подумать, это Днепр… Твоя мама тоже любила западные предместья. Вот где можно было поразвлечься…
Он взял меня за руку, и странная наша пара поплыла по течению мимо pancakes houses [36]36
Pancake house – американское кафе, где по традиции подаются в качестве десерта блинчики из пресного теста на яйцах с лимоном и сахаром.
[Закрыть], прачечных-автоматов, витрин с предметами негритянского искусства, драгсторов [37]37
Драгстор (drugstore) – типично американское заведение, сочетающее аптеку и магазинчик товаров первой необходимости; здесь можно приобрести лекарства (в том числе по рецепту врача в рецептурном отделе), товары личной гигиены, косметику, журналы, сигареты, открытки, книжки в мягкой обложке, а кое-где – и корм для кошек и собак, продукты питания и даже одежду. Драгсторы появилась в начале XX века; долгое время в них были также стойки с автоматами газированной воды и других прохладительных напитков, небольшие закусочные.
[Закрыть]и небоскребов.
Я не переставал обдумывать то, что папа сказал мне ночью. Прежде чем познакомиться с моей матерью, Димитрий был истинным виртуозом, способным на самые головокружительные пассажи, но при этом, по его собственному признанию, мало что понимал в музыке. И только когда он стал играть для Виолетт и для меня, в Шату, в полной безвестности, он начал разбираться, что к чему. Он больше не добивался успеха – он играл душой. Нутром.
А Горовиц? Чем он играет? Нутром? Или чем-то другим? На чем держится его известность? Не обманывает ли он тех, кто слушает его музыку? Не узурпатор ли он? У таланта с успехом нет ничего общего. Разве не это хотел сказать мне отец? Я чувствовал стеснение в груди, удушье, которое усиливалось по мере приближения к моменту истины. Чего я на самом деле жду от встречи с мифом, преследовавшим меня все детство?
Только что мы прошлись вдоль Гудзона, где купили сэндвичей и пива. Сейчас устроим пикник в Центральном парке, а вокруг нас под припорошенными снегом деревьями будут бродить без всякой цели укутанные чуть не до бровей прохожие…
Можно было подумать, будто мы попали в зимний пейзаж Остаде [38]38
Остаде – семья голландских живописцев. Адриан ван Остаде (1610–1685) – один из ведущих мастеров крестьянского жанра в голландской живописи XVII века. Графическое творчество О. (офорты, акварели, рисунки) отмечено живописностью манеры и остротой жизненных наблюдений. Автор имеет в виду, очевидно, Исаака ван Остаде (1621–1649), брата и ученика Адриана, влиянием которого проникнуто его раннее творчество. В 1640-х годах для его произведений (сцены на открытом воздухе; пейзажи, в том числе зимние) становится характерным серебристый колорит, тонко передающий особенности освещения («Замерзшее озеро», 1642, Эрмитаж, Ленинград).
[Закрыть], любимого художника Николая II. Мы уселись на скамейку у подножия памятника Гансу Христиану Андерсену. Нам было известно, что Горовиц живет в двух шагах отсюда – в особняке с окнами, закрытыми тяжелыми черными шторами. Папа знал наизусть все мании маэстро. Его дикая паранойя и его легендарная ипохондрия с годами усилились так, что стали почти сумасшествием. Без привычной минеральной воды, спаржи, морского языка (эту рыбу ему специально присылали из Дувра), без массажа живота у него все разлаживалось, он не способен был нормально работать. Причем речь тут шла не о капризах примадонны, а о непреодолимой тревожности, связанной с положением беженца. С двадцати пяти лет он был уверен в том, что болен, болен неизлечимо, но на самом деле его единственной болезнью был страх потерять беглость пальцев и оказаться в лагере, как отец и миллионы других евреев. Он испытывал такой ужас перед диверсиями, что перед каждым концертом выставлял у своего «Стейнвея» двух солдат морской пехоты.
Рассказывая, папа брезгливо вглядывался в свой сэндвич с тунцом. Где-то часы пробили четыре.
– О! Час его прогулки! – воскликнул отец. – В это время ему нужно как следует пропердеться.
Я тупо поглядел на отца:
– Ты о ком?
– Ну, догадайся о ком! От страха его раздувает, он становится, как воздушный шар, и за два часа до выхода на сцену надо это все выпустить, не то месье взорвется. Однажды под давлением газов его подтяжки лопнули как раз в ту минуту, когда он садился за фортепиано. Пришлось дежурному пожарнику в последний момент отдать ему свои. Горовиц играл великолепно, и восхищенный пожарник сказал после концерта, чтобы господин музыкант оставил себе эти подтяжки, потому что с ними он как на крыльях летает.
Откуда Димитрий все это выкопал?
– Не одна только твоя бабушка в курсе дела! Лично я знаю этого типа так, словно сам породил его на свет.
Папу снова прихватило. Сморщившись от боли, он протянул мне нетронутый сэндвич и почти бегом направился к заиндевелым кустам рододендрона. Надо будет серьезно заняться его простатой. Я пристально всматривался в аллею, меня не отпускала несбыточная надежда на то, что сейчас здесь появится шарик-Горовиц под ручку с Вандой. Я безмолвно подыхал со смеху, вспоминая обо всей этой истории с утечкой газов и ниспосланным свыше пожарным. Потом, немного успокоившись, попытался представить себе, какое это страшное испытание – выходить на сцену, тем более – когда тебя ждут, чтобы поквитаться. Сразу припомнилось, как я сам, вместе с пятью другими кандидатами, ожидал своего первого устного экзамена в интернатуру. Мы так сдрейфили, что были все зеленые и то и дело бегали в сортир.
Я оглянулся. Папа исчез в зарослях рододендрона. Я встал со скамейки и обошел эту живую изгородь, мне было смешно, но внутри что-то царапало. Папа был все еще занят тем, что «вынуждал рыдать Циклопа»: он согнулся вдвое от боли и брызгал кровью в снег.
До отеля мы добрались на метро. Молча.
– Господин Радзанов, вам записка.
Папа подошел к портье. Тот протянул ему таинственное послание. Они о чем-то поговорили. Потом папа как ни в чем не бывало вернулся ко мне. В лифте я спросил, о чем это они с портье перешептывались.
– Разве ты знаком с кем-нибудь в Нью-Йорке?
Его передернуло, будто он страшно удивился, как я мог задать ему такой вопрос.
– Ни с кем, кроме Горовица!
Может быть, он давно наладил связь со старым другом? В конце концов, тут не было бы ничего странного…
Нам следовало объясниться, но я не знал, с чего начать. Я никогда не умел к нему подступиться. И подождал, пока мы окажемся в номере, чтобы загнать его в угол.
– А что, пап, давно это с тобой?
– Ты о чем?
– С каких пор ты красишь листья в красный цвет?
– Не лезь не в свое дело.
– Интересно! Ты хочешь, чтобы я стал врачом, и при этом не разрешаешь даже побеспокоиться о твоем здоровье!
– Это разные вещи.
Тут все, что долгие годы копилось у меня на сердце, разом выплеснулось – почти что против воли.
– Знаешь, а ведь ты весь в свою мамочку!
– Не понял.
– А по-моему, яснее некуда.
– Доведи мысль до конца, пожалуйста.
– Не могу! Моя проблема в том, что я так и не научился додумывать до конца. Всегда наступал момент, когда ты либо вмешивался, либо применял власть.
Папа растерялся. И хуже всего было то, что он вовсе не притворялся растерянным, он на самом деле не мог себе представить, чтобы я так думал, и уж тем более – не ожидал от меня такое услышать.
Он вынул из пачки сигарету. Я посмотрел на часы. Времени у нас оставалось совсем немного – банальная формулировка, при нынешних обстоятельствах приобретающая драматический смысл. Я вынул из чемодана наши парадные костюмы. Отец курил, уставившись в кирпичную стену. Мне хотелось бы взять свои слова обратно, помириться с ним, но он улегся на кровать, чуть согнув ноги, выбирая позу, в которой было бы не так больно, – и молчал.
– Ты что, не хочешь идти?
– Это твой бог, не мой. Хотя я терпим к любой религии.
Бедный папа. Он дошел до крайности. Надо было бы вызвать такси, поехать в ближайшую больницу, сделать ему укол морфия, чтобы, по крайней мере, уменьшить его страдания.
Я надел костюм и стоял пингвин пингвином.
– Время! – сказал папа. – Иди уже наконец.
– Билеты… они у тебя…
Папа чуть-чуть приподнялся и достал из кармана брюк старенький бумажник. Вытащил оттуда билеты, протянул мне.
– Спасибо.
Он продолжал что-то искать в бумажнике с озадаченным видом.
– Ты это ищешь? – Я показал ему снимок с балеринкой. – Фотография выпала у тебя из кармана пиджака.
Я немного выждал, надеясь, что он прольет свет на загадку, но только даром потерял время. Отгородившись от меня своей болью и своей тайной, папа все так же тупо разглядывал кирпичи.
Ни за что на свете я не отказался бы от этого концерта! И никогда в жизни папа не согласился бы, чтобы я его пропустил. Недавние папины откровения насчет Лопоухого заронили в меня сомнение: уж очень они не вязались с портретом, который рисовала бабушка, когда все ее усилия были направлены на то, чтобы заставить папу играть, пользуясь славой Горовица как мулетой. Для очистки совести мне нужно было увидеть и услышать самому, а открыть все, что должно быть открыто, мог только концерт в Карнеги-холле, этом неоренессансном храме музыкальной славы с несравненной акустикой. Открыть всё мог только концерт Горовица – не больного или даже просто ослабленного, а готового, по его собственному признанию, свернуть горы.
Как только я туда пришел, до меня донеслись слухи, что концерт едва не сорвался, потому что Димитрис Митропулос [39]39
Димитрис Митропулос (1896–1960) – греческо-американский дирижер, пианист и композитор. В юности был монахом.
[Закрыть], дирижер, приглашенный сначала, слег с гриппом. Слава Богу, его заменил Джордж Селл [40]40
Селл Джордж (Szell Georges, 1897–1970) – венгерский пианист и дирижер. Был вундеркиндом, зарекомендовав себя и как пианист, и как композитор. До своего переезда в США в 1940 году Селл дирижировал в Страсбурге, Праге, Дюссельдорфе, Берлине (1924–1930), Глазго (1937–1938), совершил турне по Австралии. В 1946 году стал постоянным дирижером Кливлендского оркестра, а до этого давал концерты со многими американскими оркестрами.
[Закрыть]– правда, этот не успел подготовиться. Входя в зал, я раздумывал, стоит ли радоваться неотмене. Может быть, было бы лучше, если бы внезапный поворот судьбы помешал мне сопоставить детские мечты с реальностью…
Занавес был поднят, и «Стейнвей», одиноко стоявший посреди сцены, напомнил мне электрический стул. Папаша Жирардо знал свое дело: я сидел слева в семнадцатом ряду, все было прекрасно видно без бинокля – и руки исполнителя тоже. Рядом со мной – пустое место. Его в течение всего вечера будет занимать тень – призрак Карнеги-холла, который ждет, чтобы его старинный соперник показал все, что умеет.
Партер и отделанные бронзой балконы, залитые светом хрустальных люстр, продолжали заполняться. Все было как в 1891 году [41]41
«Карнеги-холл» – один из самых известных концертных залов мира – открылся 5 мая 1891 года. Сооружен этот зал по проекту архитектора Уильяма Барнета Татхилла как основная концертная площадка для выступления оркестра и хора Нью-Йоркского ораториального общества под управлением В. Дамроша. Помощником Татхилла был Владимир Столешников, американец русского происхождения, проживавший в те годы в Нью-Йорке. Строительство началось в 1890 году. Вклад известного промышленника и филантропа Эндрю Карнеги (1835–1919) в строительство здания составил два миллиона долларов, примерно десятую часть от общей стоимости строительства.
[Закрыть], в вечер, когда этот концертный зал, где присутствовали архитектор Ричард Моррис Хант [42]42
Ричард Моррис Хант (1828–1895) – модный американский архитектор своего времени, автор постамента статуи Свободы высотой в 47 метров, замка Biltmore (Эшвилль, Северная Каролина) – сооружения в стиле эпохи французского Возрождения, построенного им в 1895 году для одного из членов богатейшего семейства Америки – Джорджа Вашингтона Вандербильта Второго и даже сегодня являющегося самым большим частным домом в Соединенных Штатах.
[Закрыть]и меценат, король стали Эндрю Карнеги, заполнили представители самых великих семейств – Вандербильты, Асторы, Гульды, Бельмонты, пришедшие поаплодировать Чайковскому.
Джордж Селл представил оркестр и поклонился публике. Потом, в обрушившейся на святую святых тишине, подошел к пульту, и тут все взгляды обратились к черной дыре в глубине сцены, откуда в конце концов дурацкими маленькими шажками вышел Лопоухий, похожий на едва волочащую ноги от усталости старую борзую. Папа говорил правду: его смеющиеся, тревожные глаза были подведены, ресницы подкрашены тушью, редкие напомаженные волосы зачесаны назад, что позволяло видеть уши Микки-Мауса. Ростом он оказался выше, чем выглядел на фотографиях, руки же, наоборот, увиделись мне какими-то маленькими, он был очень худой, фрак на нем болтался, а брюки, думаю, только и держались что на пресловутых подтяжках пожарного. На гром аплодисментов он ответил довольно чопорным поклоном и поправил галстук-бабочку. Затем приподнял фалды и сел за фортепиано. Я смотрел сразу и из зала, и из ложи осветителей, постепенно уменьшая световой поток, направленный на маэстро, – до того самого мгновения, пока рояль не превратился в остров, а Горовиц не стал напоминать Робинзона.