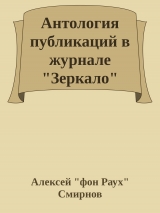
Текст книги "Антология публикаций в журнале "Зеркало" 1999-2012 (СИ)"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
В тот день, покидая Мураново, как оказалось, навсегда, я покидал и мир Тютчева и его современников. Подсознательно я ощущал, что вижу все это в последний раз, что этот случайно уцелевший очаг дворянской культуры погибнет, в труху превратятся скрипки, фарфор, старинные рисунки, мебель редких пород дерева. Физически уничтожив дворянство, наследники большевиков решили восстанавливать дома, в которых жили дворянские поэты и музыканты. Мой отец назвал такие дома макетами. Для таких макетов скупали по комиссионкам кое-какую мебель красного дерева и обязательно – письменные столы, ведь на чем-то писатель или поэт должны были творить! Так создали макет чеховского дома в Мелихово, а недавно – Батурино Бунина. Признаюсь, появлению такого макета в блоковском Шахматово поспособствовал и я, написав когда-то Федину об одичании места, где стояла в свое время сожженная потом крестьянами усадьба. В молодости я увлекался дневниками Блока и наивно полагал, что в СССР как-нибудь все обойдется и возникнет социализм с человеческим, а не звериным лицом. Не обошлось – все решили жулики, воры и обкомовские тупицы. Конечно, того большевизма, что был раньше, уже нет, красная малина обосрана окончательно, и советские танки больше никому не угрожают.
Отстроили даже макет Ивановки Рахманинова, говорят, хотят сделать макет наследственного имения Тютчева в Брянской губернии. Профанация памяти старых писателей в таких вот домах-макетах достигает размеров поистине чудовищных.
…С того события прошло много лет, и я уже подзабыл и Фалька, и Дурылина, и парализованного от водки Васю Шереметева, как вдруг новость: Мураново сожгли! Вокруг Мураново был так называемый исторический пейзаж – “тютчевские холмы”. Постепенно эти холмы стали зарастать краснокирпичными особняками новых русских. Нищие музейщики протестовали, шипели, как змеи, но строительство продолжалось. Точно так же сегодня застраивают пушкинское Михайловское, Богом проклятое болотистое место, дельцы из Питера (язык не поворачивается сказать “Петербурга”). Шипение музейщиков услышали сверху, и хозяева особняков послали бомжа плеснуть керосином (у очень многих богатых людей, строящих особняки, живут в подвалах на положении рабов с отобранными паспортами таджики и бомжи). Спасая из огня музейные экспонаты, обгорел мужчина – сотрудник музея. Ну ладно, восстановят Мураново снова, заменят пострадавшие вещи копиями, но нет никаких гарантий, что дом снова не подпалят. Мои предчувствия в те далекие годы меня не обманули: красный мужицкий петух прогулялся по единственной уцелевшей помещичьей усадьбе, где шкафы и зеркала не сдвигали со своих мест со времен жизни их владельцев. Останкино, Кусково, Архангельское – это дворцы, а обычные дворянские усадьбы все разорены и сожжены. Мураново было последним.
Теперь я расскажу о том, как я был в мастерской Фалька уже после его смерти и вдоволь насмотрелся на его холсты. История эта отчасти скабрезная, как, впрочем, и многое, о чем я пишу.
Жила в Москве на Васильевской улице, около Белорусского вокзала, супружеская пара – Лена Строева и Юра Титов. Юра – архитектор, мужественный, похожий на актера МХАТа Белокурова; у Лены было подержанное еврейско-украинское лицо, вздернутый носик и ноги, поросшие мягкой козьей шерстью, как у царицы Савской. Люди они оба были милые, жили в одной большой комнате с альковом, выкрашенным в синий цвет. На одной из стен их жилища висела очень хорошая работа Харитонова, изображающая апостолов, сидящих среди скал и деревьев. Картина выдержана в особой зеленовато-коричневой гамме, больше я таких работ у Саши Харитонова не встречал: его творчество отдает наивкюнстом.
Большая строевская семейная комната была местом встречи диссидентов и им сочувствующих. Там бывали Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, его мать, брат матери кинодраматург Вольпин, Николай Робертович Эрдман (он, правда, появлялся там редко), Юрий Витальевич Мамлеев (правда, редко), Андрей Амальрик и Володя Буковский и еще целый ряд личностей, по разным причинам недовольных советской властью. Хозяева ни на кого в КГБ не стучали. Лену как тунеядку преследовал горком комсомола и хотел выселить из Москвы на сто первый километр, в Александров. К сожалению, Лену и Юру, людей симпатичных и мягких, вынудили (наверняка не без помощи КГБ) уехать в Париж, и там комитетчики стали принуждать Лену делать всякие гадости. Она этого не выдержала и однажды после выпивки (вообще-то они оба не пили) повесилась в уборной. Юра без нее превратился в слепого без палочки или без собаки-поводыря, помешался, был помещен в психиатрическую больницу под Парижем и вскоре скончался.
Так вот, Юра и Лена были близко знакомы с полуамериканской семьей Стивенс – Эдди (Эдмоном) Стивенсом, его женой Ниной Андреевной и дочкой Аськой (Айшей). Еще у них был сын-архитектор, но он жил в Нью-Йорке, и я никогда его не видел.
Строевы оказывали Стивенсам разные мелкие услуги, и те расплачивались с ними всякими мелочами – американскими презервативами, порнографическими журналами, сигаретами и жевательной резинкой. Нина Андреевна мне потом сама об этом рассказывала и показала ящик, набитый таким товаром, которым она расплачивалась с подобными помощниками. Мне она ничего такого не предлагала – я был тогда хорошо одет, носил итальянскую обувь и благоухал дорогим одеколоном.
У Стивенсов, правда, поили хорошим виски, которое разводили пополам с апельсиновым соком (нужные этой семье люди выпили такого напитка наверняка не одну цистерну).
Эдди и Нина Андреевна меня не сильно раздражали, они были людьми довольно простецкими. Стивенс представлял в Москве какую-то американскую бульварную газету, но на самом деле выполнял важную функцию советской внешней политики: через его газетенку Кремль прокатывал свои “утки”: “как сообщает московский корреспондент…” и т. д. Все это знали, и он всем был удобен. Эдди был здоровый лысый мужик лет за пятьдесят, с неопределенным слюнявым ртом, обросший жиденькой рыжеватой шерсткой, долженствующей изображать бороденку (сам Хрущев как-то сказал ему: “Ты, Стивенс, это сбрей, тебе не идет”). Нина Андреевна и Эдди познакомились еще в тридцатые годы, и их брак благословил сам дедушка Калинин. Тогда же, наверное, их и завербовали. Скорее всего, они были двойными агентами, работавшими и на Лубянку, и на ЦРУ.
Стивенс к тому же, по слухам, был женатым гомосексуалистом. В воспоминаниях Эренбурга есть эпизод: английский журналист, полуфранцуз, бьет Эдди по голове пустой бутылкой за его рассказ о том, как хорошо француженки спят с немцами. Произошло это в поезде, когда журналистов везли в Мурманск, на Северный фронт. Я напомнил Стивенсу за столом об этом эпизоде, и он взорвался: Эренбург – профессиональный лжец, этого не было, и вообще Илья Григорьевич прикидывался, что не знает английского, чтобы было удобнее подслушивать. При этом Эдмон Эдмонович, как я его называл, постоянно прихлебывал виски и не очень-то контролировал свои движения.
Мадам, худощавая, стройная, в молодости была, очевидно, симпатичная и привлекательная, по-старомосковски простецкая и приветливая и житейски, несомненно, очень опытная и циничная. Семья ее, наверное, была из мещанско-купеческой среды. В комнатах второго этажа мелькала ее мама, невысокая полная старушка, старавшаяся не появляться на людях и, как я потом узнал, ядовитая на язык.
Нина Андреевна держала маленьких брехливых курчавых собачонок, а пьяный Эдди все время придавливал их дверьми. “Эдмон опять собачку раздавил”, – сообщала мадам, и мы везли хоронить несчастное животное в лесу.
Увидев, что я понравился Стивенсам, Лена, которая и привела меня к ним, предупредила – мол, Нина прижимистая и дает не очень много. Я посмотрел на Строеву с удивлением, так как в приживальщиках, тем более у иностранцев, никогда не был.
У Стивенсов мне понравилась гостиная – метров восемьдесят, отделанная мореным деревом и устланная коврами, с диванами вдоль стен. Посреди гостиной стоял рояль палисандрового дерева, на стенах висели чиновые поясные иконы действительно рублевского круга начала XV века. Иконы эти поставлял некто Мороз, темная личность, опекун душевнобольного художника Васи Ситникова, ученика моего отца по Учительскому институту. Вася был похож на обросшего первобытного человека, со скошенной нижней челюстью и хитрыми глазами безумца. В годы войны его держали в Казанской психиатрической больнице, большинство пациентов которой умерло от голода. Вася выжил, приспособившись есть лягушек, жаб и ужей, водившихся в прудах около больницы. Он сам с удовольствием рассказывал об этом.
Мороз этот жил где-то на Лубянке, рядом со зданием КГБ, и, по-видимому, был туда вхож. Его потом все равно посадили по уголовной статье.
Мадам Стивенс я был необходим для того, чтобы написать предисловие к выставке наших авангардистов, которую она решила устроить в Нью-Йорке. Я написал предисловие с кратким обзором художественных группировок двадцатых-тридцатых годов, тем более что мой отец их всех хорошо помнил, и все его рассказы я зафиксировал.
Мне нравилось у Стивенсов, нравилось их пойло и то, как нежна и внимательна была ко мне Нина Андреевна. Я думал, что она и ее муж решили меня завербовать в ЦРУ, и мне это даже как-то льстило. Но все оказалось намного прозаичнее и пакостнее. Мадам решила заманить меня к себе в постель, приручить и сделать частью их семьи. Я понял это не сразу, ведь у меня, естественно, не было опыта того, как пожилые дамы заманивают молодых мужчин, годящихся им в сыновья. Хозяйка всячески пыталась меня споить и оставить ночевать на диване в гостиной. Однажды она принимала меня в своей спальне в полупрозрачном газовом пеньюаре, а муж приносил туда мартини, смешанное с сухим вином. Как-то Нинина старушка-мама, проходя мимо нас, сидевших в креслах в одной из комнат второго этажа, сказала ехидно: “А ты, Нина, все с молоденькими, хорошенькими…” До меня кое-что стало доходить, и я решил все это прекратить. Жили мои американцы в двухэтажном старомосковском купеческом особняке на две квартиры. Их соседкой была какая-то негритянская художница, которую я никогда не видел.
Во дворе размещался добротный отапливаемый гараж, где Нина хранила коллекцию московских авангардистов. Были в той коллекции хороший Тышлер, букашки Плавинского, много Васи Ситникова, черные кружки с серыми фонами Краснопевцева, пара рисунков на картоне Эрнста Неизвестного и еще какие-то голые бабы работы учениц Васи. Его ученицы сухой кистью на ватмане рисовали стилизованных баб – без контуров, врастирку (этой технике Вася научился, рисуя по ЖЭКам в послевоенные голодные годы портреты Сталина и Ленина). Васины картины были большей частью просто похабные, а излюбленный сюжет – за голой женщиной с выпуклыми грудями бежит голый, заросший шерстью мужик. Подобных рисунков он сделал много, один из них висел у Костаки, а один якобы купил музей Гуггенхейма. Мадам Стивенс все-таки вывезла свою коллекцию в Нью-Йорк, но выставка провалилась (судя по всему, это была первая такая выставка за океаном). Перед отъездом из СССР Вася жил в однокомнатной квартире на Семеновской площади, и я разочек у него побывал. Он рисовал голых баб, а его полуголая жена в прозрачном газовом белье сидела рядом. Все стены, как чешуей, были увешаны иконами. Когда Васю КГБ выжило из Советского Союза, он был вынужден все свои иконы пожертвовать в музей Рублева. Среди этих икон оказался Спас двенадцатого века, записанный в шестнадцатом, предположительно выкраденный из Кремля старообрядцами при нашествии Наполеона. Вася и не знал, что за доска была у него.
Выехав в Америку, он опять окружил себя сексуально помешанными ученицами и вскоре умер, перепив в окружении их обнаженных тел. К концу жизни Вася рисовал соборы, московскую толпу и снежинки, как на старых поздравительных открытках. Снежинки эти очень аккуратно выписывали Васины ученицы.
И вот однажды Нина предложила мне отправиться в мастерскую Фалька (он к тому времени уже умер) и попытаться купить у вдовы художника “Обнаженную” – ту, что была на юбилейной выставке МОСХа и к которой почему-то привязался Хрущев. Посиневшая от холода натурщица Осипович была в жизни еще страшней, чем ее изобразил Фальк, но она гордо заявляла: “Мое тело стоит в Лувре”, намекая на то, что с нее резал из дерева Коненков и статуя попала во французские музеи.
Мадам Стивенс поручила мне торговаться от десяти до тридцати тысяч долларов. Тогда, в той Москве, это были огромные деньги. Она дала мне телефон вдовы художника, я позвонил, сказал, что мой отец – коллекционер из Тбилиси и хочет приобрести картину Фалька с подписью. Вдова согласилась принять меня, и я оказался на памятной мне лестнице в уже знакомой мансарде. Вдова, заметно постаревшая от перенесенного горя, показала мне несколько портретов – я их горячий поклонник, в них есть большая психологическая нагрузка сталинского периода, они мне ближе, чем “свободные” полотна парижского периода Роберта Рафаиловича, в которых есть молодая беззаботность. Вскоре население Земли составит девять миллиардов человек, в основном азиатов, мусульман и негров, которым станет нечего есть, пить и нечем дышать, и вот-вот начнутся расовые беспорядки по сокращению населения хотя бы до двух миллиардов начала XX века. Век XXI станет, по-видимому, последним веком существования европейского искусства, и в глазах фальковских сумрачных портретов читается огромная трагедия – и его времени, и будущих эпох.
Я взял с собой блокнотик и набросал в нем несколько композиций, главным образом парижских пейзажей. Попросил показать мне и ставшую знаменитой “Обнаженную” и спросил, не продаст ли она это полотно. “Нет, оно должно висеть в Третьяковке”, – ответила вдова. Другого ответа я и не ждал. Тогда я спросил, не продаст ли она что-нибудь еще. Вдова сказала, что она надеется открыть музей Фалька.
Я, конечно, знал, что “Обнаженную” мне не продадут, а другой Фальк мадам Стивенс не интересовал. Но я ей сказал, что мне, вероятно, удастся уговорить вдову. Я твердо решил перестать бывать у Стивенсов, роль чичисбея (так в Венеции называли второго мужчину в семье при пожилой даме) была не для меня. Чтобы закончить с ними дело с Фальком, я отыскал на чердаке нашей дачи старое неоконченное большое полотно моего папаши времен ВХУТЕМАСа, где была только намечена фигура обнаженной натурщицы, и написал на ней по сделанным во время визита наброскам три работы – два парижских пейзажа Фалька и небольшую уродливую обнаженную. На том же холсте я тогда подделал два небольших портрета Петрова-Водкина. Все это мой приятель-аферист продал каким-то иностранцам, и эти мои подделки потом даже выставлялись в Европе и попали в каталоги. Пытался я однажды по чьей-то просьбе подделать и Шагала, но ничего не получилось: присущий ему еврейский дух мне, еврославянину, не давался.
Порвать с Ниной мне удалось так: я пришел к ней в гости с женщиной по имени Кира, с которой познакомился незадолго до этого. Нина сразу все поняла, и когда я в следующий раз позвонил Стивенсам, Нина сухо ответила мне, что в посольстве прием и меня она принять не может. Потом я слышал, что чете Стивенсов правительство выделило отдельный особняк где-то около Остоженки, и они продолжали свою деятельность. Недавно по телевизору я видел их дочку Аську Стивенс: обглоданное страстями и виски подержанное лицо. Она рассказывала о том, что ее родители были меценатами поэтов и художников шестидесятых годов. Они действительно всячески заманивали и угощали поэтов, когда-то читавших в Политехническом. И наверное, небезуспешно – вот, например, главный комсомольский глашатай тех лет Евтушенко – сегодня профессор какого-то американского университета, живет на тамошнюю зарплату…
Старик Харон переправил через воды Стикса большинство персонажей, описанных в этих лоскутных, как деревенское одеяло, записках. Но в моем ядовитом от подагры и желчи мозгу стареющего маразматика-шестидесятника они, как в цветном калейдоскопе, по-прежнему ярки и подвижны, как прыгающие цветные стеклышки…
Москва, 2007 г.

Около склепов и могил
Москва – это город победившего зла, уже очень давно – гнездилище Сатаны и его прислужников. Еще во времена Аристотеля Фиорованти, возрожденческого строителя стилизованного под византийскую старину Успенского собора, по тогдашней вполне дикой Московии раздавались вопли: “Татарам выдали резать всех иностранцев и они их тащат, как баранов, к прорубям на Москве-реке!” И Аристотель, и другие иностранцы в ужасе попрятались. На самом деле оказалось, что европейские врачи неудачно залечили нескольких московских царедворцев, среди которых были татары, и им выдали несчастных иностранцев, которых действительно зарезали на льду напротив посада. То, что веками происходило внутри и напротив Кремля, – это неописуемые по жестокости и мерзости картины. Переориентация Москвы на Золотую Орду и превращение ее столицы в славянский филиал Сарая – странное событие, из-под пепла и обгорелых костей которого по сей день не выбралось все европеидное население Евразии, почти на тысячелетие оказавшееся под татарским сапогом и камчой. Наш шустрый негроидный кузнечик Пушкин, скакавший и по русской истории, и по банькам провинциальных барышень и постелям жен своих петербургских приятелей, кропал свои исторические опусы весьма поверхностно, так же плохо зная русскую историю, как и его ментор и наставник Карамзин, тем не менее сочинивший многотомную русскую псевдоисторию. Он уткнулся носом в Смутное время (поближе по векам) и понял, что как царедворцу, дабы не попасть в опалу, дальше ему писать опасно: Смутное время – прообраз и пугачевщины, и большевизма, и, возможно, нашей современности. Пушкин – наш национальный герой с его африканскими бакенбардами и донжуанским списком, писатель очень литературно разнообразный, почти Евтушенко своего времени, – изобличая в “Борисе Годунове” неудачливого царя Бориса (кстати, умнейшего из государей своей эпохи), патетически воскликнул:
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач...
Такое определение должно было бы стать девизом Кремля после падения императорской России. Именно здесь большевики плели свои паучьи и змеиные заговоры против всего мира.
Романовы начали свое правление в Москве с еще одной кремлевской гнусности: повесили на воротах Спасской башни четырехлетнего сына Марины Мнишек, причем мальчик был не от Лжедмитрия, а от последующих тушинских персонажей. Этот факт публичного удушения ребенка Романовы и их штатные историки-фальсификаторы всячески скрывали. Потом Романовы мочили и друг друга, и своих родных. Петр I уничтожил законного наследника Алексея Петровича, но все началось именно с повешения четырехлетнего мальчика как факта самоутверждения новой династии. Потом много чего еще было в таком же роде – и пресловутое утро стрелецкой казни, и расстрел юнкеров, пытавшихся защитить Кремль от красных, и расстрел Кремля красной артиллерией, и убийство и сожжение несчастной Фанни Каплан. В постсоветских средствах массовой информации рассматриваются два варианта сожжения ее тела. Один – в бочке с бензином в Александровском саду, другой – напротив Потешного дворца, где находились квартиры хозяев захваченного Кремля. Второй вариант более вероятен, потому что на запах горелого человеческого мяса выбежал живший там Демьян Бедный (бывший царский офицер Придворов, юнкером учившийся в Киеве у моего прадеда), и его начало тошнить. Бензин взяли из машины Ленина, его сливал в бочку личный шофер вождя Гиль. Тело Фанни рубили топорами на куски стрелки кремлевской охраны. И все это – на фоне византийских икон Феофана Грека, Прохора Городца и Андрея Рублева. Какое явное страшное противоречие между византийской оболочкой Московии и татарским беспощадным ядром. Это противоречие, пугающее, противоестественное и поэтому все разговоры о некой византийской политике в условиях большевистской скотобойной страны и императорской России, а тем более допетровской царской, вообше неуместны. Царь Иван Грозный лично сам посохом, кинжалом и мечом в мирное время вырезал пятьсот человек из своего окружения и прислуги – так сказать, “бытовуха”. Николай II не отменил торжественного приема в Кремле по случаю своей коронации в день трагедии на Ходынском поле, когда были затоптаны насмерть четыре тысячи человек. В Кремле Сталин и Молотов готовили и подписывали довоенные расстрельные списки. Горбачев в Кремле принял решение не отменять первомайскую демонстрацию в Киеве после сообщения об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Кремле было решено расстрелять из танковых пушек перестроечный Верховный Совет, которому присягал Ельцин.
Если не перенести столицу России на совершенно новое, морально не зараженное место, кремлевские ужасы никогда не прекратятся. Один мой старый знакомый, диссидент, недавно сказал, что в Кремле есть что-то мистическое, каждый, кто в нем поселяется, превращается в диктатора. В диктатора сарайского образца – добавлю я.
Недалеко от Кремля всегда располагались пыточно-карательные места, где изощренно мучили и убивали людей. Одно из таких мест – всемирно известная Лубянка, где давно уже пора организовать музей советского тоталитаризма и человеконенавистничества. А вот опричные дворы Иоанна Грозного находились в районе Арбатской площади и на территории нынешней библиотеки имени Ленина. Мой дед, пока окончательно не свихнулся и был коммуникабелен, вместе с Апполинарием Васнецовым и искателем библиотеки Иоанна Грозного психопатом и знатоком подземной Москвы Стеллецким состоял в “Обществе старой Москвы”. Общество это существовало в 20-е годы до того самого момента, когда архитектору Иофану поручили воздвигнуть Дворец Советов. Иофан – автор советского павильона на парижской выставке, для которого мужеподобная скульпторша Мухина воздвигла две идиотские фигуры, символизирующие советский экономический смысл: хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь хуй. Эта хуевая скульптура надолго стала символом СССР. А воздвигли ее специально для французских литпроституток вроде Арагона и его жены Эльзы, чтобы те восторгались и травили несчастных белоэмигрантов, служивших в Париже лакеями и шоферами такси.
“Общество старой Москвы” закрыли, некоторых его членов посадили, а затем уничтожили и сам объект изучения – старую Москву. А ведь удивительно красивый и уютный был город в начале ХХ века, пока еще стояли сорок сороков.
Мой папаша до войны и до переворота в институтах, откуда при его участии изгнали остатки ВХУТЕМАСа, долго преподавал в Архитектурном институте. В свободное время он ходил по дворам вокруг института, который размещался в бывшем дворце Воронцовых на Рождественке рядом с превращенными большевиками в развалины Высокопетровским, Сретенским и Рождественским монастырями. Папаша тогда делал очень неплохие карандашные рисунки в духе Пиранези (к сожалению, он их все раздарил своим ученикам и прихлебателям). Рядом с ним усаживался и я и делал свои робкие акварельки. Моя мать, казачка, дама шумная, периодически крикливая, бывшая лишенка, любила бегать с палкой за домашними и прислугой и бить посуду, как это делал ее отец-атаман, гонявшийся с нагайкой за денщиками. Она орала на папашу: “Ты зачем, Глеб, таскаешь Алешку за собой по разрушенным церквам?! Он должен быть советским художником и зарабатывать много денег!” Но мы все равно ходили по запущенным московским дворам, часто ездили в Донской монастырь, где папаша и зять Поленова Сахаров устраивали для студентов выезды на пленэр. В Донской монастырь свозили и вмуровывали в крепостную стену фрагменты лучших спасенных московских и не только московских церковных зданий. Там же были исторические каменные фризы со снесенного Храма Христа Спасителя. В Донском некрополе, который чудом уцелел, гегемоны отбили носы и изуродовали лица у всех мраморных статуй на памятниках. Папаша показал мне памятник со статуей коленопреклоненного ангела работы скульптора Мартоса и объяснил, что Мартосы – наши родственники. Исправные служаки, потомственные дворяне Смирновы весь XVIII и XIX века женились на средиземноморских европейках, часто титулованных, среди которых были и госпожа Мартос, и Смирнова-Россет, и еще потомки напрочь выродившихся маркизов Коленкуров, сыгравших большую роль в революционной и наполеоновской эпопеях. Родством с маркизами мы обязаны Булгаковым: мать моего прапрадеда была урожденная Булгакова. От Булгаковых Смирновы унаследовали шизофрению. Мой дед по отцу был классическим пациентом, а болезнь моего отца выявил психиатр еврей Цурмюль, который, только увидев молодого тогда еще отца, сразу заявил, не задав ни единого вопроса: “Вашему отцу место в сумасшедшем доме, а вам не место в рядах московского ополчения”. В ополчение тогда большевики сгоняли на убой московскую интеллигенцию. Цурмюль вызвал мою мать, долго учил ее, как надо сдерживать отца, чтобы тот не набрасывался на домашних, и выдал справку, которая до сих пор цела: “Глеб Борисович Смирнов не может быть призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии ввиду наследственной психостении”. Я смолоду боялся шизофрении, как боятся наследственного сифилиса, проказы или диабета, и поэтому всю жизнь старался дружить с крупными психиатрами из Соловьевки (так называли клинику неподалеку от Донского монастыря. Тамошние столпы, ученики Ганушкина Кербиков и Ягодка, очень хорошо ко мне относились и даже советовали, учитывая мой уровень знаний, сменить профессию художника на психиатра. Но я ограничивался, организацией на кафедре выставок московских модернистов, в чем мне помогал Алик Гинзбург, дававший некоторые работы Володи Яковлева, которого я тогда еще лично не знал.
Шизофрении у меня врачи не нашли – выявили только некоторые паранормальные способности и наклонности, а также периодическое раздвоение и растроение личности и периодический полный паралич воли, когда у меня было (и по сей день бывает) ощущение, что душа покинула тело. В силу этих особенностей у меня всегда сложное, не цельное реагирование на любые события – возникает ощущение, что я где-то лечу, глядя вниз на происходящее, в том числе и со мною самим. Но я никогда не теряю реальной оценки происходящего. Я все это называю для себя комплексом палача и жертвы в одном лице: наше физическое тело – палач собственной души.
Расписывая церкви во многих российских губерниях, я подолгу беседовал с юродивыми, и эти странные люди, которых почитает русское простонародье, говорили мне, что я мог бы быть одним из них, так как знаю, кто сейчас войдет в церковь, в дом, что ему будет нужно. Они меня проверяли по многу раз. Я могу, например, бродя по кладбищу, рассказывать о жизни усопших, лежащих в безымянных могилах. Особенно сильно я ощущаю массовые захоронения насильственно убиенных. У меня есть небольшая рыжая беспородная собачка Библос, и вот, когда я подъезжаю на автомобиле к своей даче, она за триста метров чует меня, визжит и бежит встречать. А таким качеством обладают далеко не все собаки. Когда умер советский маршал Малиновский (капитан Малинов в Испании), в прошлом царский офицер, у него остались две собаки и три кошки. И все они вскоре после смерти маршала издохли в его кабинете возле дивана хозяина. После этого осуждают египтян, мумифицировавших животных вместе с их умершими хозяевами и укладывавших их вместе в гробницы.
Буддизм в вопросах душ усопших подошел к мистическим и житейским реалиям гораздо ближе христианства, и вообще первоначальное христианство было плодом опыта пребывания Христа в Иране, Индии и на Тибете. Просто после смерти Учителя апостол Павел, как писал о нем Даниил Андреев, тринадцатый апостол, никогда не видевший Христа, очень хорошо почистил все архивы и тексты первых учеников Христа, слышавших его (Спаситель, как известно, только говорил и не писал), и создалось то учение, которое есть. Причем апостол Павел вначале запрещал принимать в христиане неевреев, всячески стараясь сблизить христианство с тогдашним иудаизмом. Христиане никогда бы не свалили Римскую империю, если бы в учение Христа не было заложено новое понимание собственности и государственного устройства, основанного на морали. Эта проблема до сих пор не решена, и поэтому и христианство, и буддизм по-прежнему актуальны в мире и будут привлекать миллионы новых адептов, упирающихся в те же тупики человеческой низости и алчности, с которыми боролись и Будда, и Христос.
К Кремлю я привязан еще во время своего нахождения в утробе матери. Мои родители жили в номере на Никольской в бывшей гостинице “Славянский базар”, в бельэтаже, где когда-то были самые дорогие номера. Этот номер дали моему деду в Наркомпросе его старые друзья либералы, но он не оправдал их надежд, разочаровался в руководстве большевиков и к тому же активно помешался. И вот моя мамочка, вынашивая меня, регулярно ходила гулять по Красной площади и в Александровский сад. На Красной площади ее однажды задержали агенты НКВД, проверили документы и подобные прогулки запретили, сказав, что около Спасской башни нельзя регулярно ходить – это место дежурства сотрудников органов. “Понимаете, гражданочка, враги могут составить график движения машин и бросить бомбу в машину товарища Сталина”.
В Кремле московским государям служили (именно служили) мои предки. Среди них – и византийский патриций, бежавший от турок в Московию и заведовавший всей казной великого князя, и мой татарский предок, касимовский царек Симеон Бекбулатович, и многие другие, чьи послужные списки и судьбы потерялись в темной глубине веков. Одно мне известно: поляков среди моих предков не было, все ветви наших семейств их активно не любили и считали предателями славянства. Польша – исторический конкурент Московии, но ее притязания были навсегда погублены активной ненавистью к православию. Ведь Литва, или точнее Великое княжество Литовское, мощное православное государство, чуть не объединило Украину, Западную Россию, Новгород и Псков в одно западнославянское государство. Тогда бы история России развивалась по-другому. Но, увидев, что Московия пошла по татарскому пути развития, разгромив Новгород и Псков, Литва решила перейти в католичество и войти в состав Польского королевства. Повидимому, именно тогда потомки великого князя Ольгерда Булгаковы решили переехать в Московию, чтобы не менять веру. До сих пор в Эрэфии есть люди, тоскующие по тому, что Россия не вошла в Литву, а потом отвергла Лжедмитрия I
и поляков, отвергнув тем самым западный путь развития. К сожалению, Восточная Европа – это не Европа, а ее задний двор, скорее всего – европейский скотский хутор, где испокон веку творились безобразия, хотя татарского ига там не было. Теперь вот восстановили маленький Казанский собор, поставленный нижегородским посадским ополчением, освободившим Кремль от поляков; велено заменить торжественную траурную дату октябрьского переворота праздничным выходным днем освобождения Москвы от проклятых поляков. Кстати, в самом октябрьском перевороте принимала активное участие масса поляков, так как в России находилось более двух миллионов беженцев из Царства Польского и привисленских губерний, не пожелавших оставаться под кайзеровскими войсками. Большинство из них потом вернулось в Польшу, и в Варшаве по личному пожеланию Пилсудского взорвали огромный роскошно отделанный внутри православный собор. Потом был идиотский поход Ленина и Троцкого на Варшаву, имевший целью, подмяв Польшу, ворваться в Германию и Венгрию и устроить там большевистские ужасы. Поход провалился, французские генералы, опытные вояки Западного фронта, польскими руками разгромили красные орды, взяв в плен 120 тысяч красноармейцев, из которых поляки умертвили голодом и кровавым поносом 80 тысяч. Так же действовали и эстонцы, загнавшие в лагерь численно маленькую армию Юденича. Там от истощения погибли три тысячи белых офицеров и добровольцев. Так что и у русских, и у большевиков с прибалтами были свои кровавые счеты. Оставшихся в России культурных поляков и ксендзов чекисты вылавливали, как диких зверей, и сразу же расстреливали, даже не отправляя в лагеря. В лагерях почти не сидели поляки – их сразу запихивали в неглубокие ямы вокруг Москвы, Петрограда, Киева и других городов Западного края. Потом поляки еще раз проявили себя, устроив дикий еврейский погром в Кракове, после которого уцелели только те, кто спрятался у сердобольных людей. Они и попытались потом вернуться в свои квартиры и лавки в Кракове.






