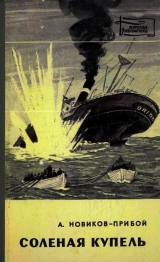
Текст книги "Соленая купель"
Автор книги: Алексей Новиков-Прибой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
V
По мере того как опустошались бункера, хранящие запасы топлива, все меньше высыпался в кочегарку уголь самотеком. Чтобы увеличить его приток, применяли особые меры.
Лутатини лез в бункер, железной лопатой передвигал уголь от задних стен ближе к шахте и ссыпал его на плиты кочегарного отделения. Он постепенно начал втягиваться в этот тяжелый и грязный труд. Руки и ноги стали обрастать мускулами, крепла спина. Но тягостное настроение не покидало его. В помещении, похожем на подземную пещеру, было мрачно и черно. Поднимая густую пыль, он работал, как отверженный, в тусклом освещении переносной электрической лампочки. Иногда он настолько уставал, что стоило ему чуть присесть на уголь, как сейчас же у него в изнеможении закрывались глаза. Тогда около него вырастал кто-нибудь из кочегаров и, толкая его пинком, словно галерного каторжника, разражался неистовой бранью:
– Ваше преподобие! Дьявол тонконогий! Все богослужение проспали!..
Лутатини вскакивал, как встрепанный, и начинал греметь лопатой по углю.
Но случалось, что кочегар вырывал у него лопату и старался на скорую руку ему помочь.
Покончив с делами в бункерах, Лутатини опять спускался в кочегарку, в душный зной, к гудящим топкам.
С первых дней китаец Чин-Ха работал во время своей вахты в одних брюках, по пояс голый, а потом, несмотря на прежнюю жару в кочегарке, почему-то начал надевать синюю рабочую рубаху. В голосе у него послышалась нехорошая сипота. Веселый от природы, постоянно улыбающийся, относившийся к этому рискованному рейсу спокойнее других, он вдруг стал угрюмым. Узкие раскосые глаза его налились тревогой, плоское лицо приняло выражение постоянной сосредоточенности. Он мало ел, хирел с каждым днем и, обессиленный, плохо выполнял свои обязанности. Только не уменьшалась жажда: работая у топок, он вместе с другими кочегарами часто прикладывался к дудочке большого чайника. Кроме того, у него появилось желание мыться в бане после всех – в одиночестве.
Как-то утром, после завтрака, на одной из вахт, когда только что спустились в кочегарку, Домбер обратился к китайцу:
– Что с тобою, Чин-Ха?
От неожиданного вопроса китаец вздрогнул, как будто его застигли врасплох во время преступления. Он вскинул на Домбера пугливый взгляд. А тот стоял рядом, огромный и неуклюжий, как вздыбившийся зверь, и сурово сверху вниз смотрел на него, ожидая ответа.
Китаец растерянно пролепетал:
– Моя мало-мало заболел.
– Чем?
– Моя не знает.
– Врешь! Скрываешь свою болезнь!
Китаец упорно настаивал на своем.
– Моя не знает.
Домбер повелительно гаркнул:
– Раздевайся!
У китайца испуганно заметались глаза. Он попятился к выходу из кочегарки, но Домбер схватил его за грудь.
– Стой!
И, приподняв на воздух, тряхнул, как пустой угольный мешок.
Чин-Ха пронзительно взвизгнув и, выбрасывая ругань на своем языке, начал раздеваться.
Вся спина и весь живот оказались у него в мелких красных прыщах.
Домбер, словно врач, осмотрел все части его тела, заглянул ему в рот, а потом свирепо заявил:
– Пьешь воду вместе с нами, гадина! Если успел кого заразить, я из тебя утробу вырву. Запомни это, Чин-Ха! А пока одевайся.
Бразилец Сольма, горячий и порывистый, с руганью бросился на китайца. Здоровенным кулаком он нанес ему такой удар в подбородок, что тот сразу свалился. Домбер не позволил больше драться. Чин-Ха, поднявшись, заплакал, сплевывая кровь.
Лутатини ужаснулся: все это было для него нелепо и дико. А еще больше встревожило его то, что и сам он очутился под угрозой заразы страшной болезнью. Взволнованный, он вместе с кочегарами поднялся на палубу, предчувствуя, что затевается что-то недоброе.
Весть о болезни китайца взбудоражила весь кубрик. Для матросов и кочегаров, обманом взятых в рискованный рейс, нашелся предлог вылить свою накипевшую злобу. С руганью, с угрожающими выкриками все повалили на палубу. Столпившись на шканцах, около офицерских кают, потребовали капитана. Вместо него вышел на крик первый штурман, мистер Сайменс. Твердым взглядом он окинул разъяренные лица команды, а потом, опустив правую руку в карман широких брюк, спокойно спросил:
– В чем дело?
Все разом загалдели:
– Мы не можем плавать вместе с сифилитиком!
– Долой китайца!.. У нас провалятся носы…
Чин-Ха стоял здесь же, робко оглядываясь на выкрики людей.
Старший штурман, уверенный в своей силе, смотрел на всех бесстрашным взглядом. Только углы его губ опустились в презрительной гримасе. Он поднял левую руку.
– Не шумите! Здесь не бар, а судно. Я не привык слушать всех сразу. Говорите кто-нибудь один.
Домбер выдвинулся вперед.
– Команда хочет, чтобы убрали китайца. Он сифилитик.
– Хорошо. Доложу об этом капитану.
Старший штурман скрылся в кают-компании, но минут через десять опять явился перед командой. Все притихли, слушая его властный голос:
– Китаец будет от вас удален. Пусть он сейчас же забирает свои вещи из кубрика и останется пока на палубе; капитан сам предварительно осмотрит его, а вы продолжайте работать.
В бортовом проходе, около каюты главного механика, стояло несколько человек из администрации. У каждого из них правая рука была опущена в карман брюк, каждый настороженно следил за командой. Распоряжение капитана успокоило всех. Матросы расходились по местам неохотно, с таким видом, точно вдребезги пропились. Нетрудно было догадаться, что враждебное настроение их вызвано не одним только китайцем.
Капитан Кент считал себя знатоком медицины. Несколько минут он осматривал перепуганного китайца, расспрашивал его, когда он в последний раз сходился с женщиной и что это была за женщина. Потом, удалившись в свою каюту, заглянул в судовой лечебник.
После этого в носовой половине парохода, под палубой в твиндеке, застучал топор плотника.
С разрешения главного механика Сотильо Лутатини заменил китайца. Домбер, которому почему-то захотелось сделать из него кочегара, добродушно подбадривал его:
– Ничего, друг, привыкнете. Хитрости тут не много. Все-таки будете специалистом. И жалованье вам увеличат. А угольщик на судне – это самое последнее дело.
В эту ночь, несмотря на усталость, Лутатини почти совсем не спал. С раздражением он вспомнил, что пил воду из чайника сейчас же после китайца. Быть может, в крови его уже размножаются спирохеты. Что будет, если у него через неделю или две появится подозрительная сыпь на теле! Представляя в воображении себя с провалившимся носом, он ворочался с боку на бок на жесткой койке и до боли кусал губы. Потная рубашка прилипала к спине.
На другой день в твиндеке было готово небольшое помещение, сколоченное из толстых досок. Оно напоминало карцер с тесовой кроватью, со слабым светом, проникавшим туда через раструб вентилятора, с затхлым и тяжелым воздухом. В него поставили анкерок с пресной водою и старое ведро, которое должно было заменять собою ночной горшок. В это помещение и водворили китайца. Он не сопротивлялся и шел за боцманом со всеми своими скудными вещами, уныло повесив голову, словно обреченный. Матросы молча провожали его глазами. За ним захлопнулась дверь и щелкнул большой висячий замок.
VI
Вахтенные часы той группы кочегаров, в которой был Лутатини, переместились: теперь кочегары работали с четырех до восьми и с шестнадцати до двадцати часов. Такой порядок был установлен на целую неделю. Потом они снова передвинутся на четыре часа вперед, это уравнивало труд людей.
Одну треть суток, утром и вечером, Лутатини проводил в кочегарке, превратившейся для него в место невыносимых пыток. Он не мог бы простоять здесь и одного часа, если бы предварительно не поработал на судне угольщиком. Помимо смекалки, здесь еще требовались здоровые мускулы, ловкость, навык. На каждого кочегара приходилось по три топки: одна, средняя, – внизу под котлом, а остальные две – по сторонам его, на высоте человеческой груди. За две вахты они поглощали до пяти тонн угля. Такое количество угля требовалось не только забросать в топки, но и раскидать его по колосниковой решетке ровным пластом. А сколько сверх этого нужно было еще затратить мускульного труда, чтобы поддерживать пар в котле на уровне определенного давления! Лутатини работал в рукавицах, в деревянных сабо, по пояс голый, весь запудренный черной пылью. Домбер все время поучал его:
– Топливо нужно держать как можно ровнее. Толщина слоя – от четырех до десяти дюймов. Большие куски ни в коем случае не должны попадать в топку. Следите, чтобы не засорялась колосниковая решетка. А главное – чаще поглядывайте на манометр. Давление пара – сто пятьдесят фунтов. Ни больше, ни меньше. Стрелка постоянно должна быть на красной черте. И вообще хорошенько запомните: для кочегара стрелка на манометре – это то же самое, что божий перст для верующего священника…
И терпеливо показывал, как нужно забрасывать уголь в топки.
Лутатини выбивался из сил. В особенности трудно было питать углем верхние топки, расположенные слишком высоко. Товарищи его справлялись с этим делом сравнительно легко, но у них были буграстые руки, а на спине, когда приходилось напрягаться, вздувались шишки. У него же в передней части топки срывался с лопаты уголь, и редко удавалось закинуть его дальше. И только при помощи гребка он разравнивал топливо по всей колосниковой решетке. Иногда лопата ударялась о топочную раму. Домбер бросал на него суровый взгляд, предупреждая:
– Осторожнее, друг! А то придется вам расплачиваться собственным жалованием.
Уголь давал длинное крутящееся пламя с копотью. Колосниковая решетка часто забивалась шлаком и золой, задерживая приток свежего воздуха, – горение замедлялось, жар уменьшался. Тогда Лутатини брал резак, похожий на кочергу, и очищал им промежутки колосников. В поддувало ослепительным золотом сыпались мелкие раскаленные угольки.
На судне теперь остались только два угольщика. За прибавочное жалование они работали на две вахты, по двенадцати часов в сутки. Один из них, белобрысый, с лицом преступника, по фамилии Вранер, почему-то возненавидел Лутатини: может быть, за то, что сам метил попасть в кочегары.
– Благодари бога, что не я старший кочегар. У меня бы ты, длинная глиста, завертелся перед топками, как черт перед крестом.
Лутатини лишь в редких случаях робко возражал:
– Вот таким озлобленным субъектам бог и не дает ни малейшей власти.
– Иди-ка ты со своим богом… знаешь куда?
Вранер произносил страшные слова, от которых у Лутатини поднимались волосы дыбом.
Гудели топки пламенным вихрем, дрожали котлы, прогоняя по трубам пар к цилиндрам, вздыхающим поршнями. Слышно было, как за переборкой, вращая гребной вал, размеренно взмахивали мотыли. А наверху были люди. Там, под присмотром штурмана, верная рука рулевого твердо лежала на штурвале, направляя «Орион» к определенной цели. Никто, кроме капитана, не мог изменить курса, остановить судно и уменьшить ход. Домбер то и дело бросал взгляд на манометры. Малейший уклон стрелки в левую сторону вызывал в нем раздражение. Он кричал:
– Лутатини, пар падает!
Вранер тоже вставлял слово:
– Это тебе, длинная глиста, не в алтаре комедию ломать. Там что? Прошелся с дароносицей, помахал крестом, с богом пошептался – и кончено. А тут, брат, шевелись!
На Вранера набрасывался Домбер:
– Кто бы говорил, а ты бы молчал, чужеядная тварь!
– Это почему же?
– Потому что от тебя пользы, как от худого ведра: почерпнешь полное, а вытащишь – в нем пригоршня воды. Наработаешь на десять центов, а нагремишь на два доллара. Отправляйся лучше в бункер и давай угля, пока я тебе бляху не припаял.
Вранер с ворчливой руганью удалялся из кочегарки.
Лутатини удивлялся: нашелся человек, который относился к нему с завистью. Чему бы завидовать? Разве кочегарное отделение не напоминало преисподнюю? Тускло горели запыленные электрические лампочки. В зное, в сорок с лишним градусов по Реомюру, носилась едкая пыль. Она разъедала кожу, забивала поры, хрустела на зубах, пробиралась в легкие. И люди здесь, черные, исполосованные струями пота, с сверкающими белками глаз, не были похожи на тех, с которыми Лутатини встречался на берегу. Когда открывали дверцы топок, на мрачных стенах трепетали багровые отблески.
В то время как Лутатини суетился за работой, двое его товарищей успевали справиться с делом и даже помогали ему. Они пили воду и становились под виндзейль – под длинную парусиновую кишку, нагоняющую в кочегарку влажный ветер, крошечные частицы морских просторов. Сольма курил трубку, а Домбер жевал табак, сплевывая бурую жижицу. Он мечтал:
– Добраться бы до родины. Три года не был… Если попадем в нейтральный порт, сбегу с судна.
– А у тебя большая семья? – спрашивал Сольма.
– Жена с двумя детьми и отец-старик.
– А для меня все равно, где бы ни бросили якорь. Лишь бы были женщины и выпивка. Однажды я попал на китобойное судно. Целый год проболтался в Южном Ледовитом океане. Негде было пропить ни одного шиллинга. Зато когда вернулся на берег – деньгами завались. Три дня я был хозяином жизни. Эх, и кутнул!..
И снова принимались за шуровку.
Домбер командовал:
– Возьмите, Лутатини, карандаш и начинайте расписываться.
Лутатини открывал ревущую топку и брал в руки двухпудовый лом. Засунув его заостренным концом в огненное жерло, он наваливался изо всей силы на другой конец и взламывал скипевшийся слой угля. Извиваясь, он, как был, наклонял голову и, зажмурившись, пробивал лом в новое место под сверкающий слой топлива. Запекались и трескались губы, широко раздувались ноздри, вздыхая раскаленный воздух. Сердце делало перебои, кровь стучала в висках. У него начинали дрожать руки и ноги. Тогда подходил к нему кто-нибудь из товарищей и, отстраняя, говорил:
– Отдохните!
Лутатини опрометью бросался к большому чайнику и, не думая уже, что можно заразиться, жадно пил из дудочки воду. Потом садился на деревянную скамеечку под виндзейлем, весь мокрый от пота, и жаловался:
– Это ад плавучий, а не корабль.
– На этот раз вы правильно сказали, – подхватывал Домбер. – Но ничего не поделаешь: вы же, духовенство, придумали для нас, чтобы мы добывали хлеб в поте лица. И нигде не прольешь столько пота, как в кочегарке. А почему-то никто из нашего брата не попадает в святые.
Лутатини мрачно отмалчивался.
Сольма, подбрасывая в топку новую порцию угля, говорил:
– Если на том свете дадут мне должность кочегара, я с удовольствием буду поджаривать на огне всех царей, князей, судовладельцев и шанхаеров.
Домбер добавлял:
– Насчет того света нам ничего не известно. А вот теперь бы засадить в котел самого папу римского, чтобы не морочил людям голову…
Лутатини страдал. Вот они кощунствуют, говорят мерзости, но ведь только они, эти простые ребята, были человечны к нему. Они работали за него бескорыстно, давая ему возможность отдохнуть. Мог ли так поступить кто-либо из администрации? Он вспоминал, как отнесся к нему сам капитан, и кровь бросалась в голову.
Угольщик Вранер, попадая из бункеров в кочегарку, издевался над Лутатини и рассказывал ужасы:
– Однажды я плавал на одном судне. Второй механик у нас был паскудина первой статьи. Решили кочегары малость проучить его. Ребята все дружные были – один к одному на подбор. Пропал второй механик без вести… сгинул… Хоть бы одну косточку нашли от него. Ничего.
– Куда же он исчез? – спрашивал Сольма.
– Про то знали немногие. А для остальных он исчез, как дым из трубы.
Вранер снова начинал:
– А то вот еще случай.
Лутатини надоело слушать Вранера, и он сказал ему:
– Послушай, Вранер, для чего это ты рассказываешь?
– Для твоего размышления. Когда ляжешь на койку, подумай: какой, мол, угольщик Вранер подлый человек и какой я в сравнении с ним благородный! А может быть, с доносом побежишь к капитану?
Домбер обрывал его:
– Ты и без доноса когда-нибудь попадешь на виселицу.
Перед концом вахты очищались топки: быстро удаляли гребком весь шлак и золу и дочиста очищали колосниковую решетку. Чистый жар разгребали по колосникам и подбрасывали свежего угля. Выброшенный шлак раскаленными слитками валялся тут же, у ног, на железных плитах. От этого жара становилась невыносимой. Из поддувал выгребался мусор – зола и мелкий уголь. Все это заливалось водою. По всей преисподней бурым облаком носились пыль и горячий пар. Из запорошенных глаз катились слезы, а легкие отхаркивали черные сгустки.
Судовой колокол отбивал восемь склянок, и Лутатини направлялся в баню, устало согнувшись, едва передвигая ноги. Руки у него висели, словно парализованные. Вымывшись под душем, он боязливо оглядывал свое тело и вспоминал китайца. Малейшее красное пятнышко на коже вызывало страшное беспокойство.
VII
«Орион», изменив курс, шел теперь на север. Вступили в область пассатных ветров. С каждым днем становилось теплее.
В кубрике донимали клопы. Они сопровождали моряков во всех скитаниях. На них не действовали ни тропический зной, ни полярный холод. Сколько раз на «Орионе» команда принималась за уничтожение их: вытаскивали из помещения все свои вещи, а потом начинали ошпаривать кипятком все койки и пол, мыли стены. И все-таки через некоторое время постылые насекомые снова появлялись. Наконец, чтобы избавиться от них, матросы сами выселились из кубрика на палубу.
Над люком переднего трюма был развешен тент. Матросы и кочегары все свободное время проводили здесь, располагаясь прямо на лючинах, затянутых брезентом. Ложились поперек судна, в два ряда, голова к голове: с левого борта кочегары, а с правого – верхнепалубные матросы. Здесь же вместе с кочегарами, между Сольма и Домбером, устроился и Лутатини, страдавший от клопов больше всех.
Лутатини считал себя человеком потерянным. Для него ничего не оставалось в жизни, кроме грязного и непосильного труда и животного существования раба. Глядя на него, никто бы не мог узнать в нем прежнего щеголеватого священника с нежным румянцем на щеках. Он огрубел, ссутулился, ходил расхлябанной походкой. Лицо обрастало черной кудрявой бородой, под глазами, как и у его товарищей по профессии, появились несмываемые синие круги от въевшейся угольной пыли.
Иногда, проснувшись, он продолжал лежать на своем жестком матраце, вслушиваясь в говор команды. Ему хотелось понять этих людей. Эти люди были полны противоречий, и в их поступках трудно было разобраться. Взять хоть бы отношение команды к китайцу Чин-Ха. Матросы, как узнали о его болезни, готовы были разорвать его на части, а теперь вспоминали о нем с откровенной жалостью, как о близком родственнике.
– Говорят, у Чин-Ха семья есть…
– Ну как теперь вернуться домой?..
– Пропала жизнь…
– Если бы в больницу отправили, мог бы подлечиться. А тут где же… Сгниет парень…
По вентиляторной трубе, привязав к шкерту миску, спускали китайцу пищу. Так же вытаскивали от него ведро с нечистотами. И все это проделывали сами матросы, не дожидаясь распоряжения начальства. Многие снабжали его табаком. А старший повар, этот пустой и смешливый человек, урывал от офицерского стола лучшие куски мяса и посылал их через Луиджи больному.
Вспоминая о китайце, матросы ругали женщин; только от них и зло на свете, моряки страдают больше всего от них. Но Лутатини уже знал, что почти у каждого матроса вытатуирована на теле женщина. У старого рулевого Гимбо на груди – парусник с волнами у бортов, с надувшимися парусами; сбоку – женщина; она взмахнула платочком и смотрит на судно печально. У некоторых матросов были разрисованы руки: то женщина держится за штурвал, внутри которого, в перспективе, виден маленький кораблик, то она поднимается по вантам с раздуваемым подолом юбки. Лучше всех была татуировка у Домбера: на груди – сердце, а в нем, как в раме, – голый бюст красавицы; лицо ее в густых локонах, с манящей улыбкой; внизу бюст заканчивался змеями; вытянувшись наружу через острие сердца, они снова впивались в него, чтобы причинить невыносимые муки. Только рулевой Карнер представлял исключение: у него на груди – земной шар; по океану, дымя, плывет пароход; путь его далек – к солнцу, внутри которого надпись: «Всемирный союз моряков».
Здесь, на переднем люке, у Лутатини часто происходили столкновения с рулевым Карнером. Однажды неугомонный финн, заметив, что Лутатини проснулся, заговорил с ним притворно-дружеским тоном.
– Я вижу, что вы устали, сеньор Лутатини. Ну, ничего! Зато на том свете получите вознаграждение. Старенький ваш бог посадит вас на мягкое кресло, похлопает по плечу и скажет: «Молодчина, братишка! Поработал ты в кочегарке на славу. Хозяева твои хорошо нажились на контрабандном грузе. Недаром свечи ставили и молебны служили. Теперь отдыхай во веки веков и блаженствуй в моих чертогах». И закажет для вас хор из архангелов…
Другие матросы подхватили:
– Жаль, что он не мусульманской религии. Там в награду дают еще женщин – лучших красавиц. Любую выбирай.
Глаза Лутатини засверкали гневом. Но он сдержал себя и заговорил тихо:
– Вы все отрицаете, Карнер, и надо всем смеетесь. Для вас не существует бога. А между тем величайшие умы человечества не отрицают высшего разума. Мне кажется, объясняется это тем, что вы никогда не задумывались над мудрыми явлениями природы. Возьмем простой пример. Вы когда-нибудь рассматривали в микроскоп инфузорий или микробов?
Матросы насторожились, а Карнер подошел ближе:
– Нет, не имел такого счастья, но по книгам кое-что знаю и об инфузориях и о другой подобной нечисти.
– Так. Она, инфузория, настолько мала, что ее можно увидеть только вооруженных глазом. Насколько же малы ее органы! И все-таки они живет по известным законам. Теперь бросьте свой взгляд в недоступную высь. Каждая звезда представляет собой огромнейшее солнце. И каждое такое светило, плавая в пространстве, тоже живет по определенным законам. Неужели после этого вы будете отрицать то, что существует какая-то всемогущая разумная сила, которая управляет миром?
Карнер впервые на минуту задумался, не зная, что сказать, но тут же, в свою очередь, задал вопрос:
– А где это ваш мировой разум находится? На каком месте он сидит? Почему его никто не видит?
– Если даже бога никто не видит, то это еще не значит, что его не существует. Зато мы видим его проявления в окружающей нас природе. Здесь невольно напрашивается аналогия; сколько ни копайся в человеческом мозгу, мы не увидим его разума. Следует ли отсюда, что разума не существует у человека? Проявления его в виде творческой мысли настолько очевидны, что только сумасшедший может спорить против такой истины.
Карнер, воспламенившись, готов был вцепиться в горло своего противника:
– Бросьте, сеньор Лутатини! Аналогия – не доказательство. Об этом я уже знал, когда еще в гимназии учился. Я подойду к вашему богу с другой стороны. Прежде всего он – никуда не годный юрист. Устами пророков он возвещает: око за око и зуб за зуб. Потом, как увидел, что из этого вышла только склока, сейчас же посылает сына на землю. А сын – нет, говорит, если кто ударит вас по правой щеке, то подставьте левую. Из этого тоже ничего путного не получилось. Доказательство – мировая война. Чего только ваш бог не придумывал! И голод, и мор посылал на землю. Серой сжег Содом и Гоморру, провалил то место, где стояли эти города. Мало того – устроил всемирный потоп. Настолько рассвирепел, что даже невинных птиц и зверей уничтожил. Только одних морских животных оставил. Кому было горе, а тем пожива: обжирайся любым мясом, до человеческого включительно. И все это проделывал только для того, чтобы после потопа более слабые существа опять попали в зубы сильных, чтобы Хам сейчас же начал хамствовать над своим отцом…
Чем грубее были доводы Карнера, тем сильнее они били по религиозному мировоззрению Лутатини. Ничего подобного он не слышал в духовной семинарии. Там учителя и наставники лепили из его души великолепное здание с изумительными архитектурными украшениями. Он поверил в прочность его. А теперь, в чуждой морской обстановке, бомбардируемое злым финном и другими матросами, оно дрожало, как от потрясающих ударов.
Загалдели матросы, пересыпая слова крепкой бранью:
– Разделывай, Карнер, поповского бога под красное дерево!..
– Пусть Лутатини обратится с проповедью к тем, кто затеял войну…
– Дайте слово Лутатини – пусть потешит команду. Хо-хо-хо!..
Угольщик Вранер, покосившись на Лутатини, загадочно промолвил.
– Когда-нибудь на этом судне одному человеку я поставлю на морде антихристову печать. Никакой святой водой ее не смоет…
Его оборвал Карнер:
– Если только ты посмеешь это сделать, мы тебе, рвань корабельная, все ребра переломаем.
Когда Лутатини становилось тошно от морских разговоров, он уходил на полуют. Там, в одиночестве, отдавался горестным размышлениям. Ушел он и теперь, вспомнив изречение из «Послания к римлянам»: «Гортань их – открытый гроб, яд аспидов на устах их». Он уселся на опрокинутом ящике. Над срединой парохода огромнейшей колонной возвышалась труба, поддерживаемая восемью стальными бакштогами. За кормою уверенно бурил гребной винт. О, если бы не война, если бы плыть при других условиях! Хорошо погрузиться в голубой простор и слушать тихие всплески, напоминающие детский лепет.
На полуюте в три яруса стояли большие низкие клетки. В них, как обреченные узники, томились гуси. Перед ними в изобилии находилась пища, но им было тесно и жарко. Открыв янтарно-желтые клювы, они смотрели на бесконечные воды океана и тихо гоготали. Поплавать, поплескаться бы в холодных струях! И фиолетовые глаза их в золотистых ободках наливались тоскою. Один из них, может быть самый страшный, подал голосом какой-то сигнал. Тогда около трех десятков гусей, вытягивая длинные шеи, подняли отчаянный крик. Лутатини зажал уши. Ему казалось, что он слышит не гоготанье, а вопль этих птиц, потерявших всякую надежду вырваться на свободу.
Пришел на полуют поваренок Луиджи. Бросив на Лутатини невинный взгляд он достал из клетки одного гуся и, придавив ему башмаком шею, одним взмахом кухонного ножа отхватив птичью голову. Гусь закувыркался на одном месте, нелепо размахивая крыльями и разбрызгивая кровь. Остальные птицы, замолкнув, забились к задней стенке клетки и с ужасом смотрели на умирающего своего собрата.
Лутатини, брезгливо поморщившись, спросил:
– Не жалко?
Мальчик залился краскою стыда.
– Мне приказывают. Как я могу ослушаться?
И, подхватив мертвого гуся, направился к камбузу.
Капитан Кент, страдавший хроническим запором, находил, что гусиное мясо служит великолепным слабительным средством. Поэтому, по его распоряжению, для офицерского стола почти каждый день резали по одному гусю. И поваренок Луиджи будет продолжать делать это до тех пор, пока не опустеют клетки.
На полуюте появился радиотелеграфист.
– Отдыхаете, Лутатини?
Лутатини понравилось его лицо – спокойное, уверенное, с большими серыми глазами. Что-то располагающее было и в его манере держаться, и в чистом голосе, и в откровенной улыбке.
– Я не ошибся? Вас, кажется, величают сеньор Лутатини?
– А вас?
– Викмонд. Я норвежец, но очень долго жил в Аргентине, в Розарио, полюбил эту страну и принял ее подданство. А вы, как я слышал, священник из Буэнос-Айреса и как будто бы попали к нам не по своему желанию? Верно это или нет?
– К сожалению, так.
Из командного состава это был первый человек, который заговорил с ним так, по-хорошему, просто. Это сразу тронуло Лутатини. Но в то же время он почувствовал неловкость за свой грязный рабочий костюм и неряшливый вид. Ему хотелось говорить умнее, изысканнее, но мысли его путались. Он с трудом рассказал о себе; как он жил раньше, как попал на судно и как теперь ему тяжело здесь. Заметив сочувствие в лице своего собеседника, Лутатини спросил:
– Команде я плохо верю. Все ко мне относятся насмешливо. Скажите хоть вы откровенно, мистер Викмонд: неужели нет выхода из моего положения?
Радист пожал плечами.
– Поэтому-то и заключили с вами контракт.
Лутатини сделал правой рукой такой жест, словно потрясал в ней неприемлемый документ, и воскликнул:
– Но ведь нас обманом взяли! Мы подписали эту дурацкую бумажку не в конторе, а в кабаке!
– Хотя бы в публичном доме – документ все равно сохраняет свою силу.
– И теперь я должен буду плавать все шесть месяцев?
Викмонд оглянулся назад, на мостик парохода.
– Иногда матросы убегают с судна. Но это случается только тогда, когда попадают в подходящий для этого порт и когда администрация в отношении команды принимает недостаточные меры. А по океану никто и никуда не поскачет.
Лутатини замолчал. Тонкие губы его вздрагивали. Наклонив голову, согнувшись, он стоял на полуюте, словно живой вопросительный знак. Он потирал лоб, словно хотел разгладить трагическую складку, сломавшую его черные брови. Хотелось еще что-то сказать – самое важное, но мысль ускользнула, как рыба в глубину воды. Почему-то начал прислушиваться к гоготу гусей. Они переговаривались тихо, бесстрастно, будто обсуждали только что слышанный разговор этих двух людей.
– Вы не очень сокрушайтесь, сеньор Лутатини. Я думаю, что вам не придется так долго плавать.
Голова у Лутатини качнулась, как буек на волне.
– Почему вы так думаете, мистер Викмонд?
Радист как будто не слышал вопроса.
– Мне пора на дежурство. Как-нибудь еще поговорим. До свиданья.
Лутатини растерянно посмотрел в спину уходящего человека, унесшего с собою недосказанную мысль.
Ни командный состав, ни матросы на «Орионе» не знали, что накануне отхода корабля из Буэнос-Айреса, в тот самый вечер, когда шанхаер так ловко обставил в кабаке матросов, Викмонд находился в другом, более богатом, кабаке под названием «Зюйд-Вест». С ним был рыжеволосый и толстогубый господин в сером костюме и серой кепке. Ярко освещенный зал сверкал зеркалами, люстрами, разноцветными бутылками на буфетных полках, шумел музыкой и разноязычным говором моряков всех стран. Кружились танцующие пары, женщины и мужчины, обмениваясь взглядами, вызывающе смеялись. Возбуждение росло, глаза загорались. И только два человека были лишними в этом пьяном и сладострастном угаре – Викмонд и его рыжеволосый компаньон. Правда, по временам и они громко смеялись, пили вино, болтая о любовных приключениях. Сидели они, наклонясь друг к другу и говорили вполголоса и даже шепотом.
– Только вчера узнал, что около Гибралтара у нас обстоит дело хорошо, – тихо сообщил рыжеволосый господин.
– А как с позывными? – так же тихо спросил Викмонд.
– Все сделано. Даже в Средиземном море будут переданы.
– Это хорошо. Если в одном месте не удастся, то в другом вознаградим себя.
Вставая, рыжеволосый господин сказал:
– Значит, длина основной радиоволны шестьсот метров?
– Совершенно верно. Запомнить легко.
Выходя из кабака, оба пошатывались, а когда очутились на просторе улицы, трезво распрощались, пожелав друг другу успеха, и разошлись каждый своей стороной.








