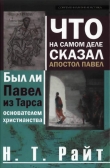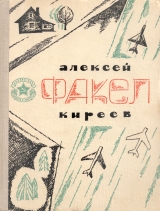
Текст книги "Факел"
Автор книги: Алексей Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Глава шестая
Михаил Викторович Курносов, с которым Павел провел в Евпатории несколько дней, предложил Мальцеву поехать с ним в Москву. Павел согласился. Заодно и Валю прихватили с Леночкой. Павел не был в столице уже несколько лет, да и Валя – племянница Михаила Викторовича – соскучилась по дому, по матери – она жила в небольшой скромненькой комнатке на Большой Якиманке.
– Хитрец этот Миша, – вспоминал как-то Павел. – Привез домой, познакомил с женой, тетей Машей, и сынишкой Володькой, усадил всех за большой стол и говорит: «Вот что, друзья, давайте возьмем шефство нал Павлом и покажем ему нашу столицу. А гидом Валя будет – она самая проворная. Бабушка Маша с Леночкой посидит. Ей не привыкать нянчиться».
Как– то вся семья была в сборе -сидели за столом, ужинали, и Михаил Викторович незаметно завел разговор о том, как хорошо быть вот так, в кругу родных и близких, или всем вместе выехать за город, сходить в театр. Не то что холостяцкая бобылья жизнь. Осточертела она на фронте. Говорил, а сам искоса посматривал то на Павла, то на Валю.
Павел, конечно, догадался, куда клонит Михаил, а Валя вдруг покраснела, расцвела.
– Что ж ты краснеешь, Валюша, о тебе ли речь?
– Да будет вам, дядя Миша! – совсем смутилась Валя.
– Давайте, давайте, Михаил Викторович, – засмеялся Павел, – ставьте точку над «и».
– А что, и поставлю. Чего вам волынку тянуть? Валя и в доме хозяйка, и на люди не стыдно с нею выйти. Да и Леночка к ней привыкла уже. Что же касается жилья, то с милым и в шалаше рай. Как мы с Машей бывало? Дальний Восток? Даешь. Север? Пожалуйста. Всего хватили. А у вас в Евпатории крыша, да и в Москве, на Якиманке примут…
Так и поженил «дядя Миша» Павла и Валю, помог прописаться в Москве. Хорошая, дружная семья получилась. Валя устроилась работать в детский сад. Павел часами просиживал за воспоминаниями. Читал Вале. Та говорит, что неплохо выходит, А потом совсем хорошо пошли дела: книжка вышла, над второй корпит. Словом, встал человек на ноги, твердо встал…
В морозный ноябрьский день Павел Мальцев был вызван в большое здание с колоннами, что стоит на одной из главных улиц столицы. Принял его довольно полный, добродушный мужчина в штатском, назвавший себя Степаном Ивановичем. Усадил в кресло, расспросил о житье. Потом сказал:
– Товарищ Мальцев, несколько месяцев назад создана специальная комиссия, которая проверяет архив. Натолкнулись и на ваше дело. В нем хранятся ваша жалоба, коллективное письмо ваших товарищей по службе, а также письмо подполковника Соловьева. («О, значит, и Шплинт написал!» – пронеслось в голове Павла.) Разобрались детально во всем. Были на месте, в воинской части. Беседовали с коммунистами, в том числе и с товарищем Бортовым.
– С Иваном Сидоровичем?! – вырвалось у Павла.
– Да, с Иваном Сидоровичем. Он теперь начальник политотдела… Ну вот, разобрались детально и нашли, что обвинили вас напрасно.
– Так и должно быть, – выдохнул Павел. На его худощавом лице вдруг выступили красные пятна, лоб покрылся испариной. – Так и должно быть, – тихо повторил он и, через силу привстав, потянулся к графину с водой.
– Садитесь и не волнуйтесь, пожалуйста. – Степан Иванович налил в стакан воды, подал Павлу.
– Да как тут не волноваться, как?! – Павел дрожащими руками поднес стакан к губам, зубы выбивали мелкую дробь о стекло. Отпил несколько глотков, пришел в себя.
– Вот ваша Звезда Героя. Носите с достоинством, Павел Сергеевич, вы ее заслужили.
Павел встал, посмотрел на крупные руки Степана Ивановича, протянувшие Золотую Звездочку, и глаза его повлажнели.
– Вы извините, что так получается. Да я и… не стыжусь.
– Ну что вы, Павел Сергеевич… До свидания. Желаю счастья.
– Спасибо, Степан Иванович.
Павел попрощался и зашагал было к выходу. Потом обернулся:
– Да! А вы не знаете случайно, где этот… как его, Загубисало?
Степан Иванович на миг задумался.
– Интересует? Конечно, знаю. Пришлось с ним повозиться. Теперь он, сам понимаете, не у дел. Да и Федорович в запасе.
– Как это правильно!
Стоит Павел Мальцев на набережной. Ложатся снежинки на его разгоряченное лицо. Он думает о пережитом.
– Паша, – раздался у него за спиной голос Вали. – Что ж ты так долго? Пойдем. Тебя ждут.
– А-а, это ты, Валюша! Ну поздравь, дорогая, поздравь. – Павел шагнул навстречу, припал к ее плечу.
– Дай, я хоть одним глазком на нее взгляну, – попросила Валя. – Твоя? – кивнула она на Золотую Звезду.
– Моя. По пятнышку на одном из лучиков узнал.
– Ну пойдем, Паша, – Валя взяла его под руку.
– Ты, говоришь, там ждут? – спросил Павел. – Кто же?
– Все ждут, Паша. Дядя Миша, тетя Маша, Леночка…
– Мы мигом, – вдруг заторопился Павел, тверже ставя на обледеневший тротуар костыль.
– А еще, Паша, ждет тебя… знаешь кто?
Павел остановился.
– Неужели Бортов?
– Он, Павлик, он. А Дима Соловьев телеграмму прислал. Поздравляет, оказывается, ему сообщили…
– Вот так Шплинт! И тут успел.
Впереди показалась станция метро.
Москва – хутор Должик
1963-1965
ФАКЕЛ
Рассказ
 В один из майских дней мы с Алексеем Ивановичем отправились на прогулку в горы. День был теплый, солнечный. После обильных дождей буйно цвели каштаны. На склонах гор, где петляла еле заметная тропа, зеленели сочные луга, повсюду, словно бабочки-капустницы, виднелись белоснежные зонтики ромашек. Внизу, под обрывом, бурлил ручей – желтоватый, торопливый бежал куда-то вдаль, резвился на перекатах, пенился и злился, когда на пути встречались большие щербатые валуны.
В один из майских дней мы с Алексеем Ивановичем отправились на прогулку в горы. День был теплый, солнечный. После обильных дождей буйно цвели каштаны. На склонах гор, где петляла еле заметная тропа, зеленели сочные луга, повсюду, словно бабочки-капустницы, виднелись белоснежные зонтики ромашек. Внизу, под обрывом, бурлил ручей – желтоватый, торопливый бежал куда-то вдаль, резвился на перекатах, пенился и злился, когда на пути встречались большие щербатые валуны.
– Красота-то какая! – сказал Алексей Иванович, когда мы поднялись на вершину холма. – Дух захватывает. – Он снял широкополую соломенную шляпу, подставил солнцу голову. – Вот так и захватил бы все солнце и увез с собой! – воскликнул он, потирая от удовольствия грудь. – Но увы…, нельзя, мотор не тот, сдает. – Алексей Иванович положил на сердце ладонь, прислушался: – Ишь, как разыгралось: стук-стук, стук-стук, стук-стук… Ведь и прошли-то с гулькин нос, а оно так расшалилось, вот-вот выпорхнет, как птаха из клетки. Стук-стук, стук-стук…
Мы свернули в тень, под куст сирени, присели на скамейку, закурили.
– А давно сердцем-то маешься? – спросил я Алексея Ивановича.
– Давно ли, спрашиваешь? – Алексей Иванович сощурил глаза, подумал, словно вспоминая что-то важное.– Да уж двадцать лет минуло.
– А сколько ж тебе теперь?
Алексей Иванович опять не сразу, а как бы прикинув в уме, который ему год, ответил:
– Сорок третий пошел.
Я невольно посмотрел на лицо Алексея Ивановича. Лоб его был перерезан глубокой складкой, из уголков глаз бежали морщинки.
– Удивляешься? – с грустью в голосе спросил Алексей Иванович. – Кому ни скажу – все удивляются. Загибаешь, мол, старина. В двадцать лет нажить сердечную болезнь – как тут не удивляться! Посмотришь, пятидесятилетние и те рысаками скачут. А тут – сорок лет. Юноша!
Алексей Иванович привстал, дотянулся до ветки сирени, на которой еще блестели капли дождевой воды, прикоснулся к нежным фиолетовым лепесткам.
– Жизнь, она, брат, такая штука, – продолжал он, – кого угодно перемелет. Ну, а мне за свои годы-то довелось и сладкого попробовать, и горького хлебнуть.
Алексей Иванович отпустил ветку, и капли, вспорхнув с крестообразных сиреневых куполков, обдали нас брызгами.
– Ты где в сорок первом был? – спросил Алексей Иванович.
– Под Проскуровом.
– Туго пришлось?
– Было дело.
– То-то и оно. Мне тоже досталось. Не под Проскуровом – под Старой Руссой. Везде в сорок первом жарко было.
Алексей Иванович уселся поудобнее, вынул новую сигарету, щелкнул зажигалкой, прикрыл широкой ладонью фитилек, прикурил.
– Был один случай у меня под Старой Руссой, до гробовой доски не забуду. Немец пер тогда напропалую. Хоть морда в ссадинах и крови уж была – набили ему наши кое-где, – а он все равно напролом лез. Упрямый, черт, лютовал везде.
Алексей Иванович сделал глубокую затяжку.
– После боя мы отошли на одну высотку. Успели зарыться в землю, приготовились встретить фрица как следует. Сидим в окопах-ячейках, наблюдаем, а глаза от усталости слипаются. Суток трое не спали: то на одном, то на другом рубеже дрались. А ты, конечно, помнишь, какую он тактику применял. Ударит, гад, в стык между подразделениями, а потом и давай справа и слева обходить. Ну а что нашему брату оставалось делать? Подеремся-подеремся, поколошматим его, а потом приказ: отойти па другую позицию. Вот и на этот раз так получилось. Сунулся немец сначала в лоб – крепко по зубам получил. Откатился, собрал силы – и снова в атаку, но уже в стык пошел. Наши его опять хорошо угостили: пулеметчики и артиллеристы сотни две уложили перед высоткой. На третий день он танки пустил, за ними – автоматчиков. А перед этим обработал артиллерией нас. Туго пришлось. Многие окопы осыпались. Лежишь, голова спрятана, а сам весь на виду.
Алексей Иванович с горечью улыбнулся.
– Танки нас обходить стали, понеслись прямо к командному пункту. Гляжу, снаряды там рвутся. Щепки от блиндажей летят в стороны. Вот тут-то и екнуло у меня сердце – ведь на капе боевое знамя. Лежу, стреляю, а сам то и дело на капе поглядываю. Смотрю, по танкам открыли огонь наши «сорокапятки». Один танк задымился, второй… Полегчало на душе. Вот так ребята! Оказывается, и, танки можно бить по-настоящему!
Алексей Иванович вопросительно посмотрел на меня.
– Но, как говорится, плетью обуха не, перешибешь. Силен был тогда еще немец, ох как силен! Хоть мы и стояли насмерть, хоть и били его, а он все новые и новые силы подбрасывал – и опять вперед. Снова заговорили пушки. Снова танки вошли в прорыв. Где-то за нашей спиной замкнулись немецкие клещи. Попятились мы. Ткнемся туда – стреляют. Ткнемся сюда – то же самое. Сгрудились неподалеку от капе. Глядим, из-под обломков блиндажа наш комиссар поднимается. Встал во весь рост, смотрит затуманенными глазами на нас, а у самого по виску кровь алой струйкой течет. «Замполитрук, – еле слышно проговорил он, – возьми…» Протянул завернутое в чехол боевое знамя и сам тут же замертво повалился на землю.
Алексей Иванович волновался. Из небольшого карманчика он достал дюралевую баночку с надписью «Валидол», отвернул дрожащими пальцами крышечку, достал таблетку, кинул ее под язык. Помолчав минуту-другую, продолжал:
– «Знамя… Наше знамя… Разве можно его оставить врагу? – проговорил замполитрук. – Это наша святыня». Он снял чехол, обвернул знаменем свое тело и, заправив гимнастерку, подтянувшись ремнем, крикнул рядом стоявшему бойцу: «Матвей Пикайкии, со мной!» Замполитрук и Пикайкин скрылись в лесной чаще, а сзади еще долго слышался бой, который вели их товарищи, преграждая путь врагу…
Алексей Иванович, прерывая рассказ, облегченно вздохнул. Я тоже перевел дыхание и сказал:
– Молодец замполитрук! Спас знамя…
Алексей Иванович прервал меня жестом:
– Погоди, дорогой. Вот тут-то и начинается самое главное.
Он встал, прошелся вокруг сиреневого куста, остановился за моей спиной. Осторожно развернул крону, заглянул внутрь куста. Вдруг из-под его рук выпорхнула пичужка.
– Гнездо, – тихо сказал Алексеи Иванович. Из гнезда, широко раскрыв желтые клювы, подслеповатыми глазами смотрели птенцы. – Растите, растите, глупышки,– сказал он птахам и, закрыв куст, подошел ко мне. – Малюсенькие, а живут. Мамаша-то волнуется! Пойдем, пусть успокоится и покормит их. – Алексей Иванович взял меня за руку, потянул за собой на тропинку.
– Так как же со знаменем-то? Что с ним произошло? – спросил я Алексея Ивановича, шагая рядом.
– Хочешь знать?
– Еще бы!
– А произошло вот что. Замполитрук и Пикайкин начали пробиваться к своим. Сам понимаешь, трудно им было. Дороги немцы перехватили, заслоны или засады выставили. Куда ни пойдешь – всюду на огонь напорешься. Решили пробираться напрямик – лесом. Ну а ты знаешь, какие там леса и болота. Местами просто гибельные. Замполитрук в степи вырос, ориентировался не совсем уверенно. Хорошо, что Матвей с лесом был знаком – с детства в темниковских чащобах лазил, часто на охоту с отцом ходил. И сейчас, говорят, Темниковские леса в Мордовии славятся. Не так ли?
– Да. Хороши еще.
– Так вот. Матвей Пикайкин был, как говорится, парень-кремень. Дело свое знал. Он автоматчиком служил. Бывало, резанет очередь по мишеням – все изрешетит. Меткий глаз у Матвея был крепкая, увесистая рука. Поэтому замполитрук и взял его – знал, что не подведет. Пошли. Идут день. Лес, болото, лес… Ночью немного вздремнули. Опять в путь. Второй день идут. Лес, болото, лес… Замполитрука дума стала одолевать: туда ли идут они? Остановились. Сориентировались: верно, на восток идут. На третьи сутки съели последний сухарь – и опять в поход, к своим. А где они свои-то? Пришлось пересекать дорогу. Нарвались на фашистов. Пнкайкин уложил двоих, замполитрук – одного. На четвертое утро вышли к деревне. Притаились. Тишина. От голода сосет под ложечкой. Чья деревня? Наша или ее заняли немцы? Полежали час. Ни души. «Ну что ж, Матвей, разведай деревню осторожно, – сказал замполитрук Пикайкину, – хлеба, может, найдешь». Пошел Матвей, а замполитрук глаз с него не спускает.
Алексей Иванович потянулся было за сигаретой в карман, но отдумал курить. Продолжал рассказ:
– Матвей вышел из одного дома с краюхой хлеба, а навстречу – немецкие автоматчики. Заорали: «Хенде хох!» А Матвей вскинул автомат и полоснул по ним очередью. Но один из фашистов не растерялся: оглушил прикладом Матвея. Упал он, как сноп, на землю. Фашисты схватили Пикайкина, связали, кричат: «Сколько вас, говори, свинья?» Поднял он вверх палец: один, мол, я. Новый удар оглушил Матвея: «Сколько вас?» И опять он поднял вверх палец: один. Тогда немцы привязали Матвея к мотоциклу, завели. Матвей сначала успевал бежать за машиной, а потом обессилел, рухнул на пыльную дорогу. Окровавленное лицо – волоком по земле, пыль набилась в рот, ноздри, в обезумевшие глаза. «Сколько вас?» – вновь орали фашисты, ставя на ноги полуживого бойца. И Матвей опять поднимал вверх палец: один…
Алексей Иванович тяжело вздохнул.
– А каково было замполитруку, затаив дыхание, скрепя сердце, следить за этой пыткой?! Он несколько раз прикладывал автомат к плечу, его палец лежал на спусковом крючке. Мгновение – и раздастся очередь. Но знамя… Оно у его сердца. Это знамя должно повести новых бойцов в атаки. И замполитрук выдержал. Встал и с затуманенными глазами пошел на восток один. Голодный, обросший, с единственным магазином в автомате, двигался днем и ночью, по болотам и лесам. Вода хлюпала в сапогах, горели истертые в кровь ноги. Порой отчаяние проникало в душу. Были минуты, когда хотелось пустить в лоб пулю и остаться лежать неизвестным в этих дремучих лесах. Но – шел и шел на восток. Он был теперь один со своим сердцем, со своей совестью, и только от него зависело – быть знамени в строю или не быть. На шестые сутки вышел на опушку леса. И вдруг – пулеметная дробь, крики «ура». Это наши контратаковали фашистов, гнали их из небольшого села. Замлолитрук собрал последние силы, открыл огонь по бежавшим недалеко от него немцам и тотчас упал в густую траву. Очнулся он на командном пункте после суточного сна. Командир полка поцеловал его в небритую щеку: «Спасибо, сынок, за честную службу, спасибо».
Алексей Иванович остановился, перевел дыхание, бросил в рот новую таблетку валидола.
– Вот с тех пор, брат, и начало, словно факел, гореть сердце замполитрука, – закончил он свое повествование и посмотрел на меня.
И я понял, что этим замполитруком был не кто иной, как сам Алексей Иванович, прошагавший потом под спасенным им боевым знаменем вместе с другими бойцами еще по многим фронтовым дорогам. А теперь он, полковник, медленно идет по проторенной тропке-терренкуру. У него доброе, хорошее сердце. Оно стучит и стучит: стук-стук, стук-стук, стук-стук…
РОМАШКА
Рассказ
 После длительного перехода мы решили сделать привал. Остановились на берегу маленькой, поросшей осокой и кувшинками речушки, которая на нашей карте была обозначена едва заметной паутинкой. Нас заманили сюда густая, сочная зелень разнотравья и тенистая, прохладная дубрава.
После длительного перехода мы решили сделать привал. Остановились на берегу маленькой, поросшей осокой и кувшинками речушки, которая на нашей карте была обозначена едва заметной паутинкой. Нас заманили сюда густая, сочная зелень разнотравья и тенистая, прохладная дубрава.
Иван Иванович ловко сбросил с плеч рюкзак, прицепил его на сук ширококронного дуба, быстро снарядил удочки и, спустившись под кручу, в тень, занялся рыбалкой. Константин Петрович Дашкин – летчик, подполковник – хотел было развернуть спиннинг, но, взглянув на заросли кувшинок, с досадой вздохнул: «Эх, первая кувшинка моя». Дашкин подошел к Ивану Ивановичу, взял у него запасную удочку, пристроился рядом. Клев был хороший, и вскоре мы ели ароматную, пахнувшую дымком, наваристую уху.
После обеда Иван Иванович уснул мертвецким сном на разостланной под дубом плащ-накидке, а мы с Константином Петровичем решили побродить по пойме, набрать полевых цветов, которых здесь было очень много.
Ходили мы, рвали цветы, вспоминали разные истории.
Константин Петрович набрал большой букет и, оглядывая его, сказал:
– Вот такой же букет подарила мне жена, когда я окончил летную школу – прямо возле аэродрома нарвала… Эх, Ирина, Ирина… Как сейчас перед глазами стоит.
Константин Петрович, идя по луговому ковру, изредка нагибался, чтобы сорвать самый яркий цветок.
– Давно это было. Лет двадцать назад, – говорил между тем Дашкин. – Но никогда не забуду то время… Ирина подошла ко мне, в ее руке была ромашка, точь-в-точь вот такая. – Дашкин выбрал самую крупную ромашку, осторожно высвободил ее из букета. – И что интересно: на ромашке Ирина гадала, а лепестки, словно маленькие пропеллеры, кружились возле моих ног…
Предчувствуя, что Дашкин расскажет о чем-то интересном, я спросил:
– Наверное, нагадала что-нибудь неприятное?
– Вздор, эти гаданья, – возразил Дашкин. – Да и Ирина, конечно, вряд ли в них верила. Девичий обычай. Помните: любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет…
Константин Петрович взглянул на букет. На лепестках ромашек еще блестели бисеринки росы.
– Я стал командиром. Рада была Иринка, начиналась новая жизнь. Ну вот и гадала – не разлучимся ли? А тут грянула война…
Дашкин остановился, присел на бугорок, предложил сесть мне.
– Ну что, перекурим? – спросил Дашкин, вынимая пачку «Беломора».
– Не против.
– Скверная привычка – это курево, а поди ж ты, не бросишь, – заметил Константин Петрович, прикуривая.
– Можно бросить,– возразил я.– Есть же люди, такими курильщиками были, а бросили – и ничего.
– То люди, а то моя персона,– улыбнулся Дашкин. – Да, о чем же мы говорили?
– Грянула война…
– Ах, да. Мы стояли тогда под Сосновкой. Как только началась война, нас перебросили поближе к границе. Ну а жена в Сосновке осталась. Воевали мы с «мессерами» хоть и неплохо, но, как сами понимаете, пришлось нам в первые месяцы туго. Отступали. И нас постепенно пересаживали па тыловые аэродромы. Как-то сообщили: фашисты Сосновку захватили. А что с Ириной – я, конечно, не знал… Прислала письмо перед этим тревожное, собиралась выехать к моим родным… Коли б одна была – воевать бы пошла. Она у меня бедовая. Но она осталась… беременная…
Дашкин встал, прошелся но пахучей траве. Шаги у него большие. Ходит, жадно курит, о чем-то размышляет.
Солнце уже поднялось чуть ли не в зенит, начало припекать. Пора было возвращаться на берег речушки. И я предложил Дашкину пойти в дубраву.
– Конечно, переживал я, все думал, что с ней,– рассказывал Дашкин. – Написал письмо родным. И так ждал ответную весточку – словно век прошел. «Нет, не приехала»,– пишут. Тут еще больше меня разные мрачные думы одолевать стали. Значит, эвакуироваться не успела. Ну, что ж, семья семьей, а воевать надо,– продолжал Дашкин.– Обстановка под Москвой была суровая. Помните, танки лезли напролом, самолеты даже деревни не щадили. Очень тяжелое было время.
Константин Петрович остановился, сорвал цветок, положил в букет.
– Выдохся все же немец. Остановился, потом и наутек пошел. Здорово его тряхнули под Москвой-то, помните, на сотни километров отбросили.
– Вы тоже, наверное, много летали? – спросил я Дашкина, чтобы поддержать разговор.
– Еще бы! День и ночь. Без устали и отдыха били гадов. Холода стояли сильные, но моторы не остывали. Вот как приходилось работать. Зимой сорок первого и Сосновку освободили.
– Вы, конечно, сразу же туда,– вставил я.
– Мне посчастливилось. Приказали всем полком в Сосновку перебазироваться, чтобы сподручнее немцев бить было.– Константин Петрович сделал паузу, потом спросил: – Что-то наш Иван Иванович поделывает?
– Колдует над поплавками, наверное,– ответил я.
– Мастер,– коротко бросил Дашкин и продолжал: – Так вот. Прилетели мы в Сосновку. Бегу к командиру. А тот не дал мне и рта открыть – ступай, говорит, узнай, что с твоей-то. Дома начсостава в стороне стояли. Бегу туда – ног под собой не чувствую. Смотрю, дом, в котором жила Ирина, в развалинах. Метнулся в соседний – пустой. Постучал в третий – вышла из подъезда старушка. Хочу спросить – не могу, язык отнялся. А старушка взглянула на меня, присмотрелась подслеповатыми глазами и говорит: «Да это, никак, Коська Дашкин».– «Да, да, – говорю, – Дашкин я, не знаете, бабуся, где…»
– Эвакуировалась, эвакуировалась Ирина-то, бог дал, успела, чай. Больно уж лютовал фашист-то. А небось и в деревеньке приютилась. Бомбил, проклятущий, ох как бомбил. А в этих домах-то сам квартировал…
– Отлегло на сердце-то? – спросил я Дашкина.
– А то как же! Значит, уехала, может быть, а тыл. Пришел к командиру, доложил. Он тоже, конечно, обрадовался. И сразу с места в карьер – задание мне. «Ты,– говорит, – сейчас безлошадный, значит, без самолета. Садись-ка, брат, на полуторку и вместе со старшиной Скрипкиным – в город. Хлеб привези. Да смотри, не задерживайся. Хлеб нужен вот как». Командир провел по горлу ребром ладони. Заправились. Поехали. Выбрались па проселок, дорога снегом занесена. Мороз – градусов тридцать. Едешь, откроешь кабину, высунешься за окно – сразу нос прихватывает. А тут, как на грех, еще поземка началась – сначала поползла этакими волчьими хвостами, а потом так завернула, что за десять метров ничего не видно. Едем мы со старшиной, разговариваем о войне, советуемся, как скорее с немцем покончить. И вдруг старшина так нажал на тормоз, что я даже стукнулся лбом о ветровое стекло. «Смотри,– говорит,– лейтенант, человек…» – «Мало ли людей встречается на дороге,– отвечаю, – но разве нужно так тормозить?» – «Постой, лейтенант»,– возразил старшина и выскочил из кабины. Он рысцой пробежал несколько метров, наклонился над человеком. Тут же бегом вернулся к машине и еле выговорил: «Представляешь, лейтенант, женщина. Живая…» – «Ранена?» – спросил я. «Кажется».– «Подгоняй машину»,– говорю ему. Старшина подъехал поближе, и мы подняли женщину в кабину. Женщина была одета в ветхое осеннее пальто, лицо ее было укутано шерстяной шалью, из-под которой, словно два небольших тлеющих огонька, светились карие глаза. В этот миг мне показалось, что когда-то я видел эти глаза. Женщина стонала, и я крикнул старшине, влезая в кузов: «Давай, гони!» Машина рванулась вперед, шофер старался изо всех сил. Полуторка подпрыгивала на поворотах, отчего женщина кричала еще громче. Но вот старшина остановил машину, высунулся в окошко, выпалил: «Она, лейтенант, кажется, родит…» – «Вот это случай!» – воскликнул я. Повитухой мне быть не приходилось, а тут на тебе – человек на свет появляется, да еще при тридцатиградусном морозе. «Что делать-то будем, старшина?» – спросил шофера. Старшина был человек бывалый. Я полагался на его житейский опыт. «Ну что же будем делать?» – спросил я вновь. «Снимай куртку, лейтенант, надевай шинель!» – не проговорил, а скомандовал мне старшина и опрометью кинулся в кабину, в которой вскоре раздался детский пронзительный плач. «Парень!» – крикнул старшина, завертывая новорожденного в мою теплую меховую куртку. На лице шофера расплылась довольная улыбка. Осторожно положил ребенка, и машина снова побежала по занесенной снегом дороге.
– Ну и что же дальше? – нетерпеливо спросил я Дашкина.
– Когда мы приехали в город, старшина сразу же к пехотинцам, в санчасть подкатил, чтобы сдать женщину и малыша, а я побежал хлебные дела проталкивать. Через час старшина прибыл. Хмурый, смотрю, в землю глядит. Я к нему. А он молчит, варежкой слезу смахивает. «Что случилось?» – спрашиваю. «Скончалась женщина-то, кровью изошла…» – «А он как, ребенок?» – «Успела сказать несколько слов. Я не разобрал, кажется, Даньковым просила записать… Отца-то, говорит, не то Колей, не то Костей звали… Ну доктор в какую-то карточку и записал все это. А имя мы ему хорошее придумали, – просветлел шофер. – Романом окрестили, Ромашкой, значит, звать будут». Мы со старшиной грузили хлеб. Шофер то и дело поглядывал на меня, несколько раз повторял: «Может быть, к себе в полк возьмем, Ромашку-то? А, лейтенант? Ведь наш человек-то. Наш… Девчата из санчасти приглядят поди…» Признаться, мне тоже хотелось взять Романа с собой, условия у нашего брата была хорошие. Подумал я, подумал и говорю старшине: «Давай заберем». Подъехали к санчасти. Спрашиваем, где малыш, а его доктор специальной маминой уже отправил в тыл. Вот так мы и потеряли своего Романа, и на сердце сразу как-то тяжело стало, будто… родного сына потерял.
– Жаль. Вы, Константин Петрович, передоверялись старшине, – упрекнул я Дашкина.
– Когда мы рассказали об этом командиру, он нас обоих чуть ли не под штрафной яодвел. «Надо было, – говорит, – до конца дело довести». Потом упрекал меня яри всяком удобном случае: «Вот, дескать, какой у нас гуманный человек Константин Петрович Дашкин!» А мне-то, думаете, легко было?
Мы с Дашкиным подошли к привалу. К нашему немалому удивлению, Иван Иванович все еще спал, как лег на спину, так, очевидно, и не повернулся ни разу: уморил его длительный переход. Мы не стали будить, сели в сторонке, начали перебирать цветы.
Константин Петрович, устроившись на старом пеньке, закурил. Пуская густые струйки дыма, он, как бы между прочим, спросил:
– А вы воевали?
– Довелось.
– Где закончили?
– В Прибалтике.
– Ну а я в Берлине… Весь Союз облетал вдоль и поперек, а теперь вот в Москве служу. Работа нервная, хлопотливая. Инспектор я.
– И тут, наверное, много интересных людей встречается? – подзадорил я Дашкина.
– Бывает, брат, бывает, – неопределенно ответил он, перевязывая букет бечевкой.
Константин Петрович поднялся, положил букет в рюкзак, продолжал:
– Прилетели мы вот уже в этом году в одно училище, проверять, как молодежь летает. Пришли на аэродром. Работа кипит. Курсанты, как и мы когда-то, волнуются: как-никак путевку в небо получают, а это – непростое дело. Самолеты-то теперь не те, на которых нас учили, быстрее и выше летают и, конечно, сложнее управлять ими. А курсант есть курсант: в руках еще твердости настоящей-то нет. Вы, наверное, представляете, как проверяют курсантов в полете? Выделяют спарку, двухместный истребитель, управляемый одновременно из двух кабин. В одну садится курсант, в другую – проверяющий. Ну вот. Мой друг майор Бородавкин взял да и полетел с одним. А мы с командиром полка с земли за ними наблюдали. Хорошо работал курсант, всю положенную программу отлично выполнил. «Вот какого молодца нам детдом вырастил, – с восхищением произнес командир полка, когда самолет возвратился на аэродром. – Крылатый парень-то! А?» Я ответил: «Молодец, паренек». И вот курсант прибыл на капе, доложил: «Курсант Дашкин полетное задание выполнил…» Представляешь, – оживился Константин Петрович. – В эти минуты во мне будто все сразу перевернулось. Передо мной стоял статный военный, с волевым, несколько усталым лицом, и на меня смотрели карие глаза, точь-в-точь такие, какие я видел под теплой домотканой шалью на зимней дороге сорок второго года. Ну а нос, губы, волосы… «Дашкин?» – спрашиваю. «Так точно!» – «Роман?» – «Он, товарищ подполковник!» – «Константинович?» ~ «Точно так, товарищ…» Теперь понимаете мое состояние! На какую-то долю секунды я буквально онемел, а потом шагнул ему навстречу, обнял. «Дорогой мой, Ромашка… Сын…» – прошептал я и опустился на стул. «Неужели вы… ты… отец?» – еле вымолвил Роман. «Двадцать лет о нем думал, нашел…» – тихо сказал я всем, кто был на капе, и прижал Романа к груди.
Константин Петрович встал, подошел ко мне:
– Вот какие истории, брат, бывают на свете.
– Значит, Ромашка – твой сын? – спросил я, ошеломленный такой неожиданностью.
– Да, мой сын, Роман Константинович Дашкин, воспитанник Свердловского детского дома. Оказывается, все верно записали тогда в санчасти, Ирина еще в сознании была… Потом мы с Романом говорили целую ночь, и все о матери. Я ее карточку показал. Он рассмотрел каждую черточку на лице, а потом сказал: «Давай на могилу съездим, папа. Поклонимся ей за все». Съездили. Нашли. Убрали цветами. Поставили памятник. Пусть все знают, какая хорошая была Иринка, подарившая мне Ромашку.
– А где же Ромашка теперь? – спросил я.
Дашкин посмотрел на букет, ответил:
– Высоко пошел мой Ромашка. На реактивном парень летает, на сверхзвуковом. Может быть, космонавтом будет.
Константин Петрович сделал несколько шагов по поляне, подошел к Ивану Ивановичу, улыбнулся:
– Не слышишь, старина. А ведь в судьбе Ромашки принимал участке и ты, Иван Иванович Скрипкин, мои хороший боевой друг.