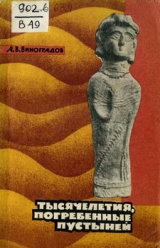
Текст книги "Тысячелетия, погребенные пустыней"
Автор книги: Александр Виноградов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Прежде чем закончить повествование о центральном здании, нужно рассказать еще об одном очень вероятном предположении. Мы уже говорили, что разделение его на два одинаковых комплекса было осуществлением заранее продуманного строгого плана. Исследователи должны были объяснить, почему обычная для погребальных памятников крестообразная планировка была осложнена здесь делением здания именно на два совершенно изолированных комплекса.
Обычно всякий храм, в том числе и храм погребального культа, связан с одним или несколькими божествами – покровителями. Какому божеству был посвящен этот древнехорезмийский храм? Изучение находок и сама планировка показали, что в храме в одинаковой мере могли почитаться культы двух важнейших божеств – солнца и водной стихии. Мы уже говорили, что среди найденных на Кой-Крылган-кале статуэток преобладают женские изображения, а среди последних – изображения Анахиты – богини водной стихии, с которой было связано благосостояние, благополучие хорезмийцев. Изображения мужчин встречались редко, однако Анахитам, пожалуй, не уступали количественно фигурки коней. В, связи с этими фигурками необходимо рассказать еще об одном божестве, культ которого необычайно широко был распространен и почитаем в Хорезме. Этого бога звали Сиявуш или Сиявахш. В более позднем среднеазиатском эпосе Шах-наме он выступает в образе юного и прекрасного всадника в золотом шлеме и на черном коне. По преданию, Сиявуш – сын царя Кей-Кавуса и прекрасной девушки, найденной дружинниками царя в лесу и умершей при рождении сына. Сиявуша преследует мачеха, и он, после ряда военных приключений, попадает в страну, управляемую царем Афрасиабом, где женится на его дочери. Однако и здесь ему сопутствуют неудачи: он погибает в результате предательства. Спасшийся сын его, Кей-Хосров, став взрослым, возвращается, чтобы отомстить за отца.
Сиявуш, так же как и Анахита, пришел к хорезмий-цам античного времени из далекого прошлого, претерпев при этом много изменений. Однако даже в средневековом эпосе (смерть матери при рождении Сиявуша, возвращение Кей-Хосрова после смерти отца) отчетливо виден первоначальный смысл этого культа. Сиявуш – бог умирающей и воскресающей природы. Двойники его – древнеегипетский Озирис и древнегреческий Адонис.
Образ Сиявуша – солнечного бога-всадника – нередко встречается в произведениях древнехорезмийского искусства. А если учесть, что в народных верованиях образ Сиявуша представлялся не только в виде всадника, но и в виде своего постоянного спутника – коня, станет ясным, кого изображают многочисленные фигурки коней из Кой-Крылган-калы. Так обосновывалось предположение о погребальном храме двух божеств – богини плодородия и водной стихии и бога солнца, умирающей и воскресающей природы, Анахиты и Сиявуша.
Были сделаны интересные попытки «географического размещения» этих божеств в пределах центрального здания: исследователи захотели узнать, какой из двух комплексов помещений был посвящен Анахите и какой Сиявушу. Хотя в большинстве случаев точное первоначальное положение терракотовых статуэток и не было известно, все же Ю. А. Рапопорту как будто удалось проследить, что большая часть женских изображений относилась к западной части памятника. К тому же в одном из помещений этого комплекса был вырыт ритуальный колодец (Анахита – богиня водной стихии).
С другой стороны, восточная половина погребального здания, окна помещений которой смотрели на восток и на юг, как будто бы больше соответствовала культу солнечного божества. Так возникла гипотеза о посвящении западного комплекса Анахите, а восточного – Сиявушу.
Если верно предположение о том, что центральное здание – царский мавзолей (а это очень вероятно, судя по масштабам всего сооружения), то есть основания предположить и другое: началу строительства предшествовала смерть царицы; ее прах был поставлен в западной половине. Царь после смерти был сожжен на центральной площадке, а останки его захоронены в восточном комплексе.
Строго говоря, все эти предположения (за исключением того, что Кой-Крылган-кала – храм погребального культа) не могут считаться бесспорными; не исключено, что все, о чем здесь рассказано, происходило несколько иначе. Однако сейчас, на основании всех известных исследователям материалов, эти предположения кажутся наиболее вероятными.
Погребальная постройка была центральной и важнейшей частью храма, своего рода фокусом всего сооружения. В целом же погребальный храм имел значительно более сложную структуру, включая большое число сооружений различного назначения. Древневосточный храм – это обычно не только религиозный, но и крупный политический, научный и хозяйственный центр. А если учесть сложную и мощную систему обороны, то можно добавить, что Кой-Крылган-кала еще и сильная хорезмийская крепость.
Почему место погребения, даже царского, требовало такой колоссальной постройки, а особа царя даже после смерти – божеских почестей? Объясняется это тем, что в большинстве древневосточных государств, в том числе и в Хорезме, личность царя считалась священной и рассматривалась как воплощение 'божества. Обычно цари, кроме светской и политической власти, осуществляли и верховную религиозную власть.
Интересно, что «божественность» хорезмийских царей непосредственно связана с Сиявушем. По преданию, Сиявуш либо божественный предок, либо основатель династии царей древнего Кангюя. Царь Хорезма являлся одновременно и верховным жрецом.
Погребения царей и знатных лиц сопровождались множеством необходимых для загробной жизни вещей, сделанных из ценных пород дерева и камня и драгоценных металлов. Стоимость их достигала порой фантастических цифр. Однако ни постоянная вооруженная охрана, ни всевозможные ухищрения и «секреты» при маскировке погребений не спасали их от грабителей.
Религия требовала совершения в честь погребенных и их божественных покровителей, в данном случае Анахиты и Сиявуша, постоянных и необычайно сложных ритуальных церемоний. Для этого при храме состоял специальный штат жрецов – служителей заупокойного культа. Жрецы – «посредники» между богом и людьми – пользовались в государстве огромным влиянием. Все затрагивающие жизнь и благосостояние людей явления природы, такие, например, как бурные разливы рек, землетрясения, затмения, дождь и засуха, объяснялись вмешательством богов. Поэтому накопленные тысячелетиями объективные наблюдения явлений природы были тесно переплетены с религиозными представлениями. Но практические потребности вызывали дальнейшее совершенствование и развитие накопленных знаний. Особенно это относилось к математике и астрономии. Вначале их развитие было вызвано чисто хозяйственными нуждами: необходимо было спланировать обрабатываемый участок и определить его размеры, определить характер уклона местности, чтобы провести канал, подсчитать и записать в документах количество продуктов, знать время разлива рек и поливки полей, уметь ориентироваться в океане окружающих земледельческий оазис песков и т. п. Все накопленные таким образом наблюдения сосредоточивались в руках жрецов, в храмовых архивах. Здесь же были сделаны и первые попытки систематизации накопленных объективных знаний. Так возникли науки.
Многие из храмов были центрами астрономических наблюдений за движением планет и звезд. Создание систем календаря было одним из наиболее важных результатов регулярных наблюдений за небесными телами. Календарь был связан с циклом сельскохозяйственных работ. Предположение С. П. Толстова о том, что на Кой-Крылган-кале велись астрономические наблюдения, подтвердилось недавно новыми материалами. Сотрудники Хорезмской экспедиции М. М. Рожанская и М. Г. Воробьева и астроном, профессор И. Н. Веселовский, исследовавшие данные раскопок с астрономической точки зрения, установили, что планировка и архитектурные особенности центрального здания давали возможность проводить частичные наблюдения за определенными светилами (в первую очередь за Солнцем) на отдельных участках неба. Астрономических инструментов на Кой-Крылган-кале найдено не было, однако среди находок внимание исследователей привлекли обломки керамических колец и соответствующих им по диаметру дисков с отверстием в центре и небрежно нанесенными делениями по окружности. Было высказано предположение, что это либо детали устройств, имитирующих астрономические инструменты, либо самих инструментов типа простейшей астролябии.
Были проведены вычисления для каждого из прорезающих шестиметровую толщу стены и направленных вверх окон. Особенно интересными оказались результаты, полученные для среднего окна южной стороны здания: в IV–III вв. до н. э. через него можно было вести наблюдения за Фомальгаутом – звездой первой величины, очень почитаемой на Востоке в древности. Это в свою очередь помогло объяснить кажущуюся произвольность ориентировки здания. Ориентировка осей здания по линиям С-Ю и В-3 условна, на самом деле оси отклонены от этих направлений на 21°. Ученые установили, что закладка здания происходила в период гелиакического восхода звезды Фомальгаут [8]8
Гелиакический восход – момент появления звезды на восточной стороне неба на фоне утренней зари впервые в текущем году. Этот момент находится в зависимости от географической широты места. До гелиакического восхода в продолжение нескольких месяцев звезда бывает невидимой, находясь на дневном небе.
[Закрыть], причем главной осью оно было ориентировано на место восхода солнца (меняющееся в течение года), а перпендикулярной ей осью – на Фомальгаут. Расчеты показали, что такое взаиморасположение этих светил приходится на время около 400 г. до н. э.; в это же время были и наилучшие условия для наблюдения за Фомальгаутом из среднего окна южной стороны здания. Таким образом было подтверждено установленное ранее по археологическим материалам и даже уточнено время сооружения храма.

В этой храмовой кладовой хранились запасы масла, вина и зерна
Древние боги не были бескорыстными. Лишь обильные жертвоприношения и богатые дары могли обеспечить людям их расположение. Поэтому в древневосточных храмах обычно накапливались огромные богатства. Некоторым из них, особенно тем, в которых отправлялся культ главных или по каким-то причинам особо почитаемых богов, принадлежали обширные участки плодороднейших земель и тысячи возделывавших эти земли рабов. Множество рабов было занято и в храмовых мастерских. Хозяйственные документы, обнаруженные при раскопках некоторых храмов, сообщают об обильных запасах сельскохозяйственных и ремесленных продуктов, различной драгоценной утвари и рабах, поступавших ежегодно и от обширного храмового хозяйства, и от богатых жертвователей – царей, военачальников, знатных вельмож. На Кой-Крылган-кале не обнаружено хозяйственного архива, однако материалы раскопок многое рассказали о хозяйстве храма. Уже в раннем периоде жизни памятника появились первые комплексы помещений кольца. Судя по находкам в них, они не имели прямого отношения к погребальному культу. Это были, как уже говорилось, хозяйственные помещения. Здесь хранились многочисленные храмовые запасы, возможно жили обслуживавший персонал храма и рабы. В закромах и зерновых ямах лежало зерно, в огромных, врытых в землю сосудах – хумах хранилось вино и масло. Эти продукты поступали с окружавших Кой-Крылган-калу обширных храмовых земель. Построенный в кангюйское время мощный магистральный канал (шириной около 40 м) своими ответвлениями орошал поля и виноградники. Следы их сохранились здесь до сих пор; археологи обнаружили их с самолета и зафиксировали на аэрофотоснимках. Известно, какие основные сельскохозяйственные культуры возделывались в окрестностях Кой-Крылган-калы. При раскопках найдены зерна пшеницы и проса, косточки абрикосов, персиков, винограда, остатки кунжутных зерен.
* * *
Самые древние надписи на хорезмийском языке.
Самые ранние в Средней Азии росписи.
Самые ранние в Средней Азии оссуарии.
И обо всем этом рассказали одни развалины – Кой-Крылган-кала, «крепость погибших баранов». Не слишком ли много для одного памятника, даже такого монументального? И да и нет. Ведь каждый археологический памятник по сути дела уникален. В каждом археологи находят что-нибудь «самое»: самое раннее, самое большое или самое загадочное, в общем, что-нибудь самое интересное. В одном археологи находят что-то неожиданное, другой не дает того, что, по их расчетам, там должно быть. И это, последнее, порой не менее важно и интересно.
Чтобы понять до конца Кой-Крылган-калу, археологи не будут ждать, когда им встретится точно такое же сооружение. Да его и не будет. Но будущие раскопки на территории Хорезма, Средней Азии и всего древневосточного мира несомненно дадут новый материал для понимания этого замечательного памятника.
Глава третья
Трехбашенный дворец открывает свои тайны
Одна из глав широко известной книги С. П. Толстова «По следам древнехорезмийской цивилизации» называется «Сокровища трехбашенного замка». Она полностью посвящена Топрак-кале, замечательной древнехорезмийской крепости, первое, еще довоенное знакомство с которой закончилось многолетними ее раскопками. Годы работы на Топрак-кале, пожалуй, одни из самых интересных в жизни Хорезмской экспедиции. Большинство теперешних сотрудников экспедиции, археологов и этнографов, здесь впервые под руководством С. П. Толстова познакомились с полевой археологией. Тогда они были студентами младших курсов исторического факультета МГУ.

На двадцатипятиметровую высоту поднялась над пустыней громада трехбашенного замка Топрак-кала
«В ясный октябрьский вечер 1938 г., когда наша маленькая разведочная группа поднялась на стены кушанской крепости Аяз-кала 1, с шестидесятиметровой высоты пред нами открылась широкая панорама пройденного и предстоящего пути. И наряду со знакомыми силуэтами развалин на юге и на востоке, далеко на западе – за гладкой равниной бесплодных такыров, песков и солончаков, на горизонте возник контур огромных развалин, увенчанных на северном крае могучими очертаниями трехбашенной цитадели.
– Что это за крепость? – спросил я нашего проводника.
– Это Топрак-кала. Там нет ничего интересного, – был лаконичный ответ.
На следующий день наш караван подходил к «неинтересной крепости».
Так описывает С. П. Толстов свое первое знакомство с Топрак-калой. Караван подошел к крепости, и перед археологами на двадцатипятиметровую высоту поднялась громада трехбашенного замка. Наверху, на центральной площадке, они увидели полуразрушенные арки сводчатых помещений башен, сделанных из огромных квадратных сырцовых кирпичей. К замку примыкало большое городище, укрепленное высокими оборонительными стенами. Здесь, на развалинах жилых построек, археологи нашли десятки медных монет: «гигантский нумизматический кабинет», – писал впоследствии С. П. Толстов. А у южных ворот городища находилась большая россыпь обломков оссуариев – погребальных, керамических ящиков – костехранилищ, куда, согласно господствовавшему тогда в Хорезме зороастрийскому погребальному обряду, складывались очищенные птицами и ветром кости умерших.
«Можно было быть довольными разведкой. Уже первого ознакомления было достаточно, чтобы убедиться, что перед нами первоклассный памятник античной культуры Хорезма, сулящий исследователям поистине неисчерпаемые перспективы. И это впечатление не обмануло».
Начавшиеся в 1940 г. исследования Топрак-калы были прерваны Великой Отечественной войной. Многие археологи, в том числе и начальник экспедиции С. П. Толстов, ушли на фронт. Летом 1945 г. раскопки возобновились, а с 1946 по 1950 г. крепость стала основным объектом раойт экспедиции.
О Топрак-кале написаны десятки статей – научных и популярных, в академических изданиях, журналах и газетах. Но результаты раскопок крепости настолько разнообразны и интересны, что в этих статьях отражены лишь основные их итоги. В полный отчет о раскопках, а он в ближайшие годы будет подготовлен, войдут разделы, написанные не только археологами и историками, но и архитекторами, искусствоведами, реставраторами, химиками, биологами.
Необычайно интересна архитектура памятника, являющегося замечательным образцом градостроительного и фортификационного искусства античного Хорезма Мощный цоколь (представляющий собой систему перекрещивающихся глинобитных стен, пространство между которыми заполнено кирпичной кладкой не на растворе, а на чистом сухом песке) поднял на двенадцатиметровую высоту центральную площадку замка. Здесь в два этажа располагались жилые, хозяйственные и парадные помещения дворца, перекрытые мощны ми, так называемыми «коробовыми» сводами. Световые люки в перекрытиях и открытые дворики куда выхоли двери сразу нескольких таких помещений, давали свет. Был, по-видимому, и третий этаж, более легкий с решетчатыми стенами из сырцового кирпича.
Три грандиозные башни с жилыми помещениями внутри, вздымавшиеся по крайней мере на тридцатиметровую высоту (и теперь, спустя полторы с лишним тысячи лет после постройки, их высота около 25 м), господствовали над цитаделью, городом и окружающей равниной.

Десятки парадных, жилых и хозяйственных помещений были раскопаны на центральной площади дворца
Построенная в III в. крепость до 305 года была резиденцией правителей страны хорезмшахов. Покинутый хорезмшахским двором замок (город жил до V века) начал разрушаться. Обрушивались своды, падали размытые дождями и иссеченные песчаными бурями стены. Когда в замок пришли археологи, он казался огромным глиняным монолитом. Метр за метром – обломки кирпичей, рухнувшие своды, глиняные натеки, образовавшиеся после дождей, – препарировали глину археологи, разгадывая тайны дворца. И им открывались такие подробности его истории, которые, казалось, должны были быть навеки погребены под многометровым слоем разрушений. Вот один из примеров подобного рода открытий. Накапливавшиеся из года в год наблюдения над особенностями строительных приемов и архитектуры дворца позволили С. П. Толстову установить, что он строился в рекордно короткий срок. Более того, стало ясным, что план дворца в ходе строительства изменился – первоначально предполагалось построить лишь большое квадратное дворцовое здание. Оно было уже сооружено, украшено снаружи вертикальными выступами-пилястрами и оштукатурено, когда возникла идея возведения трех величественных башен.

Построенный в III в., дворец до 305 г. был резиденцией хорезмшахов. Один из вариантов реконструкции дворца
И еще одна деталь: срок между постройкой дворца и возведением башен был очень коротким. Штукатурка стены, к которой была пристроена южная башня, не пережила в открытом виде ни одной зимы.
Можно было бы рассказать полную сомнения и самых замысловатых догадок историю поисков входа во дворец. Только в конце раскопок, в 1950 г., когда применение ленточных транспортеров позволило начать расчистку засыпанных толстым (до 14 м) слоем песка внутренних дворов, было установлено, что входили во дворец через большой пандус, подводивший к восточной стене цитадели.
Почему же так спешили с постройкой дворца? Наиболее вероятное объяснение этому давала политическая обстановка того времени в Средней Азии и Хорезме.
Начало постройки Кой-Крылган-калы отделено от времени Топрак-калы периодом почти в семь веков. Лишь помещения кольца величественного погребального храма дожили до времени сооружения трехбашенного замка. Этот период в истории Средней Азии заполнен бурными событиями: завоевательными войнами и борьбой против захватчиков, часто иноземных, созданием мощных рабовладельческих государств, объединявших силой оружия племена и народы и распадавшихся под напором более сильных завоевателей.
Мы уже говорили, что во время греко-македонского завоевания Средней Азии Хорезм сохранил свою независимость. После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) его огромная империя распалась. С середины III до конца II в. до н. э. значительная часть Средней Азии входила в состав греко-бактрийского царства. Однако это крупное рабовладельческое государство также не затронуло политической независимости Хорезма. Власть греко-бактрийских царей оказалась недолговечной; их государство погибло под ударами пришедших с северо-востока степных сакских племен. Все владения греко-бактрийских царей оказались скоро под властью саков. Возникла огромная и могущественная Кушанская держава. Территория ее выходила далеко за пределы Средней Азии.
Каким образом и когда подчинился Хорезм власти кушанских царей, письменные источники ничего не говорят. Но о том, что он потерял политическую независимость, рассказали монеты: в I–II в. н. э. монеты кушанских царей вытеснили полностью в Хорезме монеты местной чеканки. II и III вв. н. э. – кушанский период в истории Хорезма.
Это время дальнейшего развития рабовладельческих отношений и усиления противоречий между богатой аристократией и свободными еще общинниками. Постройки знатных и богатых резко выделяются своими размерами и сильными укреплениями из общей массы домов общинников. Вместо сильно укрепленных городов и поселений появляются неукрепленные деревни с отдельно стоящими большими домами. Их защиту берет на себя уже не община, а государство: строится система сильно укрепленных пограничных крепостей с военными гарнизонами в них.
В кушанский период происходит оживление торговых связей Средней Азии с многими отдаленными странами: Китаем и Индией, Сирией и Римом. Через Хорезм проходят торговые пути в Восточную Европу.
Вхождение Средней Азии в состав государств с очень широкими границами и постоянные торговые и культурные связи с различными странами усилили влияние иноземных культур, часто более высокоразвитых, на культуру и искусство народов Средней Азии. Слияние и переплетение местных, среднеазиатских, греческих, иранских и индийских форм культуры породило новые, очень своеобразные формы культуры и искусства.
Большое многообразие в связи с этим наблюдалось и в религиозных верованиях. Вместе с зороастрийскими и другими древними местными божествами и героями в Средней Азии уживались культы некоторых эллинских богов. Широко распространился буддизм.
Кушанское государство, политический центр которого с конца I в. находился в северо-западной Индии, просуществовало до конца IV в. и погибло под ударами варварских кочевых племен так называемых «белых гуннов». Хорезм, судя опять-таки по монетам, отделился раньше, очевидно еще в III в. В начале III в. снова появляются монеты хорезмийского чекана – с портретом царя и традиционным «хорезмийским всадником» на обороте. Хорезмшах по имени Вазамар, правивший в первой половине III в. и чеканивший монеты с изображением длиннобородого царя в высоком шлеме в виде орла, по-видимому, уже окончательно порывает с зависимостью от кушанов. Тогда-то и потребовался грандиозный и роскошный дворец – резиденция правителей независимого и могущественного государства Хорезм, величию которого должно было соответствовать величие дворца.

Хозяйственные документы на дереве и на коже из архива Топрак-калы
Долго можно было бы рассказывать о находках, сделанных археологами во время раскопок дворца. Тысячи обломков (а часто и целые сосуды) великолепной тонковыделанной керамики, обрывки тканей – шерстяных, шелковых и бумажных, части кожаной обуви, косточки плодовых растений и зерна злаков, кости домашних и диких животных – все это и многое другое рассказало ученым об образе жизни, хозяйстве и ремеслах не только обитателей дворца и города, но и большой земледельческой округи… Среди находок имеются и золотые украшения, и ожерелье из 300 бус из стекла, пасты, янтаря, кораллов, раковин, и железный серп. Находка железной «чешуи» от панциря и, главное, открытие комплекса помещений – мастерской по производству знаменитых хорезмийских луков – подтверждают сведения о высоком уровне военного дела в Хорезме.

Хозяйственные документы на дереве и на коже из архива Топрак-калы
Есть находки, о которых хочется сказать особо. Найти архив древних письменных документов мечтают многие из археологов. Сбываются эти мечты чрезвычайно редко. Археологам-хорезмийцам посчастливилось: одна из важнейших находок из Топрак-калы – это дворцовый хозяйственный архив. Документы, написанные на древнехорезмийском языке, найдены в четырех помещениях юго-восточной части дворца. Все они попали сюда из располагавшегося на втором этаже архива. Всего было найдено около сотни документов, написанных черной тушью на деревянных дощечках и на кожаных свитках. Документы на дереве, а их всего восемнадцать, очень хорошо сохранились. Восемь крупных обрывков сохранили написанные тушью строки непосредственно на коже; остальные уцелели лишь в виде отпечатков на глине. Хотя документы полностью еще не прочитаны, характер их уже определен. Это хозяйственные документы дворцового архива: списки лиц, подлежащих налоговому обложению, и сводные документы, подводящие итоги поступлениям в хорезмшахскую казну за определенный период.
Три из найденных документов имели точную дату – 207, 231 и 232 гг., но… неизвестной эры. Кропотливая исследовательская работа, проведенная С. П. Толстовым, показала, что начало этой, применявшейся хорез-мийцами эры, может быть отнесено к периоду между 69 и 78 гг. н. э. А из известных нам летосчислении на этот период приходится начало только одной эры – индийской «эры Шака». Употребление хорезмийцами индийского летосчисления не вызвало удивления: ведь Хорезм в течение целого века входил в состав индийско-среднеазиатского Кушанского государства и, естественно, оказался под очень сильным воздействием индийской культуры. Датированные документы имели ценность не только для истории Хорезма. Они вместе с найденными на Топрак-кале монетами дали начало цепочке хронологических выкладок, важных для решения некоторых вопросов истории Кушанского государства в целом.
Но недаром Топрак-калу называют музеем изобразительных искусств античного Хорезма. Главные находки во дворце хорезмшахов – это скульптура и живопись.
* * *
– По-о-дъем!
В большом палаточном лагере, раскинувшемся на такыре у развалин огромной крепости, тишина. Лишь от кухни, заметной по легкому голубому дымку, доносится осторожное позвякивание кружек и кастрюлек. Трудно дежурному. Сейчас половина шестого утра, самый сладкий сон. Особенно, если учитывать, что вчера в первом часу ночи с южной башни еще слышались звуки аккордеона, песни и смех. Ничего не поделаешь: добрая половина экспедиции – студенты.
– По-о-дъем! – надрывается дежурный. В шесть – выход на работу; за полчаса надо помыться и позавтракать. Но главное сейчас – встать. Вылезти из теплого спального мешка прямо в осеннее, довольно прохладное утро не так-то просто.
Дежурный меняет тактику. Теперь он заходит в палатки и, кутаясь в ватную, стеганую телогрейку, наигранно бодрым голосом рассказывает о прелестном утре, о вкуснейшем завтраке. Мешки начинают шевелиться, а из одного даже идет папиросный дым; так, рискуя заживо сгореть (из застегнутого на все пуговицы спального мешка не так-то легко быстро выбраться), начинает новый день один из заядлых курильщиков.
Следующий этап лагерного подъема еще более энергичный: алюминиевая раскладушка приподнимается за один край и невидимая в мешке фигура скатывается прямо на землю. Ппоробуй, не встань!
Сергей Павлович уже позавтракал и сейчас, пуская через усы дым папиросы и ехидно улыбаясь, смотрит, как двое опоздавших стараются за считанные секунды до выхода на работу проглотить по кружке обжигающе горячего кофе.
На крутых тропинках, ведущих по обе стороны северо-западной башни на центральную площадку, видны две цепочки людей: слева – сотрудники экспедиции, справа – рабочие, двигающиеся потихоньку от своего расположенного чуть поодаль лагеря. Начинается новый рабочий день.
Ожили бесчисленные комнаты и переходы, за замком потянулся длинный шлейф пыли – заработали транспортеры в восточном дворике. Часам к десяти утренняя прохлада остается лишь приятным воспоминанием. Кызылкумское солнце припекает не на шутку. Стараешься найти работу в тени стен. Но стены невысоки, а солнце прямо над головой. Наиболее предусмотрительные из раскопщиков весь свой день планируют по солнцу, вернее по тени, передвигаясь вслед за ней по комнате.
Лежа на боку – иначе устает спина – на нагретой солнцем земле разбираешь ножом начинку комнаты. Из-под лезвия отлетают куски обмазки и глиняных натеков, постепенно обнажаются лежащие в беспорядке кирпичи. Вот вместе с серой глиной отскакивают, рассыпаясь мелкой крошкой, кусочки белой алебастровой обмазки. Но не все они белые. Вот коричневый обломочек, а тут ярко-красный… Внимание, роспись!
…Округлившиеся глаза тигра пристально смотрят с обломка штукатурки. Видна лишь голова животного, но по раздувшимся от напряжения ноздрям, можно предположить, что он находится в напряженной, готовой к прыжку позе…

Глаза тигра пристально смотрят с обломка штукатурки
…Женщина склонилась к арфе. На лице легкая улыбка. Изящным движением пальцев полной руки с браслетом она перебирает струны. Характер изображения совсем иной. Здесь нет ярких и пестрых красок. Выразительность достигнута тонкими линиями и игрой полутонов.

'Червонная дама'. Фрагмент росписи
Сборщица фруктов, гирлянды плодов, освещенные солнечными лучами, склонившаяся в раздумье мужская фигура, цветы лилии, ириса, лепестки роз…
Росписей много. Десятки больших кусков и сотни мелких. Цветные их репродукции опубликованы в книгах и статьях С. П. Толстова, а часть подлинников можно видеть в ленинградском Музее антропологии и этнографии, и в Эрмитаже.
Трудно рассказать, какие тяжелые недели выпадали на долю тех раскопщиков Топрак-калы, которые находили росписи. А редко кто их не находил, ведь художники расписали почти все помещения дворца. Хорошо бы росписи были на стенах. Пускай не полностью, кусками. Судить о композиции, о сюжетах росписей можно было бы с большей уверенностью, да и с расчисткой было бы легче.
На Топрак-кале все это было не так.
В заброшенных помещениях обычно первым обрушивался свод. Десятки тяжелых сырцовых кирпичей падали вниз, пробивая и коробя глиняную обмазку пола. Затем начиналось разрушение стен. Кусками отходила и рассыпалась, падая, саманная штукатурка с росписью. Иногда, подмытый водой и растрескавшийся на солнце, отрывался от стены большой кусок с частью кирпичной кладки. Хорошо, если, проделав замысловатую траекторию на засыпанном кирпичами свода полу, он ложился вверх оштукатуренной и расписанной стороной. Разбирая завал, археолог легко найдет ее. Расчистить роспись от глины не так сложно, хотя и необычайно трудоемко. Но что делать, если кусок стены с росписью лег лицевой стороной вниз? Конечно, и такой обломок росписи не пропадет, будет извлечен и открыт, но как усложняется работа археолога!
Роспись была нанесена по тонкому слою алебастровой подгрунтовки, покрывающему глиняную штукатурку. Алебастр уничтожал неровности, делал стену гладкой и служил одновременно фоном для росписей.








