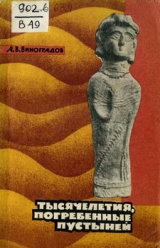
Текст книги "Тысячелетия, погребенные пустыней"
Автор книги: Александр Виноградов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
На крупных, хорошо сохранившихся кельтеминарских стоянках можно найти сотни орудий, не считая огромного количества отходов – кремневых отщепов и обломков. Назначение многих из них определить легко: очень уж характерная у них форма. Не спутаешь ни с чем наконечники стрел, почти всегда выразительны кремневые проколки, однообразны большие серии скребков – орудий для обработки шкур. Функции многих орудий были определены по аналогичным формам кремневых изделий у некоторых, сохранивших первобытную технику современных племен. Еще сравнительно недавно исследователь мог наблюдать работу, выполняемую этими орудиями у коренного населения Австралии. Однако о назначении некоторых изделий, в том числе и встречающихся довольно часто, еще и сейчас можно только высказывать предположения. В специальных археологических работах вместе с такими определениями, как «топор», «тесло», «наконечник», «сверло», можно встретить и другие: «ножевидная пластина с выемками», «пластина с ретушью по краю» и т. п. В археологическом описании нельзя обойтись без классификации, и, не зная функционального назначения изделий, археолог классифицирует их по каким-то характерным признакам формы или техники обработки.
За последние годы исследователями выработана и совершенствуется новая интересная методика определения функций каменных орудий – по следам сработанности на них. Какой бы твердой ни была порода, из которой орудие изготовлено, и какой бы плотности ни был обрабатываемый им материал, на постоянно употреблявшемся орудии можно найти следы сработанности. Правда, они обычно настолько малоощутимы, что обнаружить их можно только с помощью микроскопа или сильной лупы. Это пучки тонких царапин, идущих параллельно, под углом или перпендикулярно рабочему краю. Самое важное заключается в том, что характер этих царапинок, их направление и расположение разные в зависимости от того, что делали орудием: перерезали пучки травы, скоблили шкуру, резали кость или сверлили отверстие в бирюзовой бусине. Короче говоря, изучение их позволяет определить, что делали орудием, каковы его функции. Насколько это важно для изучения хозяйства неолитических племен, объяснять не приходится.
Кельтеминарцы, как мы уже говорили, селились по берегам дельты и близ внутридельтовых возвышенностей. Кругом вода, заросли, песок. Песчаные и глинистые водные отложения достигают здесь многих десятков метров. Лишь кое-где на такырах можно встретить небольшие скопления мелких, сильно окатанных водой разноцветных галек да обломки плитняка-песчаника. Если не было поблизости хорошего материала, неолитические люди могли использовать для изготовления каменных орудий и гальку. Мы знаем много подобных примеров.
Но находки на кельтеминарских стоянках совершенно явно свидетельствуют, что галька здесь была малоупотребительна. Кельтеминарцы пользовались хорошим кремнем – белым или красновато-коричневым. Нуклеусы встречаются очень крупные; такие из гальки не сделаешь. Долгое время об источниках получения этого кремня можно было только предполагать. Давно уже археологи посматривали на Султануиздаг, невысокий зубчатый контур которого маячил на горизонте. Может быть там?
Как это часто бывает, мастерскую-каменоломню Бурлы 3 (с нее мы начали наш рассказ) обнаружили совершенно случайно, во время небольшой разведочной поездки.
Люди каменного века знали много способов получения пригодного для обработки кремня.
В некоторых районах пласты и крупные желваки кремня выходят прямо на поверхность. Здесь их и раскалывали, потом обтесывали, приготовляя различные заготовки. Мы уже говорили об использовании кремневой гальки там, где не было хороших запасов кремня.
Но уже в глубокой древности человек в поисках высококачественного кремня спустился под землю. Небольшой овальный холмик на возвышенном плато, обрывающемся в сторону древней дельты, снабжал в течение многих веков всю округу высококачественным кремнем – халцедоном. Включения кремня в виде прослоек и крупных желваков образовались в щелях, трещинах и пустотах древних мраморов. Сначала кремень отрабатывался с поверхности, затем, когда запасы его здесь иссякли, человек проник в глубь холма. На вершине холма образовалась огромная корытообразная выработка длиной свыше 30 и шириной до 13 ж. Глубина этого карьера была не менее 10 м. Прослойки кремня уходили в западную стенку карьера, и, идя по их следам, древние горняки прорубили в западном направлении длинную (12 м) штольню. В конце ее мощность кремневых прослоек, очевидно, увеличилась, и штольня была несколько расширена в стороны и вверх. Позднее плиты, образовывавшие кровлю этой подземной выработки, обрушились, и теперь каменоломня представляет собой два открытых карьера, соединенных штольней.
В каменоломне добывали не только кремль, но и другой чрезвычайно интересный минерал – полыгорскит, или, как его еще называют, горную кожу. Внешне он похож на долго пролежавший в земле перепревший толстый картон – желтый или коричневатый, хорошо расслаивающийся, волокнистый. В отвалах он встречался в виде обрывков неправильной формы и разной величины, а на стенках штольни видно, что залегает он горизонтальными слоями и иногда смят (гофрирован). Как применялся полыгорскит – сказать трудно. Возможно, он использовался при раскалывании кремневых желваков в качестве амортизатора. Во всяком случае «подушку» из «горной кожи» мы находили много раз под служившими наковальнями плоскими валунчиками.
Может быть, на Бурлы 3 добывали и сердолик – окрашенную в красноватый или желтоватый цвет высококачественную разновидность халцедона. Сердолик в древности широко применялся для изготовления различных украшений.
За два месяца удалось прорезать большую выработку разведочной траншеей да кое-где заложить небольшие шурфы. Примерно до половины глубины карьер оказался заваленным отходами – обломками кремня и мраморов. Толстый слой отвалов лежал и на склонах холма. В верхних слоях отходов, скопившихся на дне карьера, археологические находки оказались перемешанными. Здесь можно было найти и обломок кельтеминарского сосуда и керамику XII в. – средневековую. В самом низу мы нашли, правда немногочисленные, предметы только кельтеминарского, неолитического времени. Все эти находки – керамика, кремневые изделия, бронзовый наконечник стрелы – позволили установить, что по крайней мере с III тысячелетия до н. э. и до XIV в. (а может быть, и позднее) в каменоломне добывался кремень: сначала для изготовления орудий, позднее для высекания огня, а затем, с XVI в., возможно, и для оснащения кремневых ружей. По подсчетам геологов за это время на каменоломне было выбрано около трех тысяч кубометров очень твердой породы, причем не менее 10 % ее объема составлял кремень. Цифры, как видите, довольно внушительные. В основном, месторождение кремня было выработано, очевидно, в глубокой древности. Ведь для изготовления орудий требовались хорошие куски кремня. Позднее, возможно, пользовались уже отходами, поэтому в верхних слоях археологический материал и оказался перемешанным.
Так была открыта еще одна из тайн древних кельтеминарских мастеров.
Мы еще очень мало знаем о духовной культуре кельтеминарцев, и в. частности об их верованиях. Ни памятников искусства, ни погребений, дающих обычно основной материал для изучения этих вопросов, археологи еще не нашли. Правда, кое-что все-таки можно предположить. Вспомните большой очаг в центре дома, раскопанного на Джанбас 4. Бытовым он быть не мог: находок вокруг него почти совсем не было. С. П. Толстов предположил, что это культовый очаг, являвшийся религиозным центром обитавшей в доме родовой общины. Священный неугасимый огонь очень долго горел в центре дома. Поэтому на дне очага лишь толстый слой белого пепла и нет углей и золы, а полуметровый слой песка под ним докрасна прокален. Это предположение тем более вероятно, что впоследствии, как нам известно, культ огня играл большую роль в религии домусульманской Средней Азии.
За последние годы археологами открыты многие десятки новых неолитических стоянок – в разных районах Кызылкумов, вдоль Узбоя, в Приаралье. Раскопано еще одно жилище – такое же по форме и конструкции, но несколько больших размеров. Установлено, что кельтеминарская культура существовала на этих территориях очень долго: с конца IV до начала II тысячелетий до н. э. Материал, найденный на поздних кельтеминарских стоянках, рассказал о некоторых существенных изменениях, произошедших за это время в хозяйстве и материальной культуре. Охота и рыболовство, как и прежде, составляли основу хозяйства, но некоторые данные говорят и о зарождении скотоводства. На некоторых позднекельтеминарских стоянках найдены кремневые вкладыши для серпов – может быть, зародилось земледелие. Очевидно, в это время произошло и первое знакомство кельтеминарцев с металлом: на развеянных стоянках археологи нашли несколько обломков мелких металлических изделий. Они были изготовлены еще не из бронзы – сплава меди с оловом, а из чистой меди. Время появления первых медных изделий обычно называется энеолитом – медным веком или, точнее, меднокаменным веком. В это время большинство орудий все еще оставались каменными.
Пришли ли кельтеминарцы откуда-то на эти территории или их предшественники жили здесь и раньше – окончательно этот вопрос еще не выяснен. Более древних, чем Джанбас 4, стоянок в низовьях Аму-Дарьи, в Кызылкумах и на Узбое еще не найдено.
Ближайшими соседями кельтеминарцев на юге были высокоразвитые племена земледельцев и скотоводов. Памятники их относятся к VI–III тысячелетиям до н. э. Лучше всего они изучены в предгорьях Копетдага, на территории Туркменской ССР. В IV тысячелетии у них появились медные, а в III уже и бронзовые орудия. Они строили долговременные дома, сначала из овальных в сечении глинобитных блоков – «булок», а затем и из настоящих сырцовых кирпичей. Возделанные участки орошались во время разливов многочисленных ручьев. Такой тип орошения называется лиманным. Позднее жители этих мест начали строить небольшие каналы.
Отлично сделанную и обожженную посуду они украшали узорами, нанесенными с помощью краски. Кроме орнаментов геометрического характера, на сосудах можно видеть и изображения различных животных и растений.
Казалось бы, что общего между высококультурными для того времени земледельцами и скотоводами юга и рыболовами, охотниками и собирателями степных и пустынных областей? Однако между ними нашлись черты сходства, и очень существенные. Археологи уже давно обратили внимание на сходство некоторых мотивов орнамента расписной посуды Южной Туркмении и кельтеминарской. Простое заимствование орнамента маловероятно, так как орнаментальные мотивы на древней керамике, как правило, очень устойчивы и связаны с традиционными культовыми представлениями.
Еще более интересным кажется то, что отмеченное сходство на ранних этапах оказалось более тесным. Более того, кремневые изделия южнотуркменистанских памятников VI–V тысячелетий до н. э., отличаясь от несколько более поздних кельтеминарских некоторыми особенностями, были очень близки последним по общему облику. И наконец, и те и другие обнаруживали черты сходства с более древними – мезолитическими и ранненеолитическими орудиями памятников Ирана, Прикаспия и других областей. Поэтому было высказано предположение о происхождении этих, столь непохожих друг на друга культур от каких-то двух близко родственных основ, общие корни которых уходят далеко в глубь веков.
Как мы уже говорили, на кельтеминарской территории памятников ранее конца IV тысячелетия до н. э. мы до сих пор не знаем. Поэтому вопрос о первоначальном заселении этих районов остается открытым. Правда, в Прикаспийских областях Туркмении (в районе Красноводского полуострова) известны и более древние памятники и современные кельтеминарским, к тому же и по культуре очень близкие последним. Прямую линию непосредственных родственных связей близкого к кельтеминарскому населению здесь можно довести по крайней мере до заключительных этапов предшествующего неолиту периода – мезолитического. В абсолютном, исчислении это будут примерно VIII–VII тысячелетия до н. э. Известны здесь и более ранние памятники, но изучены они значительно хуже.
Не менее сложным для археологов оказался и вопрос о судьбах кельтеминарской культуры. В каких отношениях с кельтеминарцами находились племена, обитавшие позднее на этой же территории? Были ли они пришлыми? Если да, то куда исчезли кельтеминарцы? Или это те же кельтеминарцы на новом этапе развития, воспринявшие какое-то постороннее влияние или перемешавшиеся с пришельцами и изменившие таким образом свою культуру?
Еще в довоенные годы Хорезмской экспедицией была открыта группа стоянок первобытного человека, материал которых позволил отнести их уже не к эпохе неолита, а к бронзовому веку. Стоянки эти отличались друг от друга. С. П. Толстов выделил две их группы и установил, что различия эти не вызваны разницей во времени; они оказались одновременными и датировались, примерно, серединой – второй половиной II тысячелетия до н. э. На одних стоянках была найдена грубая лепная, но уже плоскодонная, в отличие от кельтеминарской, керамика с богатым нарезным и штампованным орнаментом. На других – также плоскодонная керамика, но несколько иных форм, с довольно бедным орнаментом и, главное, часто окрашенная в желтый и красный цвет. Ясно было, что эти одновременные и расположенные на одной территории стоянки оставлены разным населением. Так были открыты две новые культуры эпохи бронзы: тазабагъябскаяи суярганская.

Посуда, сделанная тазабагъябцами, племенами бронзового века
В те же годы были открыты и изучены первые памятники еще одной культуры первобытного человека – амирабадской. Она оказалась еще более поздней, относящейся уже к началу I тысячелетия до н. э. О ней мы расскажем в конце главы.
Начало бронзового века ознаменовалось не только освоением первобытным человеком процесса выплавки металлов и изготовления из них орудий. Эта новая эпоха в истории связана с очень существенными изменениями в хозяйственной деятельности и общественном строе древнего населения. Изменения эти имели всеобщий характер, то есть в той или иной степени и форме были свойственны всему человечеству.
Что же означал тот относительно более высокий уровень развития культуры, о котором говорят историки и археологи, описывая переход от эпохи неолита к бронзовому веку? На большинстве территорий охота и рыболовство, являвшиеся раньше основой хозяйства, отошли к этому времени на второй план, утратили прежнее значение. Скотоводство оказалось более эффективным для получения мяса, чем охота. Сильно изменилось, развилось и оформилось во вполне самостоятельную отрасль хозяйства и земледелие. Археологи установили, что в ряде районов в это время на смену мотыжному пришло плужное земледелие. Первые плуги были деревянными и, естественно, с тех далеких времен не сохранились. Поэтому определить для каждой территории время появления плужного земледелия очень трудно.
Развитие хозяйства привело к одному из важнейших событий в истории общества – первому крупному общественному разделению труда. В некоторых областях, там, где этому особенно благоприятствовали природные условия, скотоводство постепенно превратилось в ведущую отрасль хозяйства и потеснило земледелие. Более того, некоторые специфические условия ведения скотоводческого хозяйства – необходимость иметь обширные пастбища, переходить со стадами с одного места на другое и т. п. – сделали занятия земледелием затруднительными. В других районах, с иными природными условиями, решающее значение в хозяйстве приобрело земледелие в его новых, более продуктивных формах. Поэтому произошло разделение этих двух основных отраслей производства, возникли два пути развития хозяйства, а вместе с тем и культуры – земледельческийи скотоводческий.
Существует мнение, что древние скотоводы вели полностью кочевой образ жизни. Между тем во многих случаях это не совсем верно. Скотоводство, как основная отрасль хозяйства, очень часто дополняется и земледельческими занятиями некоторой части населения и во многих случаях не противоречит известной степени оседлости. А если природные условия благоприятствовали, то скотоводство могло сочетаться и с прочной оседлостью.
Общественное разделение труда, выделение пастушеских племен привело, в свою очередь, к другому важному обстоятельству. Во времена охотников, рыболовов и собирателей каждый человеческий коллектив производил почти все необходимые для него продукты. Он мог испытывать затруднения лишь в добывании некоторых не встречавшихся на его территории вещей, например каких-то пород поделочного камня, красивых раковин для украшений и т. п. В результате общественного разделения труда население уже не могло полностью обеспечить себя всем необходимым: скотоводы нуждались, в продуктах труда земледельцев, и наоборот. Все это вызвало расширение обмена. Обмен между отдельными племенами, часто очень отдаленными территориально, существовал и раньше, но тогда он был еще в значительной степени случайным. Теперь же он становится регулярным.
Развитие хозяйства, переход от охоты и разведения домашних животных к скотоводству и от примитивных форм мотыжного земледелия к плужному земледелию вызвали, в свою очередь, значительные изменения в общественном строе. Прежде мужчина занимался охотой, женщина – земледелием, собирательством и приготовлением пищи. На этом основывалась ее важная роль в хозяйственной, а следовательно, и в общественной жизни коллектива. Теперь и скотоводство и земледелие стали целиком сферой мужской деятельности; женщина оказалась занятой в основном в домашнем хозяйстве. Главенствующая роль мужчины в экономике повлекла за собой изменение многих характерных для матриархального строя общественных установлений – формы брака и семьи, системы наследования и т. д. Произошел переход от матриархата к патриархату.
Мы уже говорили, что основные закономерности развития человеческого общества имеют всеобщий характер. Однако это не значит, что все вышеописанные события происходили одновременно на всех территориях и в совершенно одинаковых формах. На самом деле древнейшие этапы человеческой истории представляют собой очень пеструю картину. Для них характерны неравномерность и своеобразие в развитии отдельных территорий, отдельных обществ. В одно и то же время, на юге, в районах раннего возникновения земледелия и скотоводства, родовое общество находилось в стадии разложения и перехода к государственности, а на севере, в лесной зоне, существовали племена, еще не знавшие ни металлов, ни земледелия, ни скотоводства. В некоторых, даже относительно высокоразвитых в то время районах, в силу ряда специфических условий природного окружения, еще очень долго сохраняется и совершенствуется мотыжное земледелие. Так же долго: у некоторых обществ продолжал существовать и архальный родовой строй, достигший здесь высокого развития. Высокоразвитое матриархальное устройство общества этнографам приходилось наблюдать еще в недавнем прошлом у некоторых индейских племен Северной Америки, отсталых племен Африки и Индии.
Знание законов общественного развития не избавляет поэтому археологов от внимательного и кропотливого изучения памятников материальной культуры каждой территории, особенностей общественного развития, уровня хозяйства и культуры людей, их оставивших. Знание этих законов только помогает такому изучению.
Вернемся, однако, к древним тазабагъябцам и суярганцам. Со времени открытия первых стоянок и до настоящего времени поиски и исследования новых памятников бронзового века на территории Хорезма практически не прекращались. Почти каждый год археологические разведки и раскопки, проводившиеся под руководством С. П. Толстова и М. А. Итиной – археолога, занимающегося изучением памятников бронзового века, приносили новый интересный материал. Было раскопано несколько стоянок этого времени, изучены остатки жилищ, керамика, древнейшие в Хорезме изделия из бронзы и, самое главное, история племен.
Как выяснилось, первыми на территории древней Аму-Дарьинской дельты появились суярганцы. Следы их появления здесь еще на рубеже III и II тысячелетий до н. э. – развеянные стоянки с обломками глиняной посуды и каменными орудиями – были найдены в северной части дельты.
Ранние суярганцы, как и кельтеминарцы, селились либо по краям дельты, либо у внутридельтовых возвышенностей. Они еще не забыли многие из традиционных приемов обработки камня: на их стоянках нашли не только тщательно изготовленные каменные наконечники стрел листовидной формы (нередко встречающиеся на стоянках бронзового века), но и мелкие ножевидные пластинки и различные изделия из них. Ранне-суярганская посуда, как мы уже говорили, часто окрашенная снаружи, также имеет черты сходства с кельтеминарской. И жили суярганцы, по-видимому, в домах кельтеминарского типа, только иной формы и меньших по размерам. Во всяком случае, на более поздних суярганских стоянках раскопаны остатки наземных жилищ той же каркасной конструкции. Рыболовство и охота служили еще основой их хозяйства, однако бесспорно существовали уже зачатки земледелия и скотоводства.
При сравнении материалов, полученных с суярганских стоянок, с материалами других одновременных им культур выяснилось, что в более северных областях никаких близких родственников эта культура не имеет. Зато на юге, особенно в областях Иранского нагорья и прилегающих к нему районах, суярганские находки, особенно керамика – формы сосудов, многие детали их украшений, нашли очень много близких аналогий.
Ранние суярганцы хронологически наиболее близки кельтеминарцам. Учитывая многие сходные черты в их культуре, естественно возник вопрос об их отношении друг к другу и, если так можно выразиться, о степени и характере их родства. Поскольку материала для бесспорного решения этого вопроса оказалось недостаточно, то возникли две точки зрения. Согласно одной – суярганцы в конце III или на рубеже III и II тысячелетий до н. э. пришли в Хорезм с юга и заселили северную часть древней дельты. Сходные с кельтеминарскими черты их культуры объясняются тем, что культурная среда, из которой они вышли, была той же, что и породившая задолго до этого кельтеминарцев. Это родственники, но не очень близкие, во всяком случае, не прямые. Согласно другой точке зрения кельтеминарцы и суярганцы – ближайшие родственники. Культура кельтеминарцев послужила основой для формирования суярганской культуры. Короче говоря, суярганцы – это те же кельтеминарцы, только на новом этапе развития, воспринявшие и усвоившие, возможно, какие-то дополнительные внешние влияния. Второе предположение, более обстоятельно подкрепленное археологическим материалом, считается сейчас наиболее вероятным.
Несколько позднее, в середине II тысячелетия до н. э., на историческую арену в Хорезме выступают тазабагъябские племена. Как отличают археологи тазабагъябские стоянки от суярганских? Прежде всего, по керамике. Тазабагъябская керамика – это обычно различные варианты небольших плоскодонных горшков, в большинстве случаев богато украшенных нарядным нарезным или штампованным орнаментом в виде полос, углов, треугольников, нанесенных на верхнюю часть сосуда. Каменных изделий очень мало: обычно наконечники стрел да зернотерки. В это время и у тазабагъябцев и у суярганцев каменные орудия уже в значительной степени были заменены металлическими – бронзовыми. Жилища тазабагъябцев, а мы их знаем теперь достаточно хорошо, сильно отличаются и от кельтеминарских и от суярганских – они не наземного, а полуземляночного типа, довольно большие (10x12 м; 12х15 м), с наземной частью из деревянных столбов, оплетенных камышом и обмазанных глиной.
Археологи установили, что в Южном Приаралье тазабагъябцы были пришельцами, чужаками. Откуда они пришли?
Уже давно стало известно, что во II тысячелетии до н. э. обширные степные пространства Поволжья, Казахстана и Южной Сибири были заселены скотоводческо-земледельческими племенами срубной – на западе и андроновской – на востоке археологических культур. Сравнительное изучение показало, что в культуре тазабагъябцев имеются в большом количестве элементы и той и другой. Местом соприкосновения и смешения населения двух последних культур был район Оренбургских степей. Оттуда, с северо-запада, как предполагают, и пришли в Южное Приаралье тазабагъябцы. Явившись результатом смешения двух отличающихся по культуре групп населения, тазабагъябцы на новом месте подверглись культурному влиянию со стороны суярганцев. Поэтому их культура, при наличии многих сходных черт с андроновской и срубной, уже качественно отличается от каждой из них.
Близкое соседство дэух групп населения естественно привело к их постепенному смешению, а к концу II тысячелетия, как выяснилось, тазабагъябцы были полностью ассимилированы суярганцами. Естественно, что в результате этого изменился и облик самой суярганской культуры.
Хозяйство суярганцев и тазабагъябцев, по-видимому, сильно не отличалось друг от друга. Да это и не удивительно: ведь жили они в пределах дельты, в одинаковых природных условиях. И те и другие были земледельцами и скотоводами. О развитии земледелия говорят следы оросительных систем и полей, сохранившихся от этого времени. Они обнаружены в окрестностях нескольких стоянок бронзового века. Самые древние из них, относящиеся ко второй половине II тысячелетия до н. э., представляют собой небольшие прямоугольники обвалованных полей, расположенных рядом с одним из боковых затухающих протоков дельты, укрепленным вдоль берега невысокой дамбой. На поля вода поступала непосредственно из дамбированного русла. Такая система орошения называется бассейновой.
Позднее из русла стали выводить небольшие каналы, вода из которых распределялась потом на поля. Размеры полей обычно не превышали гектара. Землю обрабатывали мотыгой и в это время, и позднее.
Находки на стоянках костей домашних животных говорят о скотоводстве. Известно, что тазабагъябцы разводили крупный рогатый скот (найдены кости быка), а также овец и лошадей. По-видимому, не отличался существенно и характер суярганского скотоводства.
Одним из интереснейших памятников бронзового века Хорезма является большой могильник тазабагъябцев – Кокча 3. Он был обнаружен десять лет назад, во время одного из разведывательных маршрутов. На большом, окруженном невысокими песчаными грядами такыре разведчики заметили торчащие из земли горшки. Это были остатки древних могил. Археологи работали здесь два полевых сезона: было раскопано более сотни погребений различной сохранности. Из них свыше семидесяти дали различные находки.

Более сотни погребений было раскопано на тазабагъябском могильнике Кокча 3
Найти могильник для археолога, изучившего древнюю культуру только по остаткам поселений, очень важно. Особенности погребального обряда являются обычно самым надежным источником для изучения древних верований, и в частности представлений о загробной жизни. Многое могут рассказать они и об общественном строе – в обряде погребения отражаются господствовавшие в то время общественные отношения. И, наконец, этот материал во многом может дополнить известные по раскопкам стоянок представления о культуре и хозяйстве погребенных. Ведь в погребении, если оно не было ограблено впоследствии, археолог обычно находит не черепки, а целые сосуды, не выброшенные обломки орудий, а целые орудия. Словом, опытный исследователь, тщательно изучив данные раскопок могильника, может получить множество новых и интереснейших сведений о людях той эпохи.

Вместе с умершими в могилу ставились сосуды с едой. Археологи предполагают, что это была молочная пища
Тазабагъябцев хоронили в неглубоких прямоугольных ямах. Их клали на бок (на правый или на левый) с согнутыми в коленях ногами и в локтях руками, головой на запад. Археологи называют обычно такое положение покойников «скорченным». Большинство погребений были одиночными, но были и парные. В головах погребенных стояли глиняные горшки: от одного до трех. В некоторых погребениях нашли также бронзовые и каменные украшения, бронзовые иглы – у женщин и бронзовые шилья – у мужчин.
О чем же рассказал могильник археологам?
Прежде всего, еще раз о близких связях с северными племенами бронзового века. И снова о многих признаках, характерных только для тазабагъябской культуры. Антропологи, например, изучив черепа и кости погребенных, установили, что на правом боку лежали только мужчины, а на левом – только женщины. Это – одна из особенностей могильника и погребального обряда тазабагъябцев, не характерная для родственных им племен Поволжья и Казахстана.
А вот другое интересное наблюдение. Известно, что сосуды с пищей, так же как и различные бытовые орудия и охотничье вооружение, клались в могилу для использования в будущей, загробной жизни. В погребениях бронзового века Поволжья, Казахстана и Южной Сибири в могилу вместе с погребенным часто клали и куски мяса и даже большие части туши животного. В сосудах из тазабагъябских погребений не было найдено ни костей животных, ни остатков зерен. Специально проведенные анализы содержимого горшков не обнаружили никаких следов растительной пищи. Археологи вполне закономерно предположили, что в горшках была либо вода, либо молочная пища. Последнее предположение очень интересно. Существует мнение, что молочное скотоводство возникло значительно позднее. Об этом, в частности, свидетельствуют наблюдения этнографов; установлено, что существуют скотоводы, обладающие большими стадами, но не употребляющие в пищу ни молока, ни молочных продуктов. Таковы, например, некоторые скотоводы Африки, Китая, Индо-Китая, Индии.
Но, пожалуй, самыми важными из наблюдений были те, которые касались общественного строя. Изучавшие особенности погребального обряда тазабагъябцев С. П. Холстов и М. А. Итина пришли к выводу, что общество их находилось на переходной ступени развития: матриархат существовал лишь в качестве пережитков (может быть, весьма существенных), переход же к патриархату так и не произошел. На первый взгляд этому как будто противоречило большое число парных погребений.
Обычно появление парных погребений – мужчины и женщины – рассматривалось как одно из самых существенных доказательств перехода общества к патриархату. По этнографическим наблюдениям известно, что в развитом патриархальном обществе существовал обычай погребать вместе с умершим мужчиной насильственно умерщвленную женщину. Однако оказалось, что большинство парных погребений тазабагъябского могильника имело одну крайне важную и интересную особенность. Тщательно проведенными раскопками было установлено, что погребения эти были неодновременными: в большой, вырытой на двоих яме хоронили сначала одного умершего, а потом, иногда через много лет – второго. Но самое интересное заключалось в том, что примерно в половине погребений сначала была положена женщина и только потом мужчина. Это доказывалось и антропологическими исследованиями остатков погребенных и характером сопровождавших их вещей.








