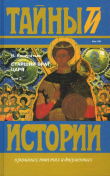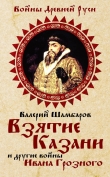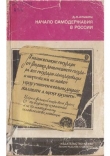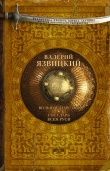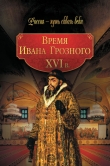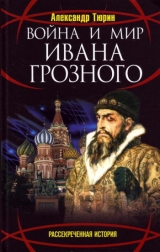
Текст книги "Война и мир Ивана Грозного"
Автор книги: Александр Тюрин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Реформа центрального управления. Приказы
В царствование Ивана Васильевича окончательно оформляется приказная система. Приказы принимают значение отраслевых министерств. Прежде многие из них носили характер дворцовых ведомств, на что указывали их названия – приказ Ловчий (1509), Казённый (1512), Большого дворца (1534).
При царе Иване IV появляются следующие приказы: финансовый приказ Большого прихода (1554), Земский (1564), Печатный (1553), Полоняничный (начало 1550-х), Посольский (1549), Разрядный, Стрелецкий (1571), Холопий (1550-е), Челобитный (1550-е), Ямской (1550).
Военные реформы Ивана IV привели к созданию Разрядного приказа, ведавшего личным составом и службой поместного войска, а также Поместного приказа, который занимался обеспечением служилых людей землёй. К 1550-м относится появление Стрелецкого приказа, ведавшего регулярными подразделениями русской армии – стрелецким войском.
Упорядочивание системы «ямской гоньбы» привело к возникновению Ямского приказа – государственной службы связи.
Введение местных губных учреждений, занимавшихся сыском и наказанием уголовных преступников, вызвало организацию Разбойного приказа.
Расширение международных связей Московского государства способствовало созданию Посольского приказа.
Следствием «собирания земель» явилось учреждение, преимущественно в 1560-х, административно-финансовых и судебных приказов территориального характера. К ним относились приказы Костромской четверти, Новгородской четверти, Устюжской четверти, приказа Казанского дворца.
Несмотря на возникновение системы центрального управления, количество профессиональных бюрократов в московском государстве было ничтожным, не сравнимым ни с современными ей западно-европейскими странами, ни с Россией петербургского периода.
Столь любимые либеральными критиками ситуации, когда государственные чиновники больше работают на себя, чем на государство, были невозможны в эпоху Ивана Грозного. Казнокрадство, мздоимство, действия в интересах знати или своего кармана каралось быстро и однозначно – смертью.
Феодалов, вроде Курбского, бесило, что чиновников царь «избирает их не от шляхетского роду, ни от благородства, но паче от поповичей или от простого всенародства, а от ненавидячи творит вельмож своих».
Недовольный новыми порядками боярин Т. Тетерин писал боярину М. Я. Морозову: «Есть у великого князя новые верники-дьки… у которых отцы вашим отцам в холопстве не пригожалися, а ныне не только землею владеют, но и вашими головами торгуют».
Пропагандист Гваньини, работавший на польского короля, с возмущением замечает: «Простолюдинов он делает, большей частью по собственной воле (в чем ему никто не прекословит), дворянами, воеводами и чиновниками».
Что ж, дьяки (чиновники) в самом деле происходили из грамотных простых людей, преимущественно «поповского рода». Их квалификация была на голову выше чем у знатных персон, поэтому их действительно включали в состав правительства, где они становились «думными дьками», назначали комендантами крепостей и командирами гарнизонов.
Михалон Литвин с восхищением писал о порядках, установленных в Московии: «Москвитяне соблюдают равенство между своими и не дают одному много должностей. Управление одной крепостью на год или, много, на два поручают двум начальникам вместе и двум нотариям (подъячим). От этого придворные ревностнее служат своему князю и начальники лучше обращаются с подчиненными, зная, что они должны отдать отчет и подвергнуться суду, ибо осужденный за взятки бывает принужден драться на поединке с обиженным».
В течение 1550-х, благодаря новой системе управления, была проведена перепись и установлены справедливые налоги, которые должны были платить также бояре и монастыри.
Если ранее податные единицы – соха, выть, обжа – назначались произвольно и были свои в каждой области, то теперь вводились стандартные сохи. Они зависели от качества земли («хорошей», «средней», «худой»), каждой присваивался номер. Со всех одинаковых сох платились одинаковые подати.
Общая сумма государственных податей составляла для крестьянского двора около девяти процентов дохода.
Служилые по прибору. Постоянное стрелецкое войско
К служилым людям «по прибору», вербовавшихся на вольных основаниях, относились стрельцы, полковые и городовые казаки, пушкари и люди «пушкарского чина». Первоначально, их служба была близка к временному найму, но затем переходила на долгосрочную и наследственную основу.
Историческими предшественниками стрельцов могут считаться пищальники. Они набирались преимущественно из городского населения и, в отличие от «посохи», выставлялись на службу не с сохи, а с определенного числа дворов. Обычно один пищальник с 3–5 дворов. Население должно было снабжать пищальников оружием, одеждой и припасами. Существовали и «казенные» пищальники, которые получали огнестрельное оружие от правительства и жалование из казны.
В конце 1540-х совершается первая попытка создать регулярную стрелецкую пехоту из служилых по прибору. Стрельцы набирались по желанию из посадского и сельского населения.
Военная служба стрельцов, в отличие от пищальников и помещиков, не была ограничена периодом смотров и участия в боевых походах, поэтому они могут считаться первым постоянным войском на Руси. Формирование правильного стрелецкого войска относится к 1550 году.
Тогда были образованы «выборные» стрелецкие отряды. «Русский хронограф» подробно рассказывает о появлении этих стрельцов. «…Учинил у себя царь… выборных стрельцов и с пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевской слободе, а головы у них учинил детей боярских…»
Было создано шесть «статей» (отрядов) выборных стрельцов по 500 человек в каждой. «Статьи» делились на сотни, во главе которых стояли сотники из детей боярских. Стрельцы получали жалование по 4 рубля в год, а жить тогда можно было на 3 копейки в день.
Бравые стрельцы отличились уже при взятии Казани, придав штурму города решительность – что так разительно отличало поход 1552 г. от прежних казанских походов московского войска. Стрельцы вели подкопы и засыпали рвы, они первыми двинулись на городские стены и первыми ворвались в город. «И тако, – добавляет летописец, – скоро взыдоша на стену великою силою, и поставиша ту щиты и бишася на стене день и нощь до взятья града».
Отличились стрельцы и при взятии Полоцка, где они уничтожали вражеских пушкарей, штурмовали стены и занимали крепость.
Стрельцы подразделялись на выборных, позднее – московских, несущих службу в столице, и городовых, служащих в различных городах России. Московские стрельцы охраняли Кремль, несли караульную службу и принимали участие в военных действиях. Городовые стрельцы несли гарнизонную и пограничную службу, выполняли поручения местной администрации, носящие полицейский характер. В мирное время стрельцы подчинялись Стрелецкому приказу, а во время войны – военачальникам. Городовые стрельцы находились непосредственно в ведении местных воевод.
Стрельцы были единообразно обмундированы, что тогда было редкостью в Европе, обучены военному делу и вооружены за государственный счет. В их вооружение входили ручные пищали, мушкеты, сабли, пики, а также внушительные бердыши (которые так часто показывают в художественных фильмах).
Стрелецкое войско делилось на подразделения, именуемые приборами, позднее приказами, а еще позднее – полками. Во главе приказов стояли стрелецкие головы, назначавшиеся правительством из числа дворян.
Эти подразделения, были как конными («стремянными»), так и пешими, и, в свою очередь, делились на сотни и десятки.
Стрельцы жили отдельными общинами-слободами. Помимо денежного жалованья стрельцы получали за счет казны продовольственное довольствие (хлебное жалование). В случае похода им выделяли деньги «на подъем». Часто стрельцы наделялись, вдобавок к жалованью, землёй, отводимой в совместное пользование для всей слободы. То есть, получали они землю не лично, как помещики, а на всю общину. Стрелецкая слобода выбирала свои власти, за исключением назначенного стрелецкого головы. Управление слободой находилось в «съезжей избе».
Стрельцы имели право, в свободное от несения службы время, заниматься разными промыслами, причем с привилегией не платить городских податей (за исключением случаев, когда их выручка превышала 50 рублей). Это сближало стрельцов с городским торгово-промышленным сословием, из которого они часто и происходили.
Близки по статусу к стрельцам были и другие разряды приборной службы, также набиравшие на вольных основаниях – городовые казаки, пушкари и т. д… Все они селились отдельными слободами и получали землю на всю общину.
Служилые пушкарского чина
Быстрое развитие русской артиллерии привело к увеличению числа людей, служащих при «наряде» (артиллерии) – они образовали разряд служилых людей «пушкарского чина» и состояли в ведомстве пушкарского приказа.
К этому разряду относились пушкари, затинщики, обслуживающие мелкокалиберные «затинные пищали», преимущественно на «крымской украйне», а также обслуга крепостных орудий – воротники, рассыльщики и сторожа.
К пушкарскому чину относились также специалисты, изготавливающие и ремонтирующие «наряд»: кузнецы, зелейные мастера, литцы, чертежники.
Строевые пушкари и затинщики несли полковую и городовую (гарнизонную) службы. В военное время, по распоряжению Разрядного приказа, они передавались воеводам, ведающим «нарядом».
В случае нападения вражеских войск на город, пушкарям в помощь передавались горожане («поддатни» из числа посадских людей) по заранее составленным росписям, крестьяне и даже монастырские служки, заранее обученные артиллерийскому делу. Все они составляли, по сути, резерв военного времени.
Характерной особенностью России, в отличие от Европы, было то, что артиллерийское дело не находилось в ведении замкнутого цеха. Любой желающий из торгово-промышленного населения мог стать пушкарем или затинщиком.
Большинство пушкарей и затинщиков было сосредоточено в западнорусских и южных порубежных городах – там, где постоянно шла война и происходили вражеские набеги. Однако росло их число и на северных рубежах, на Северной Двине, в Вологде, в Кольском остроге – в связи с нарастающей активностью морских европейских держав, к числу которых относилась и враждебная Швеция.
Казаки
Первое упоминание о русских казаках относится к зиме 1443–1444, когда они помогли Рязани и московским воеводам отбиться от нашествия татарского царевича Мустафы на речке Листани – причем действовали они не на конях, а на лыжах.
Вопреки общепринятому мнению, существенную долю русского казачества с самого начала составляли служилые «по прибору». Они происходили из массы вольных, не несущих никакого тягла людей, временно нанимавшихся на разные работы (собственно, «казаковать» означало работать по вольному найму). Среди таких работ было и решение военных задач для государства, особенно на его южных опасных окраинах.
Служилые казаки, по роду деятельности, оказались родственны степной вольнице, которой они и обязаны самому названию «казак» (тюрк. «удалец»). Еще в начале XVI в. летописи упоминают среди донских казаков атаманов из чистых кипчаков, причем действующих против интересов Москвы. Но степная вольница постепенно «приручалась» московским правительством. Надо полагать, не без помощи денежных вливаний, особенно после страшного нашествия крымцев 1521 года. Степное казачество все более пополнялось за счет притока вольных русских людей из пограничного Рязанского, Тульского и северского краев, что преображало его лицо.
С 1549 донских казаков начинают вербовать на московскую государственную службу. В конце 1550-х их включают большими массами в состав русских войск, несущих службу в поле, как сторожевую и станичную. (Тогда станицы – разъезжие дозоры, патрули, а сторожи – это укрепленные посты.) Так степная вольница входит в число служилых по «прибору».
Со времени правления Ивана Грозного казаки стали тревожить не только ногаев, кочевавших в районе Волги, но и крымско-татарские улусы, и турецкие крепости.
Казаки играли большую роль в московских походах на крымцев во второй половине 1550-х и в разгроме крымско-турецкого нашествия 1572, когда отличился донской атаман М. Черкашенин. Отряды донских казаков участвовали в борьбе с Ногайской Ордой, в завоевании Казани и Астрахани, во многих сражениях Ливонской войны, защищали крепости, в том числе участвовали в славной обороне Пскова.
За государственную службу казаки получали денежное жалование, землю на общинном праве, иногда личный земельный оклад как помещики. При реорганизации в 1571 сторожевой и станичной службы казаки заменили в украинных поселениях детей боярских, которые были возвращены в полки. На протяжении 1570-х казаков селили на крымском рубеже, который в это время сильно сдвинулся к югу. В особо опасных местах казачество сменяло обычное крестьянское население, которое перебиралось в более спокойные районы.
Волжское казачество, промышлявшее разбоем, было вытеснено правительством с Волги при помощи отрядов служилых казаков. Ушедшие с Волги «разбойники» двинулись на восток. Разбив ногаев на р. Яике (Урал), волжские отселенцы положили начало уральскому казачеству.
Волжские казаки, нанявшиеся на службу к промышленникам Строгановым, сыграли большую роль в отражение нападений на Урал сибирских татар, остяков и вогулов. Затем они были направлены правительством на разгром сибирского ханства. Здесь прославится атаман Ермак – Василий Тимофеевич Аленин, чьи предки были суздальскими посадскими людьми.
Другая часть волжских казаков, после завоевания Московским государством нижней Волги, переселились на Терек и Гребенские горы (нынешняя территория Чечни и Ингушетии), где тесно сотрудничала с московскими воеводами, ставящими первые крепости на Северном Кавказе.
Московское правительство времен Ивана Грозного, в обращении с вольным казачеством, покажет и такт, и умение договариваться, и, когда надо, твердость. Именно эти основы позволят государству и казачеству осуществить вместе огромную работу по колонизации территорий к востоку, югу и юго-востоку от исторического центра Московского государства.
Эта совместная работа продолжится и в последующее время. Государство и казачество, несмотря на неизбежные конфликты, будут вместе покорять и осваивать миллионы и миллионы квадратных километров евразийских земель, превращая их в Россию.
Ратная служба простонародья
Во время больших войн правительство непременно привлекало к военной службе городское и сельское население, не исключая из расклада «белые» дворы и монастырских людей.
Военная повинность была значительной – до одного ратника с 1–5 дворов. В основе установления размеров повинности лежала «соха», то есть податная единица.
Сельское ополчение, собираемое с «сох», называлось соответственно «посошной ратью» или «посохой». Применялось и название «даточные люди». Посоху обычно собирало новгородское и псковское население, наиболее приближение к театру ливонской войны. По завершению военного похода, посоха распускалась по домам. Посошная рать получала денежное довольствие из казны.
Так в Полоцком походе 1563 года «посохи было конной и пешей 80900». В этом походе «коневикам» платили по 5 рублей, а пешим – 2 рубля. Это совсем не похоже на использование дармового «рабского» труда, учитывая, что дневное пропитание тогда стоило около 3 копеек. Учитывая большие размеры посошной рати, можно представить размеры государственных выплат и нагрузку на казну.
Население, выставляющее посошных ратников, содержало их семьи во время нахождения кормильцев на службе.
Посошные люди должны были действовать во втором эшелоне наступающих войск. Например, в случае успеха штурмовых отрядов, посошные ратники вступали в крепость для участия в уличных боях и проведения «зачисток».
Посошные люди участвовали в осадных работах, строительстве тур и т. д. Силами посошных людей выполнялось большинство военно-инженерных работ по устройству дорог, мостов, постройке и укреплению крепостей, возведению пограничных сооружений, земляных валов и засек, по сборке и разборке мобильных крепостей – «гуляй-городов».
Значение посохи при «наряде» (артиллерии) было особенно велико. Пешие и конные посошные люди занимались перевозкой орудий и боеприпасов, обслуживали орудия в период боевых действий, помогая пушкарям и затинщикам в их установке, заряжании и т. п.
Число мобилизованных к «наряду» посадских людей и крестьян исчислялось многими сотнями или даже тысячами. Во время успешного Ливонского похода 1577 г., при находившейся при армии Ивана Грозного артиллерии, состояло 12724 посошных человека (из них 4124 конных).
И на южных рубежах царскими указами предусматривалось поголовное вооружение населения, которое должно было, при угрозе крымского нашествия, выйти на защиту засечных укреплений.
Еще в 1517 вооруженное ополчение, наши «минитмены», отрезали путь к отступлению татарскому князю Токузак-мурзе. Когда подоспели дети боярские, то крымская орда попала в «мешок» – из 20 тысяч степных грабителей вернулось в Крым только 5 тысяч.
Поголовно было вооружено население и на западной границе государства.
С каждым годом нарастала и вооруженность посошных и даточных людей огнестрельным оружием – правительство напрямую способствовало этому.
Размеры посошной рати свидетельствовали о мобилизационном характере русского государства, о постоянной военной угрозе на его рубежах. Посоха ни разу не поднимала восстания против государства, несмотря на военную подготовку и вооруженность. Заметим что соседние государства, литовское, польское, ливонское никогда не осмеливалось на масштабное вооружение простонародья и привлечение его к воинской службе.
К посошным ратникам относятся и слова итальянского путешественника Франческо Тьеполо: «Он (Иван Грозный) совершенствует своих московитов в военном деле не только во время войн, но и в мирное время».
Огромную роль сыграют ополченцы из простонародья и в прекращении Смуты в 1612.
Военно-мобилизационные реформы 1550 и 1556
Основу русского войска составляли служилые люди. Служилые по «отечеству» представляли собой людей, владевших землями лично, по наследственному праву. Это была довольно разношерстная масса, от князей, княжат, бояр, обладавших огромными вотчинами, до мелких землевладельцев – жильцов, дворян и детей боярских. Высшие аристократы приводили с собой на войну свои дружины, отряды собственных военных слуг, вольных и зависимых. Так, князья Воротынские из юго-западного края, перешедшего от Литвы, приводили на войну несколько тысяч боевых холопов. Князья и бояре давали своим слугам как земельное жалование, так и денежное, благо у аристократов хватало и земель, и финансовых средств, полученного от кормлений.
До XVI в. любой из аристократов мог выйти из московской службы, перейдя в вассалы другого государя, например, литовского. Поэтому, с начала XVI в. русские государи (литовские сделали это еще раньше) отменили право боярского перехода.
Со времени Ивана III стал расширяться слой великокняжеских воинов, получавших от государя землю в условное владение, обусловленное военной службой. Из вотчин, отобранных у новгородских бояр, великий князь Иван образовал фонд земель для раздачи поместному войску. «Боярским детям» выделялись небольшие поместья в 150 десятин, на которых располагалось 10–20 крестьянских дворов. Помещик не имел личной и судебной власти над крестьянами. Он лишь получал часть собираемых с крестьян натуральных или денежных податей. Та земля, которая обрабатывалась крестьянами для снабжения воина, не была постоянной; община могла хоть каждый год переопределять ее местоположение.
Поместье оставалось государственной собственностью, причитающиеся помещику платежи и оброки были твердо зафиксированные в переписных листах. Фактически, московские помещики XVI в жили на государственное жалованье.
Воин, получивший от государства поместье, должен был по первому требованию правительства являться на войну или военный смотр с конем и в доспехе. За неявку на смотр или войну поместье отнималось.
На западе схожая система называлась ленной, и применялась, к примеру, в Германской империи. Была она распространена и в Османской империи, где поместья назывались «тимарами», а в XVI в. османы обладали мощной армией, перед которой дрожала мелкой дрожью вся Европа.
Однако и после Ивана III сохранялись прежние виды путаной нестандартизованной службы с вотчин и кормлений.
Царь Иван IV проводит ряд последовательных мер, которые призваны создать мощный государственный служилый класс. Владение землей должно быть платой за службу стране (а не за знатность), а продвижение по службе определяться личными достоинствами (а не знатностью).
Отмена местничества входила в число государственных приоритетов. Оно, являясь крайне живучим атавизмом русской феодальной системы, приводило к тому, что государственные и военные посты распределялись между знатными людьми в соответствии с родовитостью их фамилии. «Обыкли (привыкли) большая братья на большая места седати». Местничество препятствовало назначению на высокие посты одаренных людей, которым не повезло с происхождением, отчего ответственные должности оставались за тупицами, обладающими хорошей родословной. С его помощью князья и бояре оккупировали руководящие посты, добавляя чиновную власть к земельной собственности. Скажем, одаренный военачальник Дмитрий Хворостинин князем был захудалым, относящимся к отдаленной боковой ветви ярославского княжеского дома, поэтому и должен был регулярно уступать командные посты высокородным людям, не обремененным никакими собственными достоинствами.
Часто местнические родословные счета не давали однозначного ответа, кто, из претендентов на высокий пост, родовитее. Командный состав продолжал выяснять, кто круче, прямо в ходе боевых действий. Это становилось причиной поражений и провалов хорошо подготовленных, в материальном плане, военных походов.
После неудачного казанского похода 1549, заполненного местническими спорами, в июле 1550 г., состоялся приговор царя с митрополитом и боярами о местничестве.
Приговор состоял из двух основных решений. Первое касалось местничества вообще. Указывалось, что князьям, княжатам, дворянам и детям боярским надлежит быть на службе с воеводами «без мест». То есть, знатные воины не должны спорить друг с другом и с уже назначенными командующими за места. Правда, далее в приговоре было записано: если знатным людям, пришлось служить с воеводами «не по своему отечеству», но в будущем они получат воеводские должности, то их местнические счеты с прежними воеводами признаются действительными и воеводы должны быть «по своему отечеству».
Несмотря на половинчатость приговора, он ослаблял местничество, способствовал укреплению воинской дисциплины и единоначалия.
Приговор также определял подчиненность воевод по полкам: первому воеводе большого полка обязаны были подчиняться первые воеводы полков правой руки, левой руки, передового и сторожевого. Последние были равны как между собой, так и со вторым воеводой большого полка.
Хотя местничество сохраняло силу, данный приговор привел к тому, что знать уже не могла претендовать на командные посты в силу одних только местнических счетов 1 октября 1550 г. состоялся приговор царя с боярами о наделении 1071 детей боярских землей в непосредственной близости от столицы.
Приговором предусматривалось «учинить» в Московском уезде, Дмитрове, Рузе, Звенигороде, в оброчных и других деревнях от Москвы за 60–70 верст «помещиков детей боярских лутчих слуг». Указанные дети боярские были разделены на три статьи и получили поместья: первая статья по 200, вторая по 150 и третья – по 100 четей. Всего по приговору было «испомещено» в окрестностях Москвы 1078 человек и роздано 118200 четвертей земли в поместное владение.
Согласно этому приговору многие княжата, потомки удельных князей, перебирались из своих родовых вотчин в подмосковные поместья. Княжата становились служилыми дворянами и лишались связи с теми местами, где они владели наследственными землями в качестве потомков удельных князей.
Вместе с аристократами в состав «ближнего войска» попадало и худородное дворянство – сыновья русских воинов, сгинувших в литовском плену после злополучной оршинской битвы 1514 г., сыновья погибших воинов, значащихся в синодике Успенского собора («храбрствовавшие и убиенные по благочестию за святые церкви и за православисе христианство»). Эта люди, оказавшиеся в числе «ближнего войска» не за родовитость, а за заслуги отцов, будут направляться, в протяжении всего царствования Ивана IV, на важные государственные должности.
Английский путешественник Ченслер, ознакомившийся в середине 1550-х с русскими правилами службы, пишет с заметным воодушевлением, причем не на темы тирании: «Русские не могут сказать, как говорят ленивцы в Англии: я найду королеве человека служить вместо себя или проживать с друзьями дома, если есть достаточно денег. Нет, это невозможно в здешней стране; русские должны подавать униженные челобитные о принятии их на службу, и чем чаще кто посылается в войны, тем в большей милости у государя он себя считает… Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними, а от их соседей сохранились бы только кой-какие остатки!»
Еще во время Земского собора 1548-49 гг. царь Иван предложил определить площадь всех земель, находящихся в вотчинном (наследственном) и поместном (временном) владении, чтобы затем все доступные земли справедливо разверстать между служилыми людьми, поставив земельное владение в зависимость от исполняемой службы.
Приговор 1556 года был, во многом, реализацией этого предложения.
В первой своей части, он отменял кормления, поскольку князья и бояре, получившие наместничества, «многие грады и волости пусты учинили… и много злокозненных дел на них учиниша…».
Вторая часть приговора, имеющая название «Уложение о службе» четко поставила землевладение в зависимость от государственной службы, по сути сделав любого землевладельца военнообязанным.
«Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми землями завладали, службою оскудеша, – не против государева жалования и своих вотчин служба их».
Этот параграф Уложения определял существующую проблему: феодалы являлись в поход с тем количеством людей и с тем оружием, которое не соответствовала их богатству и размерам их земельных владений. В общем, жадничали и экономили.
«Государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша»
Землемерие было учинено в 1551 г., когда по единому писцовому наказу по всей стране писцы начали измерять земельные владения в общегосударственной налоговой единице – «сохе». В качестве пособия писцы, кстати, использовали «Книгу, именуемую Геометрия или Землемерие».
«Комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим»
Был произведенен определенный передел земель, когда земельные излишки от крупных владельцев передавались мелкопоместным воинам.
«А с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей земличеловек на коне и в доспехе полном, а в далной поход о дву конь».
Сто четвертей земли – это около 50 га. С этих пятидесяти гектаров доброй земли должен был выставляться воин на коне и в доспехах, а для дальнего походах «о дву конь».
Если у землевладельца было 200 четей земли, то помимо себя должен был привести с собой в поход одного ратника на коне, с оружием и в доспехах, если 300 четей – двух ратников. И так далее.
Приравнивая вотчину к поместью, Уложение наносило серьезный удар по привилегированному землевладению, которое являлось краеугольным камнем феодальной системы. Оно обеспечивало каждого воина земельным окладом по четким нормам.
Учитывая, что земля была тогда основным активом, то Уложение 1556 принуждало всех богатых собственников, весь верхний социальный слой, нести службу для своей страны. Доход с земли, согласно этому предложению, должен был стать платой за государственную службу. Кратко формулируя, хочешь владеть землей – служи.
«И хто послужит по земли и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на уложеные люди дает денежное жалование»
Этот параграф означал, что землевладелец, выполнивший норму мобилизации вооруженных людей со своей земли, получал жалованье из казны, также, как и выставленные им ратники.
«А хто землю держит, а службы с нее не платит на тех на самех имати денги за люди.»
Если землевладелец не приводил положенное по нормам количество ратников, то платил штрафные деньги в казну.
«А хто дает в службу люди лишние перед землею, через уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем их перед уложеными в полътретиа давати денгами».
За вооруженных людей, выставленных на службу сверх установленной нормы, землевладелец получал бо́льшее жалование, а сами эти ратники зарабатывали в два с половиной раза больше обычного.
Если поместный воин проявлял себя недостойно, то поместье у него отнимали, если он хорошо показывал себя в бою, то «поместную дачу» увеличивали. За воином, уходившем в отставку по старости или по ранению, оставалась в виде земельной пенсии, часть поместья, «прожиток». Эта часть была закреплена за его женой и детьми и после его смерти, пока сын помещика не получал свои 100 четвертей, положенные новобранцу («новику»).
Каждый дворянин, достигший пятнадцатилетнего возраста, являлся или в Разряд (московский приказ, занимавшийся порядком службы), или в Приказную избу в ближайшем городе. Там подавал челобитную, в которой определял, будет ли он служить с отцовской земли, или с «прожитка», или ему нужен свой новичный оклад (поместный надел).
При объявлении похода служилый человек обязан был зарегистрироваться у полкового начальника. В «смотренные» списки вносилось его имя, а также то, как он «конен» и «оружен».
Собравшиеся служилые люди выбирали «окладчиков», которые записывали в «десятенные» книги все подробности мобилизации: кто явился на службу «сполна по окладу», кто несполна, а кто привел людей больше, чем требовалось по окладу.
Фанатичные либералы увидят в реформе 1556 «огосударствление», но государство в данном случае выступало, как инструмент сопоставления привилегий и повинностей, что было крайне важно для общества после столетий феодального хаоса.
Четко устанавливая зависимость землевладения от службы, реформа отворяла доступ в служилое сословие представителям низких сословных групп – «поповичей и простого всенародства», как выражался недовольный Курбский.