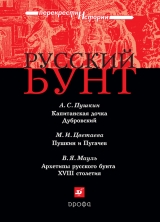
Текст книги "Русский бунт"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Марина Цветаева,В. Мауль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Пугачев же в образе Петра III неоднократно заявлял о намерении восстановить обязательную службу дворян, а крестьянскую крепость – ликвидировать, т. е. опять-таки декларировал намерения действовать наперекор екатерининской политике, стремился восстановить гармоничные, «правильные» социальные взаимоотношения. Неоднократно повстанческий вождь сокрушался по поводу несправедливости сложившихся в государстве порядков: «А главная-де причина – вот чем я им был не люб: многия-де из бояр-та, молодые люди и середовичи... годныя бы еще служить, взявши себе чин, пойдет в отставку да и живет себе в деревне с крестьянами, разоряет их... так я-де стал таковых принуждать в службу и хотел... чтоб они служили на одном жалованье» [89; 194]. При этом место дворян во властной иерархии должны были занять казаки – прочный оплот старины, оказавшиеся в XVIII веке под мощным прессом правительственного давления.
Нарушение традиционных канонов казачьей жизни порождало у повстанческого императора надежду в заинтересованности казаков перевернуть государственные порядки: «В сие то время я разсудил наимяно-вать себя бывшим государем Петром Третиим в чаянии том, что яицкие казаки по обольщению моему скоряй чем в другом месте меня признают и помогут мне в моем намерении действительно» [96]. Сподвижник повстанческого вождя Иван Почиталин в сво-их показаниях отмечал, что Пугачев все время «проговаривал: когда он всю Россию завоюет, то зделает Яик Петербургом, яицких казаков производить будет в первое достоинство за то, что они – причиною возведения его паки на царство» [89; 111 – 112].
В рамках господствовавшего тогда мифологического мышления простая механическая перестановка социального «верха» и «низа» была невозможна. Она неизбежно должна была облечься в форму знаковой перемены, что побудило пугачевцев произвести серию символических переименований: например, яицкий казак И. Зарубин «превратился» в графа Чернышева, А. Овчинников – в графа Панина, М. Шигаев – в графа Воронцова.
В масштабе традиционного социокультурного измерения подобные действия допустимо рассматривать как парадоксальные, но никоим образом не как примитивные.
В мифологическом пространстве объект, «попадая на новое место... может утрачивать связь со своим предшествующим состоянием и становиться другим объектом (в некоторых случаях этому может со-ответствовать и перемена имени)» [57; 435, 439]. По сути дела, мифологическое сознание бунтовщиков слагает здесь свои сакральные имена. Если для нас «имя собственное (к примеру, Иван, Москва, Христос) только обозначает объект, является его “этикеткой” или “визитной карточкой”, то в глазах людей, мыслящих по законам “мифологического сознания”, любой словесный знак, любой эпитет может стать именем собственным...» [126; 70].
Пополнялась и сакральная топонимика[40]40
Топонимика – совокупность топонимов (собственных названий географических объектов – города, реки, горы и т. п.).
[Закрыть]. Повстанческая столица Берда была наименована Москвой и в возрождаемой пугачевцами «святой Руси» заняла ее место. Показательно, что речь шла именно о Москве, но не о Петербурге, который в сознании простонародья символизировал государственное начало, в то время как Москва – центр духовный, символ «праведного» царства. Не случайно, что Петербургом – административной столицей – назван Яицкий городок, являвшийся центром Яицкого казачьего войска. Названная же Москвой Берда символически стала «Новым Иерусалимом», сердцевиной праведной земли, местом сгущения традиционного социокультурного пространства.
В сакральной топонимике бунтовщиков могли находить выражение страхи и другие эмоциональные переживания общественных низов. Поэтому, назвав Берду Москвой и т. д., Пугачев не сомневался, что новая «этикетка» в массовом сознании повстанцев прочно «прилеплялась» к ее сущностному смыслу. В Поволжье, на Урале, в других районах, охваченных бунтом, пугачевцы создавали свое собственное «святое царство», исправлявшее со знаком наоборот «перевернутый» мир господ.
В глазах пугачевцев этот мир выступал как изнаночный, маскарадный, воспринимался ими по зеркальным канонам смеховой культуры. Поэтому поведение правящих кругов казалось им глумливым выворачиванием наизнанку устоев социальной правды, нарочитой пародией, бесовскими игрищами.
Едва ли кого могло удивить, что именно в эпоху, когда прежняя система ценностей усиленно искоренялась, получило развитие сценическое, зрелищное искусство. Это было привычно-непривычное явление. Зрелища, культивируемые правящими кругами в условиях переходного периода, теперь строились на иных, чем прежде, принципах. Согласно наблюдению ученых, «театральная идентификация была абсолютно условной, никак не связывалась с жизненными коллизиями эпохи, но ее семантическое ядро все-таки вызывало ассоциации с реальностью, в которой человек менял маски, изменял свое поведение, примериваясь к различным амплуа» [105; 10].
Происходило взаимопроникновение реальной жизни и ауры театральных подмостков, одно оказывало влияние на другое. Театр, использовавший маску, напоминал один из самых распространенных праздников ХVIII века – маскарад. И в этом обстоятельстве носители традиционной ментальности могли усмотреть смысловой подтекст.
Вспомним, что в средневековье при разоблачении еретиков публично демонстрировалось, что они принадлежат к антимиру, к кромешному (адскому) миру, т. е. являются «ненастоящими». Но в театре, по сути дела, происходило карнавальное саморазоблачение: «переодеваясь» в чужой образ, меняя маски, танцуя и веселясь, участники сценических действий символически словно бы сами заявляли о своей принадлежности к миру иному, о себе – как о ряженых. В этом случае невольно мог осознаваться известный афоризм: жизнь есть театр, в котором люди – актеры, играющие роли. Но и наоборот. Театр есть жизнь. Бесовскому искусству «Северной Минервы» повстанцы с неизбежностью должны были противопоставить свою собственную игру, сценическому зрелищу господ – зрелище народного бунта, или, образно говоря, им было необходимо «протанцевать» свой протест. Признание данного обстоятельства помогает лучше понять не только резкое усиление игрового элемента в русской культуре переходной эпохи вообще, но и так называемую «игру в царя», благодаря которой «смешным» нередко выглядел и сам пугачевский бунт.
Итак, рассматривая события 1773 – 1775 годов, убеждаемся в том, что кризис традиционной идентичности обнаруживал себя в культурном расколе XVIII века, когда порядки, создаваемые в процессе модернизации, воспринимались социальными низами как утверждение «перевернутого» мира, торжество «кромешных» сил. Соответственно, встав на защиту традиции, пугачевцы пытались всем своим действиям придать противоположную смысловую нагрузку, стремились к возрождению подлинно «святой Руси». В этой сакральной державе истинно верующий получал статус верноподданного во всех смыслах слова. Такой статус души стремился установить и укрепить пугачевский бунт.
«Игра в царя» в этом контексте представала как игра в сакральное, всемогущее существо. При этом «порядок, устанавливаемый игрой, непреложен. Малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер, лишает ее собственной ценности» [134; 29].
Игра имеет место только тогда, когда все участники соблюдают ее правила. Этим, как представляется, можно объяснить тот факт, что большинство самозванцев почти не оставили следа в истории, и только те из них, кто «докричался» до народа и получил поддержку определенных социальных слоев, оставили память о себе и своих поступках. Иначе говоря, «одни самозванцы лучше играли свою роль», в то время как «другие претенденты на престол не соблюдали общепринятых “правил игры” или же чаще их нарушали» [125; 54].
Многие из «классических» игровых сюжетов отмечены и в истории пугачевского бунта. В соответствии с условиями игры в ней обязательно должен быть ведущий – игровой «царь», который избирался участниками и на которого возлагались соответствующие ролевые полномочия, как это произошло, например, во время объявления среди яицких казаков «амператора Петра Федаровича». Вот что об этом рассказал казачий сотник Т. Мясников во время допроса: «И так для сих-то самых причин вздумали мы назвать его, Пугачева, покойным государем Петром Федоровичем, дабы он нам восстановил все обряды, какие до сего времени были, а бояр, какие больше всего в сем деле умничают и нас разоряют, – всех истребить» [68; 24]. Один из крупнейших вождей пугачевского бунта яицкий казак Иван Зарубин дополнил сведения: «А Ко-роваев стал говорить, что ето-де не государь, а донской казак, – и вместо государя за нас заступит, – нам-де все ровно, лишь быть в добре. И он, Зарубин, услыша, положив о том, что так тому и быть, ибо всему войсковому народу то было надобно» [89; 130].
Сложно с уверенностью утверждать о степени информированности казаков относительно реального происхождения Пугачева-Петра III. Источники сохранили противоречивые свидетельства на сей счет, да и чего не скажешь под нажимом следователя. Поэтому вслед за Н. Я. Эйдельманом попытаемся вникнуть в психологию самоубеждения тех, кто, может быть, и сомневался в «истинности» своего предводителя. «Пусть Пугачев не царь, но окружающие должны верить; а поверив, назвав его царем – уже присягнули и одним звуком царского титула передали ему нечто таинственное. А он сам, понимая, что они не очень-то верят, ведет себя так, будто они верят безоговорочно, и сам себя этим еще сильнее заряжает, убеждает – а его убеждение к ним, “генералам”, возвращается! К тому же старшие видят магическое влияние государева слова на десятки тысяч людей, и после этого уж самый упорный привыкнет, самому себе шепнет: “А кто ж его знает? Конечно, не царь, но все же не простой человек; может быть, царский дух в мужика воплотился?”» [139; 108]. Иначе говоря, уже сам факт называния царем в глазах простонародья имел религиозный аспект, означал претензию на сакральный статус.
В такой интерпретации самозванец мог выступать в своеобразной роли ряженого, дополняя ряд других знаковых «переряживаний»: Берды – в Москву, Яицкого городка – в Петербург, Зарубина – в Чернышева и т. д., что в содержательном плане соответствовало кощунственному стремлению через внешнее подобие обрести сакральные свойства.
Важным компонентом «игры» являлось принесение присяги: «придите ко мне с послушанием и, по-ложа оружие свое пред знаменами моими, явите свою верноподданническую мне, великому государю, верность», – призывал повстанческий «Петр III» своих потенциальных сподвижников [33; 24]. Клятва вассальной верности, даваемая каждым пугачевцем, подразумевала разрыв контактов с официальным миром господ. Игра, как известно, предполагает наличие минимум двух сторон, которые должны отличаться друг от друга. Это придавало значимость внешней атрибутике. Поэтому клятва дублировалась своеобразным «постригом» – по-казачьи. Сообщения об этом разбросаны по страницам источников по истории пугачевщины. «Ежели-де бог велит мне царством владеть, – говорил Пугачев, – то я велю всем... волосы стричь по-казачьи» [89; 188]. После взятия пугачевцами крепости Магнитной «у солдат отрезали косы, что символизировало признание ими в качестве государя Петра III» [76; 20]. И это далеко не единичные примеры подобных действий русских бунтарей. Тождество внешнего облика повстанцев должно было символизировать принадлежность к своеобразному «братству» избранных, «играющих» на одной стороне. В контексте игрового сюжета присяга могла рассматриваться как подтверждение своей готовности стать участником игры, т. е. принять и соблюдать ее правила. Если принявшие «постриг» становились «своими» – «праведниками», то не пожелавшие играть – «грешниками», наказание которых – богоугодное дело.
В начавшейся игре ролевой образ выбранного «царя» предполагал соответствующее знаковой смене статуса поведение. «Царь» должен был обрушивать на «подданных» свою «грозу». А те, в свою очередь, молить его: «Государь-царь, пощади». Коль скоро в ходе игры выбранному «царю» полагалось налагать на подданных опалы, не стоит удивляться, что повстанческий смех нередко проявлялся и в многочисленных казнях бунтарями своих противников.
Например, смеховой «начинкой» казни через повешение, распространенной у повстанцев, могло быть ироническое «возвышение». Для дворян большое значение имело понятие социального и служебного статуса. Смысл их жизни заключался в стремлении подняться вверх по социальной и служебной лестнице. Повешение в символическом плане – это и есть буквальное повышение, «повесить повыше». Поэтому, например, пугачевцы «каждаго помещика, кого застать могут, всех намерение имели вешать, в чем подлой народ, смотря на сие, веселится и тем больше веруют» [90; 127 – 128].
Поистине «игровыми» нередко выглядели расправы самозваного царя – Пугачева. На допросе в Яиц-кой секретной комиссии он сообщал о захвате Черно-реченской крепости: «Тут был один афицер, не знаю кто, хотел было от меня ускакать в Оренбург. Однако ж велел ево, поймав, повесить, приговаривая, что от великаго государя бегать незачем» [36; 84].
Оттенок ритуально-символического смеха слышится и в словах народной исторической песни, в которой Пугачев с горькой иронией сетует:
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы на шею варовинны возжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил [66; 266].
Или наоборот – сбрасывание с башни вниз – это мгновенная перемена «верха» и «низа». Поэтому сбрасывание с башни означает символическое развенчание, как это было, например, в Путивле периода Смуты, где «вор Петрушка... игумена Деонисия скинул з башни и убил до смерти», или в Астрахани во время разинщины, когда «с высокой башни правитель города был свергнут вниз». К тому же здесь умерщвление происходит через удар об землю, которая народной культурой относится к сакральным стихиям. Смеховое прочтение допустимо и при подвешивании бунтарями своих жертв за ноги. Например, в селе Чернавском пугачевцы «велели священнику идти к злодейскому их полковнику... который, будучи с крестом, в ризах и епатрахиле... помянутым полковником застрелен и за ноги повешен вне церкви». Перевертывание «вверх ногами» здесь подобно тому, как сам бунт переворачивал в целом все существовавшие порядки. Оппозиция «верха» и «низа» в традиционной культуре имела глобально-обобщенный смысл [110; 155; 115; 109; 90; 386].
Известно, что публичная казнь в доиндустри-альные времена всегда привлекала внимание многочисленных зевак. При этом личность жертвы редко вызывала сочувствие. Не были исключением и казни в стане Пугачева, которые также стягивали значительное количество людей, охочих до кровавых зрелищ. Так было и в эпизоде казни дворового человека Якова в Яицком городке в начале 1774 года, во время которой «топором же сечь было некому. Тогда Пугачев и Авчинников, оборотясь назад прямо на него Ефремова (где он тогда зрителем же был), приказывали ему итьтить и рубить, почему он... не смея отговоритца против самозванцева приказа, не говоря ни слова, пошел и рубил того человека на части: сперва отрубил руки и ноги, а потом голову» [89; 181]. Здесь звучит зловещий, буквально «сатанинский» смех пугачевцев, поскольку в традиционном сознании палачи ассоциируются с колдунами – и тем и другим приписывается антиповедение. Поэтому столь святотатственным, с точки зрения Ефремова, казалось его приобщение к палаческой должности, т. е. в конечном счете к «миру иному». Ефремов с ужасом вспоминал о своих опасениях, «что и впредь употребляем будет в сей же должности, чего ему делать не хотелось» [89; 181]. С большим трудом, с помощью подкупа, ему удалось избежать этой опасности.
Обратим внимание, что Ефремов рубит свою жертву топором, который в традиционном обществе имел определенное культурное значение. Угроза топором, как известно, была своеобразным ритуалом исцеления от болезни, очищающим обрядом, т. е. словесной формой излечения. Важно и то, что «здоровье» – это значимая категория, противостоящая «болезни» и «смерти». Исцеление словом означает некое магическое действие, в котором топор, как видим, играет далеко не последнюю роль. Иначе говоря, топор связан с магией слов. Подтверждает сказанное, например, и русская народная сказка. «Приехал [Емеля] в лес: “По щучьему веленью, по моему хотенью – топор, наруби дровишек посуше...” Топор начал рубить, колоть сухие дерева... Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку – такую, чтобы насилу поднять» [101; 414][41]41
Наличие традиционной символики топора подтверждает, например, и тот факт, что во времена Петра I, когда стала активно насаждаться новая культура, смертная казнь через отсечение головы начала совершаться уже не топором, а мечом.
[Закрыть]. К тому же глагол «рубить» также имеет символический смысл – он означает насилие, рассечение первотела жертвы.
Связь рассечения жертвы топором с сакральным процессом Сотворения Мира (моделью которого является строительство дома – говорят так: «рубить дом») превращает казнь Якова в своеобразный архаичный об-ряд жертвоприношения. Воспринимая дом как священное место, полагаем его точкой сгущения культурного пространства, в котором проявляется известная оппозиция «свой» – «чужой». Если «свой» дом – это модель мира, его строительство выступает сакральным процессом, то «чужой» дом – это модель антимира. Пребывание в нем накладывает свою сатанинскую печать. Поэтому дворовой человек Яков, постоянно там проживавший, избавляясь от скверны, должен был стать искупительной жертвой.
С символическим смехом мы сталкиваемся и во время других протестных выступлений в истории Руси/России. Например, в ходе стрелецкого бунта 1682 года в Москве восставшие чинили многочисленные расправы: «Но едва он [князь Юрий Долгоруков. – В. M.] успел сотворить крестное знамение, как был сброшен на копья. Труп его выволокли за ворота и разрубили на части; одни, распоровши живот, клали в него рыбу, приговаривая: “Ешь теперь, князь, вкусно, так, как поедал ты наше добро…”» [28; 16].
В данном примере смеховой контекст прослеживается в том, что высокий статус князя Долгорукова, принадлежавшего к одному из наиболее знатных российских родов, снижается посредством перевода ситуации к материально-телесному низу. В целом умирающее/рождающееся тело человека привлекло особое внимание народного смеха к его рту, заду и брюху (чреву). Поэтому весь эпизод в смысловом отношении связывается с высмеиванием различных частей тела.
Определенные элементы «смеха» можно предположить и в распространенной у пугачевцев казни через обезглавливание, формально выглядевшей как отделение «верха» от «низа». Конкретные примеры пугачевских расправ и их символику рассмотрим в дальнейшем, а сейчас отметим, что подобные смысловые коллизии были характерны и для других русских бунтов. Например, о пугачевском земляке Разине иностранный современник писал так: «Стеньку нельзя было бы отличить от остальных, ежели бы он не выделялся по чести, которую ему оказывали, когда все во время беседы с ним становились на колени и склонялись головою до земли...» [119; 363].
Склонение (опускание до земли) головы являлось своеобразным утверждением более высокого статуса того лица, перед которым склонялись. Отрубание головы – это и есть ее ритуально-символическое «склонение до земли», т. е. понижение и унижение незаслуженно высокого. Вполне понятно, как свидетельствуют источники, что «такое несчастье постигало большею частью начальников», далеко возносившихся в своих мечтах и гордо державших голову высоко поднятой. Этот мотив зафиксирован и фольклором, например исторической песней «Казаки убивают Карамышева»:
Подымается с Москвы большой боярин,
Он на тихий Дон на Иванович гуляти.
Не доехавши он тиха Дону становился,
Похвалялся он казаков всех там перевешать.
Во единой круг казаки тотчас собирались,
Посередь круга становился царев боярин,
Он начал читать государевы для них указы.
Дочитался он до царского только титула,
Казаки тотчас все шапки тут поснимали,
А большой-ат царев боярин шляпы не снял,
Оттого-то все казаки тотчас взволновались,
Разъярившись, они на боярина вдруг бросались,
Буйну голову от бела тела отрубили,
А бело тело во тихий они Дон бросали,
А убивши, они его телу говорили:
«Почитай ты, большой боярин, государя,
Не гордися ты перед ним, боярин, и не славься» [66; 172].
Покрытая голова воспринимается здесь как оскорбительное для всех возвышение своего статуса перед царем. Поэтому расправа над Карамышевым – «голову от бела тела отрубили» – символически понималась казаками как статусное понижение казнимого до абсолютного низа, ибо перед лицом государя подданные находились на прямо противоположном социальном полюсе.
Заметим, что упоминания о повстанческом смехе нередко прямо присутствуют в расспросных и пыточных речах пугачевцев. Например, неоднократно указывалось, что во время многочисленных казней повстанцы «много тем веселились», совершали их «ради потехи» и т. п. Таким образом, можно утвердительно констатировать наличие повстанческого смеха в жестоких расправах пугачевцев со своими противниками.
В соответствии с правилами у игрового «царя», разумеется, должен был быть свой символически понимаемый дворец. В показаниях Т. Мясникова приведены подробности обустройства этого «дворца»: «Самозванец жил в доме берденскаго жителя Ситникова, так как етот дом был из лутчих и назывался дворцом государевым, у котораго на крыльце всегда непременной стоял караул, состоящий из выбранных нарочно для сего лутчих яицких казаков, дватцати пяти человек. И буде куда он отлучался, то всегда за ним и ездили, и для сего и назывались они гвардиею. Покой у него был обит вместо обоев шумихою, по стенам зеркалы и портрет государя цесаревича Павла Петровича... Дежурным всегда при нем был из яиц-ких казаков Еким Давилин. В покое с ним никто не начевывал, кроме двух живших у него руских девок, а чьи такия, – не знает, и двух мальчиков... которых он называл своими детьми; показанныя ж девки были у него стряпухами» [87; 100].
В этом «дворце», как видим, есть все необходимые «царские атрибуты»: и государевы покои, «пышно» убранные, и почетный караул, который несет «придворная гвардия», здесь же прислуга, а также мальчики, играющие роль своеобразных пажей. Все как должно быть. Не хватает во дворце только «хозяйки» – государыни, а без нее образ игрового «царя» не полон, не завершен. Поэтому «возвратяся» из Яицкого городка в Берду, Пугачев «объявил всему войску, что он, будучи на Яике, женился на тамошней казачей дочери Устинье Петровне. А потому и приказывал всем ее признавать и почитать за царицу…» [87; 101].
При императрице появился свой двор, свои фрейлины – «дочь яицкаго казака Чреватина Марья, а другая – Парасковья Чапурина, да и окроме оных при ней находились множество, и все почитали ее царицею. О чем надобно было ей докладывать, то все, при ней бывшия, называли: “Ваше императорское величество! Как изволите приказать?”» [89; 119].
Однако в процессе «игры» избранная царица тоже должна вести себя соответствующим образом, по «правилам». В этом заключалось обязательное игровое требование, но «Устинья никогда из дому своего не выходила... ни в какия главныя дела не входила... и ничего другова не делала, как сидя во дворце, разговаривала со своими подругами» [89; 119].
Таким поведением «царица» словно сигнализировала о своем выходе из игры, о нежелании ее продолжать. Поэтому «сия его женидьба» вызвала у некоторых «сумнение такое, что государи на простых никогда не женятся, а всегда берут за себя из иных государств царскую или королевскую дочь», – выразил массовые настроения Т. Мясников [87; 101].
Игра может продолжаться лишь до тех пор, пока ее участники придерживаются общепринятых правил. Нарушение игрового стереотипа табуируется культурными установками, оно подрывает веру в подлинность нарушителя, что приводит к печальной развязке. Пережив в «царственном» бракосочетании свой апогей, игра заметно истощила потенциал, и играющие стремились быстрее сделать последние предусмотренные ходы, чтобы ее закончить.
Но каковыми должны были быть эти самые ходы? Любопытный финал фольклорная игра предложила, например, в Богемии. Переходя к развенчанию названого короля, крестьяне организовывали над ним суд. «По его окончании судья... объявляет приговор словами “виновен” или “невиновен”. Затем судья трижды громким голосом произносит слово “виновен” и приказывает глашатаю обезглавить Короля». В некоторых районах Богемии королю давали последнюю возможность испытать свою судьбу: «В сопровождении судьи, палача и других ряженых с целой свитой солдат Король выезжает на сельскую площадь...» Затем «кавалькада всадников скачет на заранее намеченное место на прямой и широкой улице. Здесь конные выстраиваются в два ряда и Король пускается в бегство. Ему дают возможность на полной скорости отъехать от группы, которая некоторое время спустя начинает преследование. Если Короля настичь не удается, он сохраняет за собой этот титул на следующий год... Если же его настигали, то наказывали прутьями из орешника или били деревянными мечами и принуждали спешиться. После этого палач задавал вопрос: “Нужно ли мне обезглавить этого Короля?” На это ему отвечали: “Обезглавь его”. Палач взмахивал своей секирой и со словами: “Раз, два, три – и Король без головы!” – сбивал с его головы корону. Под громкие возгласы присутствующих Король падал на землю...» [133; 335 – 336].
Нечто похожее имело место и во время пугачевщины. Пока Пугачев бежал, но бегство его казалось «нашествием», все было в порядке. Бунтовщики убеждались, что ему удается сохранять свою сакральную силу. Когда же магическое могущество, как казалось, покинуло «царя», его войско стало терпеть одну неудачу за другой. Ситуация принципиально изменилась. На попытки Пугачева по-прежнему играть свою роль: «Што вы ето делаете? Вить ты сам знаешь божие писание: кто на бога и на государя руку подымет, тому не будет прощения ни здесь, ни в будущем веке», казаки отвечают явно выраженным отказом: «Нет, нет! полно! Уже не хотим больше проливать крови!.. Полно уж тебе разорять Россию и проливать безвинную кровь!» Однако правила игры заставляли предоставить «царю» возможность бежать, доказать, что сила все еще на его стороне: «Злодей... огленулся, между тем, и видя, што казаки немного поотстали от нас... чухнув лошадь и съворотя с дороги, поскакал в степь мелким камышом...» Итак, побег «царя» состоялся, его будущее теперь зависело только от него. «Я, вскричав ехавшим позади меня казакам: “Ушол! Ушол! – сообщал на допросе И. А. Творогов, – чухнув и свою лошадь за ним…” Но удача, как видно, оставила “царя”, догнав, связали злодею руки назад». Но и это была еще не вся развязка. Сумев вооружиться, Пугачев «шол прямо на него [Федулева. – В. М.], уставя в грудь пистолет, у котораго и курок спустил, но кремень осекся» [89; 158 – 160]. Могли ли быть более зримые доказательства того, что сакральные силы выбранного царя совсем иссякли?
К этому времени игровой «запал» уже окончательно истощился и игра плавно катилась к своему завершению. Хотя впереди был еще суд над «царем» – предусмотренная игрой возможность оправдаться. Вспомним фольклорное «виновен» или «не виновен». И только после этого последует пресловутое: «Раз, два, три – и король без головы!»
Как отмечают исследователи игрового пространства, столкнувшись с категорическим отказом (например, продолжать игру), водящий в игре впадает в отчаяние, чем-то напоминающее депрессию. Однако это состояние более острое и содержит элементы растерянности. Подобные эмоциональные реакции отчасти проявились и в поведении Пугачева, захваченного в плен правительственными войсками. В письме генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского Екатерине II выражалась обеспокоенность по поводу «весьма робкого характера» Е. И. Пугачева, «робости души его» [29; 146]. Свидетель его казни А. Т. Болотов отметил, что Пугачев «походил не столько на звероподобного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные, и весь вид ничего не значущий». На эшафоте он стоял «почти в онемении» и только крестился и шептал молитвы [38; 490]. «Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли прийти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете» [80; 132 – 133].
Безусловно, в источниках имеются и более лояльные свидетельства о поведении Пугачева в плену и во время казни. Один из современников, стоявший возле эшафота, написал: «Страх не был заметен на лице Пугачева. Он с большим присутствием духа сидел на скамейке, держа в руке горящую свечу, и именем Бога просил у всех прощения... Пугачев вошел на эшафот по лестнице... [его] раздевали, и он сам им с живостью помогал» [5; 548].
И. И. Дмитриев в своих мемуарах писал, что не заметил в чертах лица Пугачева «ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицом смугл и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый; волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином» [69; 180].
Однако подчеркнем, что депрессия, отчаяние, заторможенность не обязательно должны быть симптомами именно страха. В трусости Пугачева никто не обвиняет, однако героизировать его поведение на эшафоте тоже, думается, нет оснований. Заметим, что подобное «онемение», «оцепенение», «ошеломление» и другие реактивные признаки были свойственны и многим пугачевским сподвижникам, также оказавшимся в плену. Слишком внезапным и трагичным оказался для них эпилог игры. Отсюда и депрессивный психоз, заторможенность всех психических реакций и т. п. Считать их только обычным поведением человека накануне казни (может ли человек накануне казни вести себя обычно?), как представляется, едва ли достаточно для понимания культурной символики рассматриваемой ситуации.
Будучи одним из «текстов» традиционной культуры, пугачевский бунт в игровом поведении бунтовщиков реализовывал свою родовую связь с архаическим прошлым. Читаемый на «языке» традиционализма, он придавал глубокую социокультурную значимость каждому «жесту» участников, творивших игру.
Поскольку бунт – это сигнал тревоги об общем бедствии, о кризисе общественной идентичности, чтобы быть понятым, он должен был восприниматься на родном для него языке, т. е. на том, на котором и он писал свой «текст». Поэтому важным и несомненным результатом пугачевской «игры в царя» можно считать также то, что бунтовщикам удалось заставить дворянство оживить в своей памяти знакомый им прежде, но уже, казалось, забытый язык традиционной культуры.


