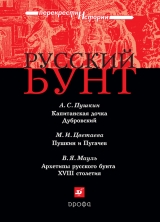
Текст книги "Русский бунт"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Марина Цветаева,В. Мауль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Вся беспокойная жизнь готовила его к святотатственному апофеозу – вживанию в сакральный образ императора Петра III. Маршруты Пугачева будто писаны заранее каким-то незримым роком. Он всякий раз оказывался в районах сильных оппозиционных брожений, сталкивался с людьми, недовольными существовавшими порядками: на Дону ли, на Тереке, в Таганроге или в раскольничьих скитах – везде бурлило море народного возмущения, социокультурная природа которого, разумеется, могла и не осознаваться простонародьем. Путь его «проходил через места, еще недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев» под именем Петра III. «Нельзя забывать, что в этих малороссийских и южнорусских землях появлению первых самозванцев предшествовали упорные толки в народе, будто Петр III жив и разъезжает по округе. Трудно предположить, чтобы все это не отозвалось в душе Пугачева и не отложилось в его памяти... Роль “третьего императора” была подсказана Пугачеву самой жизнью» [64; 320].
Пугачев услышал о самозванцах, и высокая самооценка нашла для себя новый подходящий ориентир: уже не образ «еретика и разбойника» Разина, а имя императора Петра III манило его, разжигало честолюбивые помыслы. Поэтому, узнав, что какой-то беглый солдат увидел в нем «подобие покойнаго государя Петра Третьяго», Пугачев, «обрадуясь сему случаю, утвердился принять на себя высокое название» [30; 111; 36; 109]. Жажда признания предполагала взаимность со стороны почитателей. Но пока Пугачев – все еще изгой, вынужденный находиться в бегах, скрываться, рассказывать о себе разного рода небылицы.
Попав осенью 1772 года на Яик, где только что отгремели раскаты казачьего восстания и свежа была память о нем, Пугачев сумел понять: судьба дарит ему шанс. Хотя карательному отряду генерала Фреймана удалось жестоко подавить бунт и уничтожить казачьи вольности, Яик находился в стадии грозового ожидания, готовности продолжить борьбу за восстановление своих былых привилегий. К тому же «в то время на Яике слышно было, что в Царицыне явился какой-то царь». Поселившись среди заволжских старообрядцев, побывав на Иргизе и в Яицком городке, Пугачев узнал подробности недавно подавленного мятежа и стал подговаривать яицких казаков к побегу на земли Закубанья: «Не лутче ль вам вытти с Яику в турецкую область, на Лобу реку, а на выход я вам дам денег... А, по приходе за-границу, встретит всех вас с радостию турецкой паша, и, есть ли де придет еще нужда в деньгах войску на проход, то паша даст еще, хотя и до пяти миллионов рублей» [89; 116].
Но за Кубанью лежали земли турецкие, а следовательно, заповедные для православного люда, земли иноверные, неблагочестивые, на которые не распространялась божественная благодать. Поэтому пугачевский призыв к побегу за Кубань – это не просто государственное преступление (измена), но и святотатственное «дьявольское искушение», которое провоцировало запретный выход из сакрального пространства святой Руси. И это было страшно для традиционного сознания. Но там, где обычный простолюдин прошлого должен был остановиться в благоговейном трепете, Пугачев, нарушая культурное табу, шел дальше, «маскируясь» в традиционные «одежки». Он не случайно напомнил собеседникам, что подобным образом в свое время поступили другие бунтовщики – соратники К. А. Булавина казаки-некрасовцы, ставшие объектом народной идеализации («город Игната»). От предложения Пугачева у казаков захватывало дух. Помощь, которую он предлагал, и сам способ спасения не могли исходить от обычного купца, каким он себя представил. Это вызывало не только естественное любопытство заинтригованных казаков: «что ты подлинно за человек», но и боязнь «беды», из-за чего в тот раз «въдаль любопытствовать» они не стали [89; 116].
Жребий был брошен, высокая самооценка потребовала от Пугачева адекватных шагов для ее реализации. Тогда же, в ноябре 1772 года, будущий великий вождь бунтовщиков предпринял и первую попытку «объявить» свое подлинное «высокое происхождение». «Вот, слушай, Денис Степаныч, – говорил он Д. С. Пьянову, – хоть поведаешь ты казакам, хоть не поведаешь, как хочешь, только знай, что я государь Петр Третий». И оной Пьянов изумился, а потом, помолчав немного, спросил: «Ну, коли ты государь, так расскажи-де мне, где ты странствовал». И он, Емелька, говорил: «Меня пришла гвардия и взяла под караул, а капитан Маслов и отпустил, и я-де ходил в Польше, в Цареграде, во Египте, а оттоль пришол к вам на Яик» [36; 147].
Однако в этот раз наметившееся было «воплощение» в высокой роли развития не получило. По поступившему к властям доносу Пугачева арестовали, 4 января 1773 года доставили в Казань и после допроса заключили в тюрьму. В связи с обвинением в государственной измене вопрос о нем рассматривался в Петербурге. По приговору, утвержденному Екатериной II, Пугачев был осужден на пожизненные каторжные работы в зауральский город Пелым. Приговор прибыл в Казань 1 июня 1773 года, через три дня после бегства арестанта. Даже находясь в тюремном остроге, Пугачев сумел внушить к себе доверие окружавших (колодники и солдаты почитали его «добрым человеком») и организовал удачный побег.
Розыски беглеца успехом не увенчались. Сбежав, он уже намеренно направился поближе к яицким казакам, укрывался в Таловом умете и глухих степных хуторах под Яицким городком. Встретился там с ветеранами восстания 1772 года И. Н. Зарубиным-Чикой, М. Г. Шигаевым, Т. Г. Мясниковым, Д. К. Караваевым, М. А. Кожевниковым и другими, которые вели продолжительные разговоры об яицких бедах. Пугачев принимал в них активное участие не только в роли слушателя, нередко сам задавал заинтересованные вопросы: «Какия вам, казакам, есть обиды и какие налоги?» Горько упрекал собеседников: «Как-де вам, яицким казакам, не стыдно, что вы терпите такое притеснение в ваших привилегиях!» [89; 128, 116]. И наконец, объявил себя «третьим императором». Напряженность собственной веры придала его словам громадную силу внушения. В ответ на появление «истинного» царя в сентябре 1773 года на Яике вспыхивает пугачевский бунт.
Переходная эпоха от традиционализма к индустриальному обществу завершалась. Общественно-политический и, главное, социокультурный кризис демонстрировали утрату социумом своей идентичности. В такой ситуации очевидный крах традиционного трафарета неизбежно приводил к поиску «истинного царя». Надежды на скорое пришествие «избавителя» охватили самые широкие слои населения. В России XVIII столетия бытование слухов о «возвращающихся избавителях» связывалось с утопиями о «золотом веке» в прошлом и готовило почву для появления «истинных» царей-самозванцев.
Имя Петра III в народной монархической мифологии: от истоков к пугачевскому апогею
Российская история и прежде на недостаток самозваных монархов пожаловаться не могла, но даже на этом пестром фоне вторая половина XVIII века стала временем подлинного самозванческого ажиотажа. Как показывают подсчеты, в России с 1601 по 1800 год известны 147 лжемонархов; из них на протяжении XVII столетия действовало около 30 самозванцев. Следовательно, на XVIII век приходится порядка 120 человек, в том числе 60 – заявили о себе в период с 1762 по 1800 год. Наибольшей популярностью пользовалось имя Петра III, которое в сознании социальных низов второй половины XVIII века прочно отождествилось с образом «истинного» царя-батюшки в его народном виде. Сегодня есть сведения о 23 претендентах на это имя, чему отчасти способствовали и некоторые факты биографии Петра III.
Родился будущий российский император 10/21 февраля 1728 года в немецком городе Киле. Его отцом был герцог Карл Фридрих Голштейн-Готторпский – правитель северогерманской земли Голштинии, матерью – дочь Петра I Анна Петровна. Еще в детстве принц Карл Петер Ульрих был объявлен наследником шведского престола. Однако в начале 1742 года по требованию российской императрицы Елизаветы Петровны его привезли в Санкт-Петербург и, как единственного прямого потомка Петра Великого, провозгласили наследником русского трона. Юный герцог Голштейн-Готторпский, перейдя в православие, был наречен великим князем Петром Федоровичем.
В народном сознании идеализация Петра III «началась еще до его вступления на престол и, следовательно, до того, как он предпринял шаги, которые считаются причиной его популярности… Он был 19 лет официально назначенным наследником престола – цесаревичем, воцарения которого с нетерпением ожидали, на которого возлагали годами таившиеся надежды, приобретавшие реальные формы в зависимости от социально-политической ситуации в стране» [135; 137 – 138].

Император Петр III. Гравюра резцом И. К. Тейхера (XVIII век).
В августе 1745 года императрица женила наследника на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе, дочери князя Ангальт-Цербстского, состоявшего на военной службе у прусского короля. Приняв православие, принцесса Ангальт-Цербстская стала называться великой княгиней Екатериной Алексеевной. Вскоре между наследником и его женой установились весьма холодные и даже неприязненные отношения. Очевидно, и в них можно видеть зародыш будущего народного противопоставления царственных супругов, столь актуального для монархической мифологии второй половины XVIII столетия.

Цесаревна Анна Петровна. Меццотинто А. Ф. Зубова (с оригинала И. Г. Таннауера).
Когда 24 сентября 1754 года Екатерина родила сына Павла, при дворе поползли слухи, что настоящим отцом будущего императора является ее любовник граф Салтыков. Этим обстоятельством, в том числе, объясняются достаточно непростые взаимоотношения Петра III и Павла, впрочем, никак не повлиявшие на сложные переплетения сюжетных линий избавитель-ской легенды.
25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна. В этот же день к всеобщему сведению был издан манифест, в котором сообщалось, что российский престол перешел к Петру III «яко сущему наследнику по правам, преимуществам и узаконениям принадлежащий». Близкородственная связь Петра I, Елизаветы и Петра Федоровича была бесспорна и в дополнительных обоснованиях не нуждалась. И, отдавая дань «щедротам и милосердию» своей покойной предшественнице, Петр III в первом же манифесте обещал «во всем следовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого». Столь ко многому обязывавшее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятную современникам дальнейшую ориентированность курса нового монарха.
Несколько месяцев пребывания у власти с наибольшей полнотой выявили противоречивость характера Петра III, его не только слабые и вызывавшие сожаление, но и сильные, привлекательные стороны. Очевидно, что предполагавшиеся реформы Петра III во многом опережали свое время. Приведем перечень только самых важных из них: освобождение дворян от несения обязательной государственной службы, передача дел по обвинению в государственных преступлениях из рук Тайной канцелярии в ведение единой правовой системы, закрепление принципа веротерпимости при государственном контроле над церковью, включая экономические интересы высшего духовенства, не говоря о законодательных мерах пробуржуаз-ного характера. Все это вполне вписывалось в политику так называемого «просвещенного абсолютизма», проводившуюся многими европейскими государствами в XVIII столетии. Петр Федорович и его ближайшие помощники не были здесь ни первыми, ни последними. Но для России многое, провозглашенное при нем, стало новацией, причем не всегда и не для всех приемлемой. Не столько даже сами законы, хотя в некоторых случаях и они тоже, сколько действия Петра III, озабоченного их исполнением, завязывали узлы напряженности, жертвой которых он в конце концов и оказался.

Императрица Елизавета Петровна. Гравюра резцом И. А. Соколова (1746).
28 июня 1762 года в результате дворцового переворота Петр III был свергнут с престола, а через несколько дней и убит заговорщиками.
События жизни Петра III, по-своему понятые простонародьем в условиях кризиса традиционной идентичности, сделали погибшего императора не только героем, но и «пленником» народной социальной утопии. Ученых давно уже интересовал важный вопрос, почему именно «третий император» стал объектом идеализации, какие реальные черты его деятельности, характера, намерений могли этому способствовать? Неоднократно предпринимались более или менее успешные попытки найти конструктивный ответ на этот вопрос. Было замечено, что выбор народной мифологии остановился на Петре III не случайно. Привлекательность его имени обусловливалась, в частности, незначительным временем пребывания на престоле (не успел разочаровать широкие слои населения), а также внезапными и таинственными обстоятельствами его отстранения от власти и смерти. Но, кроме того, речь шла об общей направленности политики императора, отдельные акты которой, действительные или вымышленные, истолковывались народом как «милостивые», улучшающие условия его существования.
Не стоит, однако, забывать, что далеко не всегда идеализация того или иного монарха массовой психологией напрямую становилась отражением его реальных качеств или действий. Речь могла идти не о точности зеркального отражения, а о символе монархической утопии. В этой связи подчеркнем, что имя «Петр III» не было для народа простой эмблемой или этикеткой. Такое представление вообще невозможно для мифологического мышления. Имя рассматривалось как существенная часть личности. Имеется в виду не столько рационально закрепленный и логически выверенный, сколько улавливаемый сугубо интуитивно образ. Поскольку каждый человек наделен именем как своеобразной знаковой аурой, имя Петра III провоцировало целый комплекс чувств, эмоций, настроений, надежд и представлений, связанных с народными монархическими ожиданиями, наполнялось особой сакральной силой. Именно поэтому в обстановке ощущавшегося массами скорого наступления «конца времен» Петр III – после долгих десятилетий царствования женщин и младенцев – казался фигурой вполне кредитоспособной. Он, несомненно, оценивался и как законный государь – внук Петра I, а значит, продолжатель, казалось бы, угасшей царской династии. Заметим, что ни Анна Ивановна, ни Елизавета, ни тем более Иван Антонович – предшественники «третьего императора» – похвастаться подобной родословной не могли.

Петр Великий. Меццотинто Б. Фогеля (XVIII век).
Еще более существенно, что имя-образ Петра III постепенно обрастало харизматическими чертами. Как известно, харизма отмечает своих «избранников» качествами, свидетельствующими об особом предназначении. Так было и на этот раз. В контексте монархической мифологии Петр III представал как мученик за благо России и народа, сочетавший в себе мудрость и благочестие. И не столь уж было важно для утопических чаяний, насколько соответствовали друг другу реальный и идеальный образы. В такой ситуации «взять» имя Петра Федоровича уже означало воплотиться в его сакральном образе, на который наслаивался харизматический ореол правящей династии, подкреплявшийся признанием Божественного характера царской власти. И так считалось на протяжении многих столетий, пока монархическая «картина мира» демонстрировала прочную стабильность.
Российская же модернизация целенаправленно конструировала новый имидж власти, которая рядилась в иные «одежды». Внешне это проявлялось, например, в изменении «титулатуры русского монарха, государственной символики (государственных регалий), церемониалов коронационных, траурных и прочих торжеств, церковного возглашения членов правящей фамилии. Фраза “великий государь, царь всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец” менялась на “Мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский”, титул “государыня царица и великая княгиня” – на “ее величество императрица” и т. д. В государственной символике, например в гербе, царская корона над двуглавым орлом была заменена короной имперской» [1; 115].
Трансформировались и другие аспекты сакрального лика власти. Так, еще во время коронации царя Федора Алексеевича «было объявлено, что принцип прямого наследования – второстепенное обоснование царской власти. Царь Федор короновался, прежде всего, по церковному закону и лишь затем – “по обычаю древних царей и великих князей российских”.
Новая формула сакрализации царской власти повторялась при коронации Федора трижды, а через несколько лет, при венчании его младших братьев Ивана и Петра – 5 раз!» [11; 52].
Но в этих-то внешних изменениях и коренился главный подвох с точки зрения традиционного сознания. Ведь отождествление вида и сущности, знака и его функции – характерная примета мифологического мышления. Убедительным примером может служить религиозный протест старообрядцев, выступивших именно против внешних перемен в утвердившейся исстари богослужебной практике. И назвать такое мышление иррациональным или нелогичным не представляется возможным, так как «логика в их мышлении вовсе не отсутствовала, она лишь отличалась от логики дискурсивной[36]36
Дискурсивный – рассудочный; обоснованный предшествующими суждениями (противоп. интуитивный).
[Закрыть] культуры» [10; 127]. Поэтому инновации властителей символически воспринимались простонародьем как покушение на сакральную сущность верховной власти, т. е. как целенаправленная десакрализация. Разумеется, подобные кощунства, вторгаясь в традиционную ментальность, разрушали ее целостность.
Правящая элита с определенного момента «главное значение начала придавать обряду царского венчания, который для нее и превратился в источник харизмы “великого государя”. Таким образом, проблема закон-ности царя была сведена к чисто формальным (с точки зрения масс) моментам». Это обстоятельство и привело к тому, что на троне оказывались многочисленные женщины и дети, «хотя, по традиционным представлениям (теперь уже – чисто народным), они не имели на него никаких прав. Ничего удивительного, что для народа они остались “незаконными”» [124; 41].
Но главное состояло в том, что в «государственной традиции нового времени божественный статус царской власти из функционального (сакрализация власти) сделался абсолютным (сакрализация властителя)» [22; 27].
В подобных метаморфозах заключался известный риск: «Перенесение атрибутов сакрального на предмет конечный, вещный, единичный и осязаемый имеет всегда и другую сторону. Особенности физиономии, позы и жестов человека, своеобразие речи, его вкус, привычки, пристрастия и слабости приобретают гиперболический вид, наружность наполняется странными ужимками, портретные черты разрастаются до комического уродства, а весь облик превращается в гротеск... Поэтому культ императора неизбежно несет в себе смеховую подкладку» [34; 152]. Новая сак-ральность, подобно унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла, нанесла мощный удар по образу императорской власти.
В обстановке острого социально-политического кризиса, охватившего высшие эшелоны власти в эпоху дворцовых переворотов, казалось, что с пресечением династии разорвалась связь времен и из всей системы словно вынули мировоззренческий стержень. Все в одночасье зашаталось, потому что тем, кто примерял царский венец, было отказано в законности, а значит, в богоустановленности. И наоборот. Может быть, поэтому, несмотря на все усилия Екатерины II, ее имидж «премудрой матери Отечества» в значительной мере оставался уделом официальной пропаганды и заказных стихов. В массовом же сознании облик императрицы принял карикатурные черты «перевернутости», ее действия воспринимались как антиповедение, устанавливаемые порядки виделись «королевством кривых зеркал».
Кстати, заметим, что сомнениями в истинности и законности всего происходившего вокруг трона были охвачены не только социальные низы. Оценивая правящую императрицу Екатерину II, дворяне (не берем в расчет заведомых авантюристов, шарлатанов, интриганов и т. п.) также не могли не понимать всей двусмысленности ситуации. И хотя внешне дворянство в массе своей встретило ее вступление на престол и последующее царствование вполне, если не сказать больше, спокойно, в душе, конечно же, осознавалась незаконность ее претензий на российскую корону.

Императрица Екатерина II. Гравюра пунктиром Г. И. Скородумова (XVIII век).
Рассматривая доминирующие эмоционально-оценочные реакции дворян последней трети XVIII века на образ властителя, исследователи на основании анализа их писем приходят к интересному заключению: «…традиционно сложившаяся социально-психологическая связь монарха и дворянства регулировалась не добровольно принятым законом, целесообразность которого глубоко осознана, а чувствами: чувством безоговорочного уважения и преклонения перед авторитетом самодержавия, чувством не подвергаемого сомнению личного доверия царской власти, чувством покорности воле императора и, наконец, чувством страха» [61; 71].
Однако подобный вывод не учитывает влияния важнейшей компоненты истории России XVIII века – «дворских бурь» – на мировосприятие дворянского сословия в целом и оценку им верховной власти в частности. Последствием этих социально-политических и психологических процессов, вероятно, стала постепенная десакрализация властителей в глазах дворян, что отразилось и на усилении оценочного негативизма в отношении Екатерины II. Красноречиво подтверждают сказанное воспоминания Г. Р. Державина. «Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, – писал он, – то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали» [26; 181].
Еще более решителен предполагаемый автор «пасквиля», написанного в 1771 году, отставной полковник Яновский: «Вы знаете, под каким несносным игом более десяти лет мучитеся, обременены разными поборами, истощены все безвременною войною. Ве-лелепие церквей упало, законы божественные и естественные упали и расторгнуты. Владычествуют вами предатели отечества, преисполненные гордостию и гнусные царя и принца убийцы Орловы» [107; 89].
Подобное осуждение на фоне эпохи не выглядит заведомой редкостью. Вполне ясно, что об одномерно-восторженном отношении дворянства к «государыне-матушке» и ее действиям говорить не приходится. Оно не могло быть однозначным, так же как не было однородным и само российское дворянство. Известно даже, что некоторые дворяне, особенно из числа разорившихся, протестуя против удручающей действительности, добровольно выбирали жизнь разбойников. Поэтому пушкинский Дубровский – это не только художественный вымысел, у него были и реальные прототипы.
Но если столь мощный критический заряд обнаруживало дворянство (казалось бы, прочный оплот трона), то выводы, которые делало для себя традиционное мышление, поддержанное фольклорным опытом, шли еще дальше. Они, возможно, и не означали, что реальный Петр III был «лучше» Екатерины II. Но то, что она была «хуже», простонародье ощущало все более и более. Контраст этот в последующие годы только усиливался. Так баланс народного сознания с самого начала склонялся не в пользу Екатерины II, приведя к идеализации «прежнего правления» и, разумеется, имени-образа Петра Федоровича. Дело в том, что при нарушении традиционного порядка наследования престола монарх, который «реально занимает царский трон, может, в сущности, сам трактоваться как самозванец» [128; 150]. Именно с таким нарушением пришлось столкнуться общественным низам с приходом к власти Екатерины II. Это был серьезный повод для монархических раздумий.
Вероятно, в события этих дней уходит своими истоками осмысление ее как царицы «ложной», фактически самозваной, а значит, сознательно творящей зло. «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правительством, хотят российскую землю раззорить и привесть в крайнюю нужду», – осуждал господ народный «пасквиль» середины 60-х годов XVIII века. «Правду всю изринули, да и из России вон выгнали, да и слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матерей осиротели». Автор подложного указа выражал явное негодование возвеличиванием екатерининских фаворитов, а потому требовал «графа Захара Чернышева в застенок и бить кнутом безо всякого милосердия, потом четвертовать и голову отрубить. Второго Алексея Разумовского таким же образом. Третьего Григория Орлова... а государыню выслать в свою землю» [107; 66 – 67]. В такой ситуации в естественные, скажем даже в неизбежные, антиподы «самозванки на троне» массовое сознание должно было выдвинуть «царя-батюшку» Петра III – «подлинного» и «природного» государя. Показательно, что еще в 1740 – 1750-е годы, т. е. до воцарения Петра III, с его именем уже связывались определенные надежды, выражалась тревога за его судьбу. Эти беспокойства приобретали антидворянскую окраску, ибо характерной чертой народного монархизма являлось «отделение царя от сановников, бюрократии, помещиков, заводовладельцев (“бояр и чиновников”), даже противопоставление их» [77; 20].
Так, в 1747 году крестьянин Данила Юдин распространял «возмутительные письма», сообщавшие о намерении придворных «извести великого князя Петра Федоровича». Целой вереницей аналогичных слухов был отмечен 1758 год. Например, солдат Герасим Щедрин в недоумении вопрошал: «Для чего-де не садится на царство великий князь Петр Федорович, и так все войско разбежалось от графов Шуваловых. Долго ль им войско разорять». Дворовый человек Григорий Еремеев словно дорисовывал картину несчастий: «Государь-де наш Петр Федорович приказал... каждому солдату прибавить по одному рублю на треть, а Алексей Григорьевич Разумовский давать не велел» [135; 138 – 139].
Не стоит удивляться, что доносившиеся до простонародья обрывки сведений о дворцовом перевороте 28 июня 1762 года и убийстве Петра III, ставших результатом недовольства влиятельных кругов правящей верхушки, трансформировались в многочисленные слухи о чудесном спасении «истинного» государя.
Фольклорная монархическая утопия диктовала свои каноны развития самозванческого сюжета. Полностью соответствуя им, сержант Ингерманландского полка Иван Пятков уверял, будто «государь Петр Федорович жив», а «ростовский архиерей», мол, расстрижен за то, «что он ево фальшиво погребал» [108; 96]. Слухи, что Петр III не убит, а остался жив и скрылся, находится среди яицких казаков, словно снежная лавина, распространились в Центральной и Южной России, на Украине и в Оренбургской губернии, чуть позже докатились до Сибири. С 1764 года они начинают периодически провоцировать появление самозванцев. Словесный протест перешел в материализованную форму.
Среди заявивших свои высокие претензии в 1764 – 1773 годах, т. е. до пугачевского бунта, можно назвать «малороссиянина» Николая Колченко (на Украине под Глуховом), проторговавшегося купца армянина Антона Асланбекова (Черниговщина), беглых солдат Гаврилу Кремнева и Петра Чернышева (оба – в Воронежской губернии), офицера Николая Кретова (Оренбург), бывшего разбойничьего атамана Рябова (Астраханская губерния) и беглого крестьянина Федота Богомолова – самого «авторитетного» «Петра Федоровича», не считая Пугачева. Кроме того, находились и «ближайшие сподвижники» якобы живого Петра III, которые действовали от его имени или использовали его в своих интересах. Приблизительно в 1763 – 1764 годах слухи о «царственном избавителе» обнаружили себя на Южном Урале. Казак Конон Белянин рассказывал о конспиративных поездках «Петра Федоровича» «во образе скрытном» вместе с генералом Волковым в крепость. Казак Федор Каменщиков-Слудников также «разглашал» о поездках «Петра III» в Троицкую крепость «для разведывания о народских обидах в ночныя времена». Имелся у Каменщикова и «печатный указ» с титулом бывшего императора Петра Федоровича, якобы данный на его, Каменщикова, имя. Заметим, что, в отличие от самозваных претендентов на престол, Каменщиков-Слудников предпочел нецарственное самозванство.
Степень нашей осведомленности об этих самозванцах различна. Не вызывает сомнения другое: фольклорной монархической модели, олицетворением которой они выступали, самозванцы были обязаны подчинять свои помыслы и повседневное поведение – в той мере, в какой народное сознание выработало образ «подлинного» государя, строгого, но справедливого. Если, конечно, хотели добиться успеха.
Думается, вполне допустимо предположить некую гипотетическую ментальную зависимость между представленным историей «парадом» самозванцев и развитием народного и любительского театра в России XVIII столетия. Как театрализованное действо, само-званчество актуализировало свои социокультурные связи с миром народной смеховой культуры, в том числе с так называемой «игрой в царя», правила которой были запрограммированы традиционной мен-тальностью. Вспомним, что в завязавшейся «само-званческой игре» первым делом необходимо было доказать правомерность притязаний на сакральный статус или имя. «Законность»/«незаконность» претендента определялась наличием либо отсутствием у него «царских» знаков на теле. Так, самозванец Кремнев был признан «подлинным» царем после того, как поп Лев Евдокимов сказал ему во всеуслышание: «Ты-де государь Петр Федорович, я-де тебя знал и на руках нашивал, я вижу у тебя на ноге крест» [108; 104]. Аналогичным образом и Богомолов, находясь в тюрьме, знал: чтобы убедить донских казаков и стражу, ему необходимы соответствующие аргументы, например «беловатого вида крест» на груди. «Точно такой же имею я, – прибавлял он, – на лбу и на плечах» [135; 144].
Встреча с «истинным» царем порождала в народной душе не только естественный суеверный страх, но и связанную с ним радостную готовность повиноваться. Предъявленные «доказательства» словно поворачивали заветный ключик в монархической модели традиционной культуры, и весь механизм народного монархизма приходил в движение. Однако ему постоянно требовалась «подпитка», не позволявшая заводу закончиться раньше времени, пока в игре еще не сделаны все ходы. Следующим шагом в ней предусматривалось ознакомление потенциальных последователей с перспективной программой самозванца.
Допустить ошибку на этой стадии – значило не получить поддержки. «Признавшись», что он-то и есть император Петр III, обещая «светлое будущее», самозванец должен был произносить заранее ожидаемые речи. Как это делал, например, Кремнев перед жителями с. Новосолдатского: «Детушки, замучены вы; подушные деньги наложены на вас чежелые, но те деньги будут сложены, а собираться будет с души по два гарнца хлеба» [135; 145]. Широта замыслов и смелость обещаний предназначены были внушить благоговейный трепет перед могуществом «государя», способного на столь грандиозную перестройку «неправедного» царства господ.


