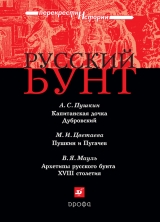
Текст книги "Русский бунт"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Марина Цветаева,В. Мауль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Этот традиционный устой начал несколько разрушаться в XVIII столетии, особенно после появления в 1762 году манифеста о вольности дворянства. Данное обстоятельство привело к сумбуру в умах населения, считавшего, что процесс раскрепощения должен затрагивать интересы всех, а не только привилегированных сословий. В результате среди крестьян все активней стали циркулировать слухи о вероятном освобождении от помещичьей зависимости. Бытование подобных настроений в какой-то мере спровоцировало Пугачева в самый напряженный момент бунта издать «жалованную грамоту крестьянству» – манифест от 31 июля 1774 года. В то же время, ощущая себя всесильным душ вершителем, Пугачев-Петр III в равной степени считал ответственными перед его «императорским величеством» не только представителей господствовавших классов, но все не согласное с ним население, без различия их социального статуса.
Продолжая эту мысль, с неизбежностью приходишь к выводу: если, например, какие-то крестьяне, казаки, прочие простолюдины оставались на стороне правительства или лояльными ему, то для Пугачева-Петра III они становились злейшими врагами, заслуживавшими сурового наказания. Поэтому в перечне жертв пугачевских расправ можно неоднократно встретить упоминания о казненных солдатах, мастеровых и работниках, крестьянах, аптекарях и лекарях, дьяконах, дьячках и пономарях, разночинцах, дворовых людях, казаках и т. п.
Казнью Пугачев грозил не только дворянам, но всем непокорным: «И буде кто против меня будет противник и невероятен, таковым не будет от меня милости: голова рублена и пажить ограблена». «А ест-ли кто, сверх сего моего, до всего народа чинимаго милосердия, останется в своем недоразумении, тот уже напоследок восприимет от меня великое истязание и ничем себя не защитит» [33; 28, 35].
И все же этот аспект проблемы мало впечатляет ученых, зачастую предпочитающих настаивать на том, что жертвами пугачевского бунта были в основном дворяне. Безусловно, для такой трактовки были основания. Так казалось уже современникам событий, такая версия утвердилась и в исторической литературе. Например, видный пугачевец Леонтий Травкин утверждал, что Пугачев приказывал ему не щадить дворян, и «ежели кто помещика убьет до смерти и дом ево разорит, то дано будет жалования – денег сто, а кто десять дворянских домов разорит, тому тыща рублев и чин генеральский» [90; 7].
Подтверждается расхожее мнение и словами самого Пугачева, который, очевидно побуждаемый следователями, акцентировал внимание на убийствах именно дворян: «Что же касается до истребления дворян, то также происходило от него и от его толпы подлинно по остервенению скверных их душ, случайно и по жалобам крестьян, с таким только намерением, чтоб дворяне неl мешали умножать его толпы, а чрез то в и крестьяне, как их великое множество, не имели в том от господ своих страха» [36; 222]. «Дворян и офицеров, коих убивал большою частию по представлению яицких казаков, – утверждал Пугачев на допросе, – а сам я столько жесток отнюдь не был, а не попущал тем, кои отягощали своих крестьян, или командиры – подчиненных, также и тех без справок казнил, естли кто из крестьян на помещиков в налогах доносил» [36; 103 – 104].
Даже казачий фольклор сохранил подобный лейтмотив. Он отразился, например, в диалоге «графа Панина» и «вора Пугачева»:
– Много ли перевешал князей и боярей?
– Перевешал вашей братьи семь сот семи тысяч [66; 266].
И тем не менее очевидно, что дворяне, офицеры и чиновники составляли только часть всех казненных пугачевцами. Поэтому более правильным представляется говорить об отсутствии сословной направленности повстанческих казней. Жертвами бунтовщиков могли стать люди любой социальной и национальной принадлежности без различия пола и возраста. Выбор «мишени» в бескомпромиссном противоборстве неизбежно определялся традиционно понимаемым общественным разделением, культурно-символической оппозицией добра и зла: «свой» всегда стоит за правое дело (дело Бога), «чужой» (неверный) этому делу – безусловный враг (одержим дьяволом). «Такие воззрения позволяли и вынуждали лишить статуса “ближнего” всех, кто объективно служит не небесному, а адскому владыке. Отвергающие “православное” подданство – еретики, иноверцы – вполне последовательно приравнивались к принявшим противоположное подданство, значит, покровительство нечистой силы» [9; 175, 177].
Безусловно, с точки зрения Пугачева-Петра III, все, кто ему не подчинялся, были клятвопреступниками, нарушившими верноподданническую присягу. Следовательно, они являлись изменниками. Но царь – помазанник Божий, поэтому измена ему – это страшный грех, грешникам же уготованы адские муки и на том, и на этом свете. «А в противности поступка всех, от первого до последнего, в состоянии мы рубить и вешать, дабы никто к искушению диавольскому себя не предавал», – заявлялось, например, в одном из пугачевских указов [33; 32].
Похожим образом историки объясняют и события опричнины Ивана Грозного: «По словам царя, если бояре отказываются приносить присягу, то, следовательно, у них иной государь есть. Тем самым они изменили своей присяге и погубили свои души» [131; 71].
Хотя предводитель повстанцев, призывая под свои знамена, обещал избавление от гнета дворян и передачу их земель крестьянам, а также неоднократно грозился поголовным истреблением дворянства, он не мог не понимать, что последовательная реализация обещаний и угроз была бы нежелательной с точки зрения государственных интересов. Пугачевские документы содержат намного более взвешенный сословный подход: «…от дворян-де деревни лудче отнять, а определить им хотя большее жалованье»; «учредив все порядочно, пойду воевать в иные государства, – я-де, ведаешь, служивой человек», а для этого – «стал таковых [дворян. – В. М.] принуждать в службу и хотел-де отнять у них деревни, чтоб они служили на одном жалованье» [89; 135, 194].
Заметим, что такие заявления вполне согласуются с традиционной дворянской политикой российского правительства, характерно выраженной, например, в указе Петра I о единонаследии. Запрещая дробить имения при их наследовании, первый император подчеркивал, что оставшиеся без наследства сыновья «не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, что оные сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть» [81].
Иначе говоря, не упуская из виду возможную победу и вступление на престол, Пугачев-Петр III пытался определить свое подлинно «государское» отношение к подданным, максимально использовать в будущем их способности на благо отечества. Поэтому можно сказать, что вопрос о судьбе дворянства в действительности не решался Пугачевым однозначно. Призывая к их уничтожению, он в то же время запрещал казнить тех, кто «преклонял ему свою голову». Из показаний И. Я. Почиталина от 8 мая 1774 года известно, что сначала «от Пугачева приказание было, чтоб, никого дворян и офицеров не щадя, вешать, а потом проговаривал о тех, кои сами к нему явятся и принесут повинную, таковых прощать и писать в казаки» [89; 111]. Самозванческая харизма обнаруживала здесь свою претензию на ритуальное право высочайшего помилования, прощения. Поэтому и в памяти народной Пугачев – человек «был добрый! Разобидел ты его, пошел против него баталией... на баталии тебя в полон взяли; поклонился ты ему, Пугачеву, все вины тебе отпущены, и помину нет!» [143; 317].
Принесение присяги превращало людей в «верноподданных рабов его императорского величества» безотносительно к их социальной принадлежности. К участию в этом ритуале привлекались в обязательном порядке все вступавшие в повстанческое войско. Каждый должен был произнести: «Я... обещаюсь и кленуся всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хощу и должен всепресветлейшему державнейшему великому государю императору Петру Федоровичу служить и во всем повиноватца, не щадя живота своего до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий» [60; 120]. Присяге придавали большое значение. Кто «моей присяге не верит, тот злодей», – считал Пугачев, и тем надлежит, как и неприятелям, «головы рубить и пажить разделить» [33; 38].
Такое внимание к присяганию на верность, конечно же, не было случайным, а свидетельствовало о внутренней убежденности Пугачева и его соратников в правоте своего дела, к тому же позволяло достаточно четко и резко провести размежевание между «своими» и «чужими».
Поведение Пугачева-Петра III, на протяжении долгого времени близкое к эталонному, позволяло однозначно отождествлять его в качестве названого императора. Слияние в массовом восприятии идеализированного образа «императора Петра III» с харизматической личностью Пугачева обеспечило «легитимность» всех актов русского бунта. Посредством единства имени-образа Петра III, наиболее удачно воплощенного Пугачевым, происходило его закрепление в общественной культурно-языковой памяти русского народа.
Возможны и другие интеллектуальные проекции данной ситуации. Ученые отмечают: «Житейские и сакральные биографии, вступив во взаимодействие, произвели особую сюжетную формацию – неокончательную смерть...» Так, Разин в социальном сознании масс «заключался в гору, уходил, исчезал, об его близящемся возвращении предупреждали сынки», он возвращался под именем Пугачева, возобновляя очищение земли, расправу и суд. Христос уходил, умирал и возвращался под разными именами [74; 196].
Подобная народная реакция характерна и для времени после казни Пугачева. Убедительным свидетельством могут служить, например, материалы следствия о побеге бывших пугачевцев на Алтае в сентябре 1775 года: «Побудительным мотивом к организации побега... явился слух о том, что в Москве казнили кого-то из яицких казаков, а Пугачев-Петр III жив, одна партия его войска стоит под Оренбургом, куда и собирались идти в случае успеха участники побега» [37; 214]. Еще и в 1786 году в народе ходили слухи о том, что император Петр Федорович жив и скрывается в Сибири, в Тобольской губернии, о чем командир Сибирского корпуса генерал-майор Огарев с тревогой отписывал в Санкт-Петербург [75; 183].
Однако с течением времени образ этот принял ярко выраженный фольклорный характер, ушел в область легенд и преданий, становился все более иллюзорным. Не последней причиной тому была мощная, так сказать, PR-компания, предпринятая правящими кругами. Подавив бунт, правительство было заинтересовано в снижении самооценки и унижении Пугачева не только в его собственных глазах, но и во мнении других людей. Для искоренения народной памяти о великом бунте и его выдающемся вожде – народном царе-батюшке «Петре III» – его имя было предано анафеме и забвению. Грозному Имени противопоставлялась Безымянность, имевшая культурную обусловленность. На языке традиционной культуры это был сильный ход.
Но простое умолчание посчитали недостаточным. Последовала серия символических переименований. Например, родина Пугачева – Зимовейская станица была переименована в Потемкинскую, река Яик – в Урал, Яицкий городок стал Уральском, а Яицкое казачество соответственно Уральским. Таким образом правительство пыталось перекодировать информацию с одного культурного кода на другой, что является «одной из основных структурных закономерностей символического языка культуры» [8; 36].
К аналогичным средствам культурного перекодирования в ходе бунта прибегали и сами пугачевцы. Следовательно, смысл символических переименований, предпринятых властью, был вполне понятен сознанию тогдашнего простеца.
Идеологическому «изгнанию» была подвергнута также и память о Петре III. Усилиями своего окружения и собственными стараниями Екатерине II удалось деформировать сложившийся в массовом сознании идеальный образ покойного императора, который отныне на многие десятилетия стал изображаться в качестве самодура. Однако проделать то же самое с именем Пугачева не удалось. Память народа, надолго очарованная самозванческой харизмой, не позволила исключить его из своего культурного наследия. Он навсегда вошел в отечественную историю, и вычеркнуть его из нее можно только вместе с самой историей.
Пугачевский бунт в смеховом зазеркалье народной культуры
Необходимо обозначить возможные связи русского бунта с традиционной культурой, имея в виду прежде всего ее смеховой аспект. Представляя природу смеховой «оболочки» русского бунта, обратим внимание на основные положения теории смеха. Исходной посылкой наших рассуждений является понимание того, что в традиционном обществе «“смеховые” элементы совершенно не обязательно должны... восприниматься как смешные, поскольку смех на глубинном уровне связан со смертью и миром мертвых, миром хаоса» [140; 257].
В литературе недвусмысленно отмечалось, что «сущность смеха – в усмотрении, обнаружении смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой доли негативности, известной “меры зла”. Смех есть отклик на какую-либо “отрицательную ценность”. Сталкиваясь с тем или иным “злом”, будучи внутренне готовым преодолеть его или свой страх перед ним, человек смеется» [47; 342 – 343].
Поэтому смех агрессивен. Ведь это еще и грозное оружие. Высмеять – значит опровергнуть, представить ценности суетного и вещного мира господ антиценностями. При этом высмеиванию «подвергаются самые “лучшие” объекты – мир богатства, сытости, благочестия, знатности» [56; 358]. «Смеясь, человек “выливал” чувство страха по отношению к реальному правителю. Смех давал возможность выплеснуть агрессивные импульсы по отношению к нему. “Направив” таким образом в определенное русло чувства страха и агрессии, испытываемые к власти, человек эмоционально был готов примириться с ней» [67; 142].

Царь Иоанн Грозный. Гравюра резцом Н. И. Уткина (1832).
В последнем рассуждении, как видим, подчеркивается терапевтическая природа смеха. Однако так было не всегда. В некоторых случаях, например в ситуации социокультурного кризиса, привычная психотерапия не срабатывала. Тогда смех из средства снятия напряженности «превращался в психосоциальный катализатор разрыва уз с традиционным авторитетом, обеспечивая ощущение того, что зло в лице последнего преодолимо и не так уж страшно» [67; 144].
Все эти заявленные наукой концептуальные установки выглядят вполне резонными. Однако допустимо ли, опираясь на них, ставить вопрос о связи русского бунта со смеховой культурой, тем более что этот тезис вызывает серьезные возражения в ученом мире («каким уж карнавалом мог быть всероссийский бунт?!» [64; 320]).
Сомнения эти достаточно обоснованы, прежде всего неожиданностью проблематики. И тем не менее думается, что вопрос о «смеховом зеркале» русского бунта вполне правомерен.
С момента своего воцарения Екатерина II воспринималась социальными низами в качестве самозванки на троне. С генеалогической, процедурной и символической точки зрения такая оценка была абсолютно верной. В этом смысле «права» императрицы и способ занятия ею престола выглядели еще менее «законными», чем, скажем, в истории Лжедмитрия I. Иначе говоря, самозванческая интрига заговорщиков, организовавших дворцовый переворот 1762 года, увенчалась победой. Однако этот успех, несмотря на пышные формы коронационных торжеств и активную пропагандистскую компанию, не мог подтвердить законность прав Екатерины в массовом сознании, подобно тому, как Лжедмитрий, заняв царский престол, не перестал быть самозванцем. Но самозванцам, с точки зрения традиционной ментальности, свойственно стремление перестраивать «божий мир» на сатанинский лад. Поэтому с первых дней царствования императрицы простонародье ожидало от проводимой ею политики «минус-поведения», оно заранее было готово видеть в ее правлении отрицательный смысл. «Верхнему» самозванчеству был резон противопоставить самозванчество «нижнее». Поиск культурной идентичности воплотился в образе традиционного царя – благочестивого, справедливого и законного, каким, например, в идеализированном представлении народа был Иван Грозный. В своем апогее этот поиск увенчался обретением «истинного» государя Пугачева-Петра III.
Таким образом, на социокультурном фоне переходной эпохи сопрягались типы самозванчества, восходящие к элитарному и народному пониманию монархизма. Но эти два среза культуры функционировали «не изолированно друг от друга, а находились в постоянном взаимодействии», и эпоха «накладывала на характер и содержание такого взаимодействия свой отпечаток». «До сих пор выражение “наивный монархизм” почему-то принято сопрягать с народной культурой и более того – только с ней одной. Но разве не столь же наивной была вера подавляющего большинства европейских просветителей XVIII века в “просвещенного монарха”, который с вершины властной пирамиды мудрым законодательством установит царство разума и всеобщего благоденствия? И чем такое “царство” отличалось от “свободной вольности”, за которую ратовали самозванцы?» [65; 33 – 34].
В научной литературе неоднократно подчеркивалось, что Пугачев, приняв имя Петра III, т. е. заявив себя императором, в повстанческом лагере создавал порядки по образу и подобию государственных. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что копирование чаще всего было с противоположным знаком. Иначе говоря, могли копироваться и заимствоваться государственные формы, но они насыщались противоположной ценностной символикой. Обратим внимание, что и все сакральное пространство, с точки зрения традиционного восприятия, было выстроено в бинарной оценочной иерархичности. Например, бесы ведь те же ангелы, но со знаком минус. То есть они – антиангелы. И Христу противостоит не кто иной, как Антихрист, и т. д. Одним словом, все точно такое же, но вывернутое наизнанку. Сталкиваясь в повседневной жизни с «изнаночным» царством господ, восставшие создавали свой мир как зеркальное отражение существовавших в стране порядков. Но сами-то эти порядки воспринимались общественными низами в традициях смеховой культуры, как антимир. «Неправильному» и «неправедному» миру господ повстанцы пытались противопоставить принципы, основанные на социальной правде, традиции.
С одной стороны, в подобных действиях отражался древний архетип народных собраний и советов вождю, реализовывавшийся не только в доисторический, но и в древнерусский период, с достаточно значительной ролью народных вечевых собраний. «Известий о решающей роли народа в политической жизни Руси конца X – начала XI века немало, особенно если учесть фрагментарность летописных сведений об этом периоде в целом... Можно также предположить, что за всеми упоминавшимися коллективными действиями горожан, когда они “не прияша”, “возопиша”, “послаша”, “рекоша” и т. д., стояло вече. Другого механизма коллективного волеизъявления тогда просто не существовало» [91; 45].
С другой стороны, отметим и влияние на общественные низы манящего повседневного образа казаков, которые «живут по своим законам и находятся под управлением головы или начальника, которого сами выбирают». И хотя уже в XVII веке «войско Донское... вряд ли было демократической республикой», а «руководство “кругами” и решающий голос на них принадлежали все тем же старшинам и “домовитым”, тем не менее жизнь казаков идеализировалась и рисовалась фольклорной утопией как “вольная вольница”» [127; 27, 24].
Подобные архетипические воспоминания, наряду с соответствующими действиями властей, усиливая традиции мирского самоуправления, не могли не укреплять убежденности простолюдинов в том, что именно такие единственно справедливые порядки должны существовать в истинном православном царстве. В соответствии с их духом выстраивалась и, так сказать, административная политика пугачевцев, противопоставленная екатерининской организации власти.
Чтобы разглядеть борьбу двух противоположностей, обратим, например, внимание на последовательно крепостническое законодательство Екатерины II. Рассмотрим знаменитый указ от 22 августа 1767 года, в котором повелевалось: «А буде... которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся, и... недозволенныя на помещиков своих челобитныя, а наипаче е. и. в. в собственные руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и сочинители сих челобитен наказаны будут кнутом, и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск». Эту крепостническую меру едва ли можно назвать екатерининской новацией. Известно, что «право крепостных жаловаться властям и доносить на своих хозяев» было ограничено еще Соборным уложением 1649 года. Однако указ 1767 года ужесточил наказание за жалобы, дополнив его ссылкой в Нерчин-ские рудники, и оставался в силе по крайней мере до 1775 года. Таким образом, в соответствии с законодательством, челобитье квалифицировалось как преступление. Всех челобитчиков отправляли на каторгу, а составителей челобитной следовало «наказать по указам».
С такими репрессивными решениями по народным челобитьям можно неоднократно встретиться в истории царствования Екатерины II. Однако вспомним, что в контексте традиционной «картины мира» царь – это гарант установленных Богом порядков, социальной справедливости. Если при этом народу живется плохо, значит, царь не осведомлен о его бедствиях. Считалось, что бояре (дворяне) скрывают от монарха истинную картину народных страданий. Следовательно, необходимо, составляя челобитные, доносить их непосредственно до самого царя. Только тогда, когда вся правда будет ему известна, царь устранит несправедливости и накажет виновных. Таким образом, с точки зрения народа, подача челобитных есть его неотъемлемое право. При этом в основе такого поведения лежала вера в царскую справедливость, убежденность в том, что государь обязательно примет сторону народа.
Поездка Екатерины II по Поволжью в 1767 году показала это со всей очевидностью. За время путешествия ей с тщетными, как оказалось, надеждами на справедливость было подано около 600 крестьянских челобитных. Екатерининское законодательство, отменявшее традицию, должно было казаться народу неправильным, «перевернутым», символизировало всю несправедливость ее «неправедного» царствования.
Не случайно в повстанческом войске наблюдалась прямо противоположная картина. Известно много примеров так называемого «суда» Пугачева-Петра III над помещиками по жалобам их крестьян: «...и потом пошол он к Пензе. И идучи дорогою, приведено к нему людьми боярскими и крестьянами дворян, как он теперь припомнит, пять человек, коих он по жалобам их, что они крестьян своих обижали, приказал повесить, коих Овчинников и повесил». В другой раз: «...в сие время приведено к нему, злодею, крестьянами и его казаками из разных селеней, сколько он припомнить может, дворян пятнатцать человек (а подлинно не помнит), коих он приказал повесить» [36; 203].
Как видим, в повстанческом лагере отсутствует характерная для екатерининской власти судебно-след-ственная процедура. Какие доказательства считаются здесь достаточными для определения меры вины? Конечно же, выдержанные в духе традиции. Это народные жалобы. Для совершения расправы необходимо только, чтобы, скажем, крестьяне или казаки обвинили кого-то в «злодействе». Как, например, в этом весьма характерном эпизоде, зафиксированном в показаниях Пугачева: «…пришли ко мне илецкия казаки и жаловались на своего атамана Портнова, что он их обижает... А я приказал зделать рели и велел его повесить» [36; 83].
Обращаясь к источникам по истории пугачевщины, неоднократно встречаемся с аналогичной процессуальной практикой повстанцев, что позволяет предположить устойчивость соответствующих «правовых» форм. В судебном «крючкотворстве» пугачевцы не усматривали особой необходимости, ибо «истинная» вина «подсудимых» не требует дополнительных доказательств: богу да государю она и без того видна.
В таких действиях можно усматривать зеркальное отражение упомянутого указа 1767 года, т. е. Пугачев-Петр III сознательно поступает как анти-Екатерина. В то время как сама императрица, в народном восприятии, это лжецарь, ее поступки кажутся народу маскарадным кощунством. Поведение же Пугачева вполне соответствует традиционному диалогу власти с социальными низами.
Перейдем к иным сопоставительным ракурсам параллельных царствований самозваной императрицы Екатерины и «законного» царя-батюшки Пугачева-Петра III. Согласно распространенному мнению, екатерининское правление – это эпоха «просвещенного абсолютизма. Оно стремилось воплотить в жизнь идею союза монарха и ученого, объединенных благородной целью совершенствования общественных нравов или изучения производительных сил природы ради овладения ими для блага государства. В истории XVIII века известно немало попыток сближения представителей интеллектуальной элиты с августейшими особами». Не требует дополнительной аргументации известная «дружба» Екатерины и факт ее переписки с тогдашними властителями дум просвещенного европейского общества. Все имена здесь как на подбор: Вольтер, Дидро, Д’Аламбер, Гримм, другие знаменитые мыслители. Скорее всего о факте переписки императрицы, как и о самом существовании просветителей, вождь бунтовщиков вряд ли догадывался. Но общий вектор интеллектуальных запросов Екатерины ощущался простолюдинами как вполне очевидный.
«Фасадный» образ «Матери Отечества» мог обмануть не знавших Россию иностранцев или дворян, хотевших верить в ее прогрессивную культуротворче-скую миссию, но не массовую проницательность простецов, на своей «шкуре» испытывавших высокую степень ее просвещенности. Поэтому в противовес декларируемой Екатериной симпатии ко многим представителям «философского века» Пугачев-Петр III проводит политику «непросвещенного абсолютизма», доводя ее до крайней формы выражения. Встречавшихся иногда на его пути ученых мужей он казнит мучительной смертью: «Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам» [93; 75].
Заметим, что эта казнь имела нарочито подчеркнутый ритуально-символический характер. Почти полную аналогию, например, мы встречаем при описании казни Иваном Грозным стрелецкого командира Никиты Голохвастова. Это был человек, «известный своей отчаянной храбростью», но вынужденный спасать жизнь уходом в монашество. Тогда царь «велел привезти его и сказал, что поможет бравому иноку поскорее взлететь на небо. Голохвастова посадили на бочку с порохом, а порох взорвали» [109; 180 – 181].
Иной раз лишь случай сохранял жизнь видным ученым-интеллектуалам. Известно, например, что от рук бунтовщиков едва сумел спастись будущий великий одописец эпохи Г. Р. Державин; в Оренбурге выдержал длительную осаду пугачевцев академик П. И. Рыч-ков, член «Оренбургской Пограничных и Иноверческих дел Экспедиции» и т. д.
Продолжая сравнение, заметим, что характерной чертой «перевернутых» порядков господ являлось непомерное обложение социальных низов податями. В литературе было подсчитано, что в 1758 году прямые налоги составляли 5,4 млн руб., а в 1796 году – уже 26 млн руб., правда, в основном за счет увеличения численности населения. Зато государственные подати на протяжении XVIII века увеличились в 1,5 раза, а повинности крестьян по отношению к помещикам выросли в 12 раз. Выросла и номинальная сумма, полученная от прямого обложения [43; 245]. Но, вероятно, дело заключалось не только и не столько в размерах податей. Важным было и другое – социально-психологическое – обстоятельство. Для простолюдинов казалось значимым осознание объективной реальности как вполне законной. В условиях же продолжавшегося, как они считали, «царства Антихриста» рост повинностей воспринимался как вполне закономерное, но, в глазах народа, несправедливое следствие победы сатанинских сил. Подобная оценка ситуации, естественно, стимулировала народное недовольство.
Разумеется, «истинный» царь не мог поступать аналогичным образом, увеличивая народные тяготы. Более того, его поведение должно быть прямо противоположным. Так и вел себя Пугачев-Петр III, «ездя по городовой крепости и по улицам». Он объявлял людям, что «прощает их платежем, как подушных денег, так и протчих государьственных податей, вовсе, також и от помещиков свободными», т. е. опять поступал наоборот, вопреки порядкам, установленным императрицей [89; 190]. Поэтому протестующие низы были искренне убеждены, что «истинный» государь «старается за крестьянство и тех крестьян, которые ныне у господ, отбирает и дает им от всех податей на десеть лет свободу» [90; 61]. Иначе говоря, все поведение самозваного императора Петра Федоровича должно было демонстрировать непрекращавшуюся борьбу с «изнаночным» миром изменников-дворян.
Характеризуя «смеховое» восприятие пугачевцами сложившихся при Екатерине II порядков, отметим их противоположное отношение и к государственным преступникам. Другими словами, все действия, направленные во вред «неправедному» царству господ, имели для бунтарей положительную окраску, получали смысл богоугодного дела. Те, кто их совершал, в глазах пугачевцев – праведники и мученики, их необходимо спасать и привлекать к совместной борьбе. Например, в пугачевском манифесте от 3 декабря 1773 года «во всенародное известие» прямо приказывалось: «Кто раб боярский и если крестьян в неволе у злодеев, сегодня мною освобожден, кто в тюрьме, выпускается». Об этом же вспоминал на допросе и сам Пугачев: «Тюрьму велел отворить, но, были ль колодники, – не знает». Причем за неисполнение приказов «амператор» Петр Федорович недвусмысленно грозил «таковым головы рубить и кровь проливать, всю семью разделить» [33; 38; 36; 203].
Кстати, заметим, что та же логика протеста: враг моего врага – мой друг, прослеживается и в ходе других бунташных выступлений в России. Приведем показательный пример из истории разинского бунта: «В урочище Каравайные горы казаки остановили струг, везший колодников из Казани в Астрахань. Колодников они освободили, а кандалы разбили и побросали в воду. Все ссыльные присоединились к разинцам. Во время недолгого пребывания разинцев в Царицыне, который они хотели “взятьем взять”, С. Разин “у тюрьмы замок збил и сидельцев выпустил”» [15; 39].
Рассмотрим еще одну область сравнений. Екатерина II, реализуя интересы господствовавшего сословия, продолжала линию на отмену обязательной дворянской службы. Причем «дворянские вольности» последовательно реализовывались императрицей уже в первое десятилетие ее царствования, т. е. до пугачевщины. Однако отмена дворянской службы нарушала привычную людям социальную гармонию, когда дворяне служат, а крестьяне обеспечивают материальную возможность этой службы. Односторонность дворянской эмансипации должна была восприниматься крестьянами как очевидная перевернутость, как минус-поведение. Кроме того, «именно в царствование Екатерины II раздача дворцовых и государственных крестьян помещикам приняла невиданные размеры, – в каждый из 34 лет ее царствования в среднем раздавалось и жаловалось помещикам по 15 тысяч душ крестьян мужского пола» [7; 32 – 33]. Знаменательно при этом, что российское дворянство, подобно самодержавию в целом, приобретало новый облик в духе эпохи. Его привилегированное положение узаконивалось признанием его «вольностей», т. е. гражданских прав, и подкреплялось правом господства над крестьянами в силу непросвещенности последних.


