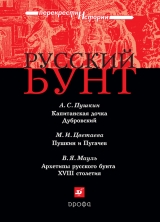
Текст книги "Русский бунт"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Марина Цветаева,В. Мауль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он – Пугачев, то есть живой страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный – еще и добрый, когда этот изверг – еще и любит.
В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою само-силу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку злодеяния – и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались – просто разбойнику?
Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовавшее бы быть. («По сему, что поэт есть творитель...»)
И сильна же вещь – поэзия, раз все знание всего николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрения.
Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал – другое, чем яснее видел, тем яснее видел – другое.
Можно сказать, что «Капитанская дочка» в нем писалась одновременно с «Историей пугачевского бунта», с ним со-писалась, из каждой строки последнего вырастая, каждую перерастая, писалась над страницей, над ней – надстраивалась, сама, свободно и законно, как живое опровержение, здесь рукой поэта творящееся: неправде фактов самописалась.
* * *
«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».
Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мировой лирики боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным[23]23
Прикасался. (Примеч. М. И. Цветаевой.)
[Закрыть], если Пушкин о Наполеоне мог сказать:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман
– то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал – ряд месяцев.
О Наполеоне Пушкин это сказал.
С Пугачевым он это сделал.
По окончании «Капитанской дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из всей тьмы низких истин – ни одной.
Чисто.
И эта чистота есть – поэт.
* * *
Тьмы низких истин...
Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.
Еще одно. Истины не ходят тьмами (тьма-тьмущая, Тьму-Таракань и т. д.). Только – обманы.
* * *
Возвращаясь к миру фактов. Оговорка – и важная: говорят, что сейчас изданы три тома пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в «Истории пугачевского бунта», а именно – без всякой низости, мужичьим царем и т. д.
Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине, иных материалов, кроме дворянских (пристрастных), не знавшем и этим дворянским – поверившем. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева – с пушкинским.
Если же, паче чаяния, Пугачев на самом деле встает мечтанным мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым – что ж, значит, Пушкин еще раз прав и один только и прав. Значит, прав был – унижающим показаниям в глубине своего существа не поверив. Только очами им поверив, не душой.
Как ни обернись – прав:
Был Пугачев низкий и малодушный злодей – Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже...
Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь – Пушкин опять прав, его таким, а не архивным – дав. (NВ! Пушкин архив опроверг не словом, а делом.)
Но, повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине – каков он был.
Был Пушкин – поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в «классической» прозе «Капитанской дочки».
В. Я. Мауль
Архетипы русского бунта XVIII столетия

Казнь Пугачева. Гравюра (XVIII век). Фрагмент.
Социокультурное введение в тему, или Русский бунт, «каким он казался»
В общей системе гуманитарного знания история занимает особое положение. Ее высокая роль и предназначение в современном мире бесспорны и не вызывают никаких сомнений. Яркие страницы прошлого, встающие из-под пера хронистов и мастеров исторического жанра, позволяют глубже осознать и понять потребности дня сегодняшнего, его задачи, сущность и перспективы. Historia est magistra vitae[24]24
История – наставница жизни (лат.).
[Закрыть], Historia est lux veritatis[25]25
История – свет истины (лат.).
[Закрыть] – утверждали древние и были, безусловно, правы. В каком разительном противоречии находятся эти слова с расхожим ныне представлением, будто история учит лишь тому, что она ничему не учит. Нередко можно услышать упреки в том, что история не знает прошлого, дескать, в книгах одни и те же события описываются и оцениваются по-разному, сегодня о них пишут иначе, чем вчера, и т. д. Такая критика, как ни странно это в XXI веке, повторяет средневековую мудрость: Quae locis et temporibus variantur, vere non esse[26]26
То, что меняется сообразно месту и времени, не является истинным (лат.).
[Закрыть]. Истории, следовательно, отказывают в научности, способности распространять объективное знание. Развиваются историческая апатия и индифферентизм. Эти опасные симптомы следует решительным образом преодолевать, ибо история наказывает за незнание уроков. Необходима новая, не только профессионально, но и интересно написанная история. Отсюда и возникает потребность при исследовании прошлого синтезировать возможности науки и искусства, как это не раз бывало ранее.

А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова (1830 – 1836).
Хорошо известно, что на протяжении многих веков историк и писатель нередко соединялись в одном лице. К историческим сюжетам, например, обращались Н. М. Карамзин, Л. Н. Толстой, другие великие творцы русской культуры. «При всей неповторимости каждого их объединяет стремление строить художественный рассказ о прошлом на основе глубокого изучения разнообразных источников...» [106; 4]. Не секрет, что интерес к истории всегда проявлял и Александр Сергеевич Пушкин, в чем читатель уже успел убедиться. Более того, Пушкин был историком-профессионалом, убежденным в том, что исторический труд предполагает глубокие знания о прошедшем, а любой источник подобных знаний требует критической проверки. Именно такое отношение к источникам превращало историческое разыскание в акт творчества.
Давно уже не является тайной и то, что в истории Пушкин больше всего любил бунтовщиков, а С. Т. Разина называл единственной поэтической фигурой русской истории. Вполне объяснимо пристальное внимание поэта-мыслителя и к истории пугачевского бунта. «Пушкин Пугачевым зачарован», – резонно утверждала Марина Цветаева. Нет ничего удивительного, что тема «Пушкин и Пугачев» давно привлекает ученых, и не случайно пугачевская пушкиниана насчитывает не одну сотню научных работ.
Новые попытки изучения пугачевского бунта не исключают реанимации пушкинских исследовательских подходов, вполне созвучных запросам современной гуманитаристики. Это, главным образом, стремление «очеловечить» бунт, показать его как арену деятельности конкретных, живых людей с их богатыми эмоциональными переживаниями: страхами, надеждами и разочарованиями, симпатиями и антипатиями и т. д. Особенность почерка Пушкина-ученого – акцент на мельчайших, порой даже бытовых деталях. Историческое пространство бунта показывается им именно через деталь и через человека. Для сочинений Пушкина о пугачевском бунте характерна содержательная многосложность, наслоение различных смысловых оппозиций: дворянин – дворянин; господин – слуга; каратели – бунтовщики; бунтовщик – бунтовщик; мужчина – женщина; добро – зло; жестокость – милосердие; жизнь – смерть и мн. др. Показательно, что Пушкин описывает пугачевщину, выводя на первый план многочисленные символические противоположности – социальные, моральные, культурные, личностные и др. Заметим, что, вопреки историографическому клише, у Пушкина бунт далеко не всегда выглядит таким уж бессмысленным. Знакомство с его произведениями убеждает, что Пушкин сумел продемонстрировать в бунте простонародья, как и в действиях Пугачева, глубокий социокультурный смысл. И не столь уж важно, насколько сам Пушкин осознавал данное обстоятельство. Важнее другое: множество деталей, им выделенных, несомненно, подчеркивают культурную составляющую русского бунта.

М. И. Цветаева. Фотография.
Необходимо принять познавательный вызов поэта и писателя и проанализировать русский бунт под соответствующим углом зрения. Отсюда возникает необходимость взглянуть на бунт не «сверху», как стало уже привычным, но с другой стороны. Не просто и не только «снизу», сколько «изнутри», глазами его участников и современников, чтобы понять тот смысл русского бунта, который не заметен изначально и раскрывается постепенно в ходе исследовательских интерпретаций.
Как известно, обычная, изо дня в день, жизнь человека является для него привычной повседневностью, которая на протяжении многих веков воспроизводила устоявшийся в поколениях уклад жизни. Новые формы культурного бытия могли интегрироваться в традиционную «картину мира» только тогда, когда осмысливались в старых категориях и понятиях. В этих условиях человеку могло быть нелегко, но он ощущал себя достаточно комфортно и спокойно, находился в душевном согласии с самим собой и с окружающим его миром. В пределах своей социальной сферы он имел достаточно возможностей для выражения себя в труде и в эмоциональной жизни.
Но иногда, под влиянием каких-то внешних факторов, происходил разрыв или прерывание повседневности. Возникали экстремальные обстоятельства, которые не могли не травмировать сознание человека. Подобную ситуацию, например, спровоцировала начавшаяся еще в XVII веке и растянувшаяся на многие десятилетия модернизация России. Столкновение традиций и инноваций вызывало глубокие колебания психики масс и имело необычайно серьезные последствия в виде кризиса традиционной идентичности[27]27
Идентичность (кризис идентичности, личная идентичность) – один из механизмов социализации личности, посредством которого усваиваются нормы поведения и ценности тех социальных групп или индивидов, с которыми личность себя отождествляет. Каждый индивид обладает несколькими различными идентичностями, что порождает проблему личностной идентичности. Если ему не удается решить эту проблему, возникает ситуация, получившая название кризиса идентичности.
[Закрыть], разные уровни которой (общественный, групповой и личностный) интенсивно наслаивались один на другой.
Кроме того, необходимо отметить двойственную природу русского бунта. С одной стороны, бунт не есть нечто типичное и обыденное в жизни страны. Это событие экстраординарное, чрезвычайное, из ряда вон выходящее. В то же время для российской истории он не был и совершенно исключительным явлением. Его специфические признаки «вызревали» в течение долгого времени. Несомненно одно: бунт всегда тяжело воспринимался и переживался простонародьем, давно понявшим, что «бунт не улучшает, а резко ухудшает существующую социальную ситуацию, не залечивает, а обнажает и заставляет кровоточить все болезненные язвы общества», а потому в народной исторической памяти «доминирует хотя и сочувственное, но все же осторожно-сдержанное отношение людей к мятежу: оплакивание разгрома восстания и казни его предводителя еще не адекватны готовности лично участвовать в подобном движении» [114; 22, 29]. По этой причине героизировать поведение народных масс на фоне русского бунта, представлять их сознательными творцами светлого будущего нет никакой необходимости. Они не нуждаются ни в модернизации, ни в приукрашивании: «…среди них были не только мужественные и бесстрашные, но и робкие и нерешительные, сомневающиеся и придерживающиеся нехитрого житейского правила “как все, так и я”. Ведь немало из них до того, как вспыхнул всенародный мятеж, покорно тянули свою лямку и, если бы не экстремальные обстоятельства, продолжали бы это делать» [113; 142].
Как справедливо подчеркивалось в отечественной литературе, атмосфера «повышенной против обычной социальной возбудимости и возбужденности стимулирует всякое массовое движение», а сами будущие мятежники «не ведают, когда им надоест терпеть “великия обиды и разорения”, в кого поверят, за кем пойдут» [144; 89].
Чувство тревоги и страха дополнялось эмоциональным негодованием и взрывом враждебности из-за ущемления привычного (традиционного) образа жизни. Поэтому, как правило, во время насильственных конфликтов бунтовщики обращались к старине, обычаю, что воспринималось ими как вполне достаточный и весомый аргумент в свою пользу. В протестном поведении реанимировались архаичные культурные архетипы[28]28
Архетип – первообраз.
[Закрыть]. При этом всплески эмоциональности простецов иногда сменялись приступами вполне прагматичных, в духе традиции, раздумий и действий, основанных на житейской сметке, практическом опыте и просто здравом смысле. Следует учитывать и то, что в этом случае бунт оказывался не столько продуктом экономической конъюнктуры, сколько явлением культуры.
Исследуя различные модели протестного поведения, необходимо помнить, что в любом обществе, помимо государственного, есть еще так называемое «фольклорное право». В его основе лежат неписаные этические нормы. Дело в том, что любая культура располагает средствами насилия по отношению к тем, кто ее должен разделять. В этой системе принуждений бунт – последняя ступень обычных санкций, предусмотренных народной традицией, одно из нормативных средств для защиты традиционного уклада жизни.
В психологическом отношении бунты выполняли и своеобразную психотерапевтическую функцию, служили своего рода катарсисом[29]29
Катарсис – духовное очищение, просветление, внутреннее освобождение, которое испытывает человек.
[Закрыть]. Очищение происходило постольку, поскольку в ходе открытых народных выступлений находили выход примитивные инстинкты, насилие, сексуальность, которые в повседневной жизни подавлялись существовавшими этическими и нравственными нормами. Поэтому возникает необходимость реконструкции русского бунта не таким, «каким он, собственно, был», но таким, каким он разворачивался в умах людей, его переживавших. Хорошую возможность для этого предоставляет пугачевщина, которая в максимальной степени воплотила в себе сущностные черты и особенности отечественного бунтарства. Составлявшие или наблюдавшие протестующую толпу люди по-разному реагировали на события. Их реакции создают своеобразную историко-психологическую совокупность, на фоне которой раскрывались наиболее яркие проекции русского бунта как феномена социокультурной истории Руси/России. Бунт порождал ситуацию, которая акцентировала весь «букет» эмоциональных ощущений человека. К тому же в ходе бунта происходило постепенное замещение одних эмоций другими, т. е. одни эмоциональные ощущения вытеснялись другими. Это и обеспечивало развитие бунта от одного этапа к другому.
Речь идет, например, о панике, опасениях и страхах, охвативших простонародье. Привычные ценности на глазах рушились, превращались в свою противоположность, сдавали позиции в противоборстве с культурными инновациями, что не могло не вызывать глубокого беспокойства среди общественных низов. Но в то же время – это и испытываемое ими в условиях бунта удовольствие. Еще К. Н. Леонтьев справедливо заметил, что русский мужик «веселился бунтом». Можно даже предположить, что пережитые ранее страхи компенсировались теперь чувством наслаждения вседозволенностью, безграничностью возможностей, сменой социальных ролей и т. п. Данный эмоциональный контекст создавал смеховой антураж вокруг многих сцен «бунтовщического представления», в частности казней, которые, по признанию самих пугачевцев, нередко совершались «ради потехи». Своеобразной вершиной эмоционального удовольствия можно считать пугачевскую версию «игры в царя», с помощью которой достигалась самоидентификация Е. И. Пугачева и его сподвижников.
Не стоит также забывать о чувстве разочарования, поводом для которого становились поражения и неудачи повстанческого войска. Все чаще возникали сомнения в своем вожде: он – не царь. Формировались психологические реакции в виде досады и гнева, что усугубляло разочарование и представления об измене. Отсюда и активизация инстинкта самосохранения и других поведенческих стереотипов общественных низов, столь ярко проявивших себя в условиях разгрома протестного движения.
Следовательно, необходимо изучать русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи (культуры), его породившей. В результате становится возможным реконструировать не только различные модификации бунтовщического поведения, но и тот объективный смысл русского бунта, который складывался из многочисленных субъективных смыслов его современников и участников.
Русский бунт и Емельян Пугачев в историко-культурном интерьере переходной эпохи
Обращаясь к анализу протестного движения, можно увидеть, как на социокультурном пространстве русской истории с помощью бунта народ пытался построить идеальную модель «православного царства». Катализатором же, способствовавшим бурному росту утопических чаяний и активных попыток их воплощения в XVII – XVIII веках, оказался кризис идентичности, переживавшийся традиционной культурой в условиях ее противостояния процессу модернизации. Из тупика системного кризиса традиционная культура искала спасение в самой себе. Модернизация же подражала образцам извне (т. е. чужим и чуждым), принудительно внедряя их в не подготовленную для этого почву.
Поиск культурой традиционной идентичности приводил к использованию различных защитных механизмов, важнейший из которых – бунт. «Вспомнив» о нормативной функции, традиционная культура защищала свои ценности также с помощью насилия. Российская модернизация уверенно формировала имперскую альтернативу развития страны, которая раскрывала себя на разных этапах истории как рационализм, материализм, плюралистический либерализм. Ее ценностный вектор неизменно был направлен в сторону Запада. Инновации дестабилизировали традиционную гармонию, разрушали привычный, а потому и уютный мир русского простеца. Традиционная культура искала адекватный противовес идеологии модернизма. Дальнейшее развитие могло осуществляться как реализация одной из вероятных альтернатив.
Народная альтернатива реализовывала себя в бунтах, которые, отстаивая ценности традиционализма, корректировали модернизацию. Всеобщее негодование, вызванное политическими, социальными, экономическими и другими симптомами модернизацион-ного сдвига, готовило почву для появления на небосклоне российской истории и лидеров, и возглавляемых ими движений протеста. Через бунт традиционная культура пыталась транслировать свои ценности в будущее, а сам он выступал в роли своеобразного моста между прошлым и будущим, пытался восстановить рвущуюся связь времен. Поэтому бунт оказывался не просто социальным протестом или, например, классовой борьбой, но органичной частью культуры, ее функциональным элементом в ситуации, когда атрибуты наступающей модернизации пробивали себе дорогу к жизни, боролись за право на существование с привычно-традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и даже страх в глубинных слоях их подсознания.
В российском обществе XVII – XVIII веков сложилась эмоциональная атмосфера, в которой бунты становились своего рода лекарством от коллективного страха. Психологической же основой страха была утрата чувства безопасности, которая скорее переживалась, чем осознавалась.
Поскольку мышление людей, принадлежавших традиционной культуре, было мифологизировано и проникнуто пристрастием к «идеальному» прошлому, виновниками всех бед считались нарушители со-циальной «гармонии» и обычаев – бояре (дворяне), чиновники и вообще все те, кто стоит по другую сторону баррикад. Они в возбужденном сознании бунтовщиков выступали в качестве изменников, заслуживавших самого сурового наказания. Понятие «измены», чрезвычайно характерное для традиционной психологии, позволяло осмысливать борьбу против нарушителей порядка, установленного, по мнению простонародья, Богом и Царем, не только как законную, но и требующую поощрения со стороны государя. «Изменники» же, преступившие божественные установления, лишались права на земное и небесное покровительство. Не случайно в большинстве случаев подобного рода народные бунты сопровождались слухами о царских постановлениях, разрешавших насилие. Открытый протест, с точки зрения его участников, приобретал легитимный[30]30
Легитимность – правомерность, допустимость, оправдание определенного действия на основе его соответствия общепринятым нормам и ценностям.
[Закрыть] характер и мыслился как борьба за социальную правду.
Следует помнить, что месторазвитием русского бунта было обрядовое, ритуальное пространство традиционной культуры, но подвергшееся мощному натиску инновационных сил. Это обстоятельство не могло не отразиться на «картине мира» бунтовщиков. Привычно ощущаемые и признаваемые ценности неизбежно искажались, хотя сами участники народного протеста могли этого не осознавать. Чем дальше заходил процесс «порабощения» России достижениями европейской цивилизации, тем большим деформациям подвергались традиционные ментальные[31]31
Ментальность – стиль коллективного мышления эпохи или общества, выраженный в интуитивных, бессознательных образах, архаичных по происхождению. В основе ментальности лежит культурный архетип.
[Закрыть] стереотипы. Объективно тяготея к традициям, коллективное воображение не успевало приспосабливаться к переменам, безнадежно отставало от менявшейся объективной реальности, а потому старалось цепко держаться за прошлое – «мертвый хватает живого».
Традиция и модернизация столкнулись в смертельном поединке, но отчаянные попытки «спасти» идеально-воображаемый образ прошлого не удавались. Соединительные скрепы (нити) истории постоянно рвались. Ткань времен не удавалось залатать. Страна втянулась в пучину непримиримого социокультурного конфликта, растянувшегося на длительный срок. В России данный процесс преимущественно приходился на XVII – XVIII века, которые намечают основные хронологические контуры русского бунта.
Заметим, что такая хронология обосновывается рядом обстоятельств. Русский бунт тесно связан с переходным состоянием общества, когда новое в культурной жизни с трудом и постепенно приспосабливалось к старым привычкам, навыкам, ощущениям. Для нашей страны переходный период впервые обозначен XI – XII веками. Однако с тех пор пространственные параметры отечественной истории и культуры существенно расширились. Поэтому протестные «жесты» «гилей» и «мятежей» Древней Руси ближе к поведению бунтовщиков, например, во Франции или Англии на исходе Старого порядка. Их пространственное измерение было похожим своей ограниченностью. Поведенческие аналогии можно обнаружить и сопоставляя древнерусские «замятни» с действиями русских низов во время, например, Соляного или Медного бунта, которые также не вышли за узкие пространственные рамки.
Иное дело народные выступления, подобные разинскому или пугачевскому, – здесь совсем другие масштабы, незнакомые европейцам и потому приводившие их в изумление. Так, один из просвещенных иностранных современников разинщины И. Ю. Марций писал: «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок» [62; 71]. Подобные отклики неоднократно заслуживала и пугачевщина. Следовательно, русские бунты, не имевшие аналогов и вызывавшие удивление и испуг у представителей западной культуры, в своей, так сказать, «классической» форме громыхали на бескрайних пространствах страны именно в XVII – XVIII столетиях.
Как известно, при анализе и сравнении исторических альтернатив оценочные критерии типа «лучше» – «хуже», «более развитый» – «менее развитый» и т. п. с очевидностью неуместны. Однако именно их чаще всего и можно встретить в научных исследованиях. При всей условности сослагательной реконструкции прошлого вероятность народной альтернативы, заявленной с помощью бунта, сегодня начинает осознаваться как вполне реальная. Многие историки все чаще признают возможность (хотя и гипотетическую) победы русских бунтарей. Другое дело, что они считают ее перспективы менее плодотворными и, главное, – регрессивными. Процитируем категоричное суждение В. М. Соловьева. «Уже ставился, – пишет он, – правомерный вопрос: чем “непросвещенный абсолютизм” самозванца Пугачева лучше [здесь и далее выделено мною. – B. М.] просвещенного абсолютизма Екатерины II? Ответ однозначен: ничем. Наоборот, он гораздо страшнее, и атавистическая дикость и свирепость его вызывают оторопь и содрогание... Брутальность и способы расправы пугачевцев с “господами” были намного круче, чем набор мер устрашения и наказания, к которым прибегала репрессивная машина властей» [112; 192].
Хорошо известно, что народная альтернатива в форме бунта в XVII – XVIII веках не сумела реализовать свои исторические потенции, и гадать на тему, что было бы, если... – очевидного резона нет. Казалось, можно успокоиться этим и признать проблему русского бунта принадлежащей только прошлым векам. Но вот некоторые авторы отмечают, что русский бунт не исчез с исторической арены страны с подавлением пугачевщины, и допускают использование соответствующей терминологии для анализа общественного протеста более позднего времени. Например, погромное движение в городах России в 1917 – 1918 годах считают проявлением «бессмысленного» и «беспощадного» русского бунта, а саму Октябрьскую революцию рассматривают как результат системного кризиса империи и десакрализации[32]32
Сакрализация – превращение кого-, чего-либо в предмет поклонения, наделение его священными свойствами. Десакрализация – прямо противоположное понятие.
[Закрыть] государственной власти, которые имеют содержательные аналогии в «бунташном» веке. Шире – в традиционных мироощущениях народа и властителя: «…историю последнего российского императора можно использовать в качестве своеобразного пособия для изучения природы власти в России через людские представления о ее пороках и достоинствах... Правитель изначально представлялся абсолютным. Ему позволялось даже в определенных пределах быть неудачником, но он не имел права быть не таким, как хотелось низам».
И далее: в России «император [Николай II. – В. М.], не обладавший ни волей, ни инстинктом власти, стал “лишней” фигурой для державы... Финал последнего императора, тяготящегося своими высокими обязанностями и ищущего отдохновения от них в личной жизни, оказался символичен до содрогания» [16; 50 – 51].
Временные и смысловые экстраполяции русского бунта на современную почву вызвали мнение о том, что России следует опасаться Пугачева с университетским образованием, ибо он сможет довести бунт до победы, а перед Европой закамуфлировать суть происходящего привычными для европейского слуха понятиями. Так и случилось. Объявив русский бунт социалистической революцией, В. И. Ленин посеял смущение в головах европейских прогрессистов. По сути дела Октябрьская революция явилась первым в русской истории победившим бунтом, поэтому и «масштабы разрушения были более впечатляющими, чем, скажем, после пугачевской или разинской войны». Россия в 1917 году переживала «пугачевщину», но «пугачевщину» особого рода [46; 163, 72, 107].
На исходе XX столетия некоторыми историками был сформулирован, казалось бы, крамольно звучащий вопрос: возможен ли русский бунт сегодня, в наше время? Ответ на него, разумеется, представляет исключительную научную важность и актуальность. Впрочем, не только научную. «В конце 80-х – начале 90-х годов мы стали свидетелями целого ряда бунтарских всплесков... Так что “бессмысленный” бунт в конце XX века мы видели» [45; 142].
Заметим, что такая постановка проблемы имеет под собой почву. Допуская, что современные мироощущение и мировосприятие людей сохраняют явственные слепки своего родового прошлого, можно предполагать, что покушение на исторически транслируемые ценности способно привести в действие стихийную энергию масс, спровоцировав бунт. Что ж, очень может быть. Переходное состояние общества нередко пробуждает к жизни «демонические» силы традиционализма, использующие бунт в качестве защитного механизма. В любом случае следует признать, что и сегодня гипотетический грозный призрак русского бунта – это атавизм традиционной культуры, с которой он связан нерасторжимым «браком», и, если он возможен, значит, «выдавить по капле» из себя свое традиционное прошлое российскому обществу все еще не удалось.
Попутно обратим внимание на то, что ученые, приводя многочисленные примеры, дружно фиксируют стихийно-погромную и в этом отношении «бессмысленную» природу русского бунта. Взгляд, как мы знаем, очень распространенный. Удивительно, но некоторые современники знаменитых русских бунтов были по отношению к ним в чем-то прозорливее и справедливее сегодняшних авторов. Например, немецкий демократ XVIII века И. Г. Зейме писал: «Бунт означает сопротивление, а восстание – силу и решимость идти прямым путем. Следовательно, и то и другое может быть проявлением прекрасных мужественных добродетелей. Лишь обстоятельства клеймят их позором» [40; 593]. Увы, за истекшие с тех пор два с лишним столетия мало кто смог подняться до подобной «симпатизирующей» оценки.
Полагаем, что критические характеристики русского бунта опираются на прочный фундамент европейских прогрессистских учений. Понять такую позицию несложно. Она a priori признает благодетельность для России общеевропейского пути развития, а следовательно, неизбежность и прогрессивность модернизации.
Поскольку бунт препятствовал прогрессу, он воспринимался и воспринимается до сих пор как историческое зло. Поэтому рассматриваются преимущественно его разрушительные стороны. Таким виделся бунт уже российской элите XVIII столетия, зараженной вирусом «западнизма». Вирусом этим охвачено и современное интеллектуальное сообщество, симпатизирующее культурным ценностям Запада.
Не станем оспаривать прогрессивность вестернизации, ибо это уведет нас в область давних споров западников и славянофилов. Попытаемся «всего лишь» понять, какое смысловое содержание вкладывается сегодня в понятие прогресса. Согласно словарному определению, прогресс – это «тип развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. Понятие прогресса применимо и к исследованию общественной жизни. В основе общественного прогресса лежат многообразные потребности человека, а его движущей силой является творческая деятельность человека. Важнейшим критерием прогресса в обществе выступает свобода человека, качество его жизни, гуманность общественных отношений» [41; 200].
Однако такие определения порождают множество вопросов. Например: что такое «низшее» и «высшее» применительно к истории человечества, каковы их критерии? Что означает «более» или «менее» совершенное? Как надо понимать «свободу», «гуманность» и т. д. и т. п.? Не секрет, что в большинстве случаев ответы предполагаются в границах европоцентристского видения истории, отстаивающего превосходство ценностей западного культурного ареала, что вызывало обоснованные возражения уже у мыслителей прошлого; не согласны с подобными резонами и многие сегодняшние исследователи.
Недостаточность предлагаемых формулировок и проблематичность их перенесения на русскую почву издавна побуждали ученый мир ставить вопрос о степени «европейскости» России. Вполне привычным сегодня выглядит утверждение «Россия – Евразия». Предлагают даже новое слово – «Азиопа», с большим акцентом на азиатской сущности русской культуры. Одним словом, в кругу мыслителей-интеллектуалов нет единства в трактовке вопроса о глубинной сущности русской культуры. Поэтому вызывает недоумение общая однобокость подходов к изучению такого фундаментального феномена отечественного культурно-исторического процесса, как русский бунт.


