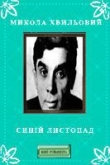Текст книги "Листопад"
Автор книги: Александр Никонов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Останови-ка тут, братец! – Димка расплатился с извозчиком, и мы направились к парадному. – Верно рассуждаешь, профессор словесности. Есть там такая Крестовская. Она... В общем, сам увидишь.
В квартире Алейников, покрутив ручку телефона и покричав барышню, связался со своим прыщавым приятелем, оказавшимся позже хлыщеватым, бледным юношей.
Вечером мы уже стучались в обшарпанную дверь где-то в Замоскворечье. Вернее стучался, облизывая губы бледный парень, видно, студент-неудачник. Мы с Дмитрием были уже чуть навеселе, но тщательно скрывали си обстоятельство, могущее, как нам казалось, своей несерьезностью нарушить святость борьбы с тиранией. Электричества в этом доме не было, давала свет лишь семилинейная керосиновая лампа висящая над столом с лежащими на нем какими-то серыми брошюрами. Видно, это и была запретная литература.
Когда мы пришли, собрание было уже в самом разгаре. Нас наскоро представили – "Николай, Дмитрий", – и взгляды присутствующих вновь возвратились в сторону выступающей худой девушки. Она стояла посреди комнаты, опираясь руками о спинку стула и что-то горячо вещала. Лицо ее, скорее, некрасивое, нежели наоборот, удлиненное, с тяжеловатой челюстью было покрыто легким румянцем возбуждения. Разные глаза – зеленый и карий лихорадочно блестели. Ко всему прочему, она была еще и рыжая.
Я не очень вслушивался в ее гневные филиппики, рассматривая саму выступающую и окружающую обстановку. Кажется, говорила она что-то о положении рабочих и о давлении мещанских предрассудков на психологию женщины. Да, по-моему, особо никто ее и не слушал. Все словно чего-то ждали. Брылястый парень в косоворотке, сидевший прямо за спиной выступавшей, пялил буркалы на ее задницу обтянутую черной длинной юбкой и часто сглатывал слюну. Его, конечно же возбуждал не смысл сказанного, а звуки женского голоса и шов сзади на юбке. И предвкушение.
А говорившая возбуждалась от своей собственной речи все больше и больше. Ее очаровательный румянец, который даже делал привлекательнее ее некрасивое лицо, сменился красными пятнами. Голос рыжей сделался хриплым и срывался. И вдруг она начала площадно, по-извозчичьи ругаться. Я с непривычки опешил, но остальным это было, видно, не в диковину. Распахнутыми глазами они жадно глядели на говорящую и ноздри многих трепетно подрагивали.
Так же внезапно ораторша прекратила ругаться, вскрикнула (я вздрогнул от неожиданности) и застонала, подала тазом назад, чуть согнулась и явно сильно свела ноги.
В первые секунды я не понял, что произошло, показалось, что ей плохо. Я даже сделал непроизвольное движение руками, чтобы подхватить, если она начнет падать. И тут же дошло: эта истеричка только что испытала сексуальную разрядку. Я слышал про такие вещи.
– Крестовская, – шепнул мне на ухо Алейников, – известная нимфоманка и трибада.
Крестовская явно положила на меня глаз. Я понял это потом, когда в дикой сатурналии сплелись голые тела, и моим телом целиком завладела некрасивая Крестовская. Некрасивая, да, но тем не менее, что-то притягательное в половом смысле в ней было. Не знаю что. Уж, конечно, не маленькие висячие груди с огромными коричневыми сосками, которые словно сумочки прыгали при каждом ее скачке: она оседлала меня сверху (эта необычная позиция меня, помню, безумно возбудила) и яростно и часто насаживалась, кусая губы и матерясь. При этом она два или три раза ударила меня по щекам, впрочем, не очень сильно.
После того, как я испытал пик возбуждения, Крестовская переместилась и начала терзать какую-то девушку. Комната оглашалась стонами и хриплым дыханием. Алейников занимался какой-то пышечкой, разложив ее прямо на столе с брошюрами.
Зрелище сапфийской любви снова возбудило меня. Заметив это, Крестовская опять переместилась ко мне, грубо толкнула в грудь – я не сопротивлялся: пассивная роль меня вполне устраивала, я не собирался в первые ряды революционеров, – свалила на спину и снова начала "насиловать". Мы лежали на когда-то длинноворсном, а ныне уж куда как повытертом персидском ковре. Крестовская-амазонка расположилась сначала ко мне лицом, раскачивалась, ерзала, что-то бессвязное причитала и сильно мяла узловатыми длинными пальцами свою грудь.
В этот момент со мной случилось нечто странное. На мгновение мне показалось, что Крестовская использовала меня как салфетку и отбросила. Будто полностью овладела моей душой, и я был удивительно пассивен не потому, что хотел этого, а потому что не в силах был сопротивляться. На какое-то время она просто подчинила себе меня всего, без остатка. Пока она властвовала мной, я себе не принадлежал. Женщина-вампир... Это странное ощущение мелькнуло и прошло.
Новоиспеченный офицер Алейников, закончив на столе с пышечкой, отвалился на стул и стал обмахиваться какой-то революционной брошюрой. Может быть, со статьями самого Ульянова-Ленина, засевшего нынче в Москве.
Давно уже закончили свои дела все революционеры-ниспровергатели, лишь Крестовская не унималась.
Ей всего было мало! Когда уже никто не мог более поддерживать этот марафон, Крестовская видя полное опустошение и усталость в душах как старых, закоренелых революционеров, так и неофитов, удовлетворила себя сама, расположившись на столе под лампой так. чтобы присутствующим было видно все ее красное и влажное подробно.
И я понял, в чем заключалась ее привлекательность – в необузданной энергии, которая светила в каждом ее движении.
– Ну как тебе Крестовская? – спросил Дима уже дома, выходя из ванной закутанным в махровый халат. – Кстати, сполосни свое хозяйство в растворе марганца, от греха.
– Замучила меня твоя революция.
– Ага. Она любит новеньких. Меня в первый раз тоже всего измочалила.
– Да, будет, что в Вильно вспомнить. А интересно, есть в Вильно революционеры?
Мы расхохотались.
– Слушай, -я рухнул в кресло-качалку. Раскачиваясь потянулся за бутылкой вина, ухватил ее, едва не уронив. – Как ты знаешь, я имел честь учиться в Казани. Ну там были, естественно, какие-то сходки, сборища, так, чепуха юношеская. Но таких страшных врагов царизма я там не видывал. В Москве все революционеры такие?
Я отпил из горла вина и передал бутылку другу.
– Нет. Есть настоящие, – Алейников лихо раскрутил бутылку и в два глотка опустошил ее. – Есть. Но с ними неинтересно...
...Да, это была она. Свидетели описали следователя харьковской губчека Крестовскую – рыжую, худую, с разными глазами. Только теперь она постриглась и носит короткие волосы. "Бешеная", – так охарактеризовал ее старик-обходчик, брошенный в камеру-двойку "за саботаж". Он сидел вместе с неким Пашкой, одноглазым дьяком, которого взяли, по-моему, за то, что он был дьяк. Пашка рассказывал старику, что творила Крестовская на допросах. Все ее давние наклонности получили развитие на благоприятной почве чекистских застенков. Она орала, била по щекам – для затравки. Раздевала Пашку догола, хлестала плетью, била босой ногой в пах, царапала, прижигала половые органы сигаретой.
На одном из допросов притащила откуда-то стакан крови, выпила половину. Кричала, что пьет кровь врагов революции. Заставила пить Пашку, того вырвало. Крестовская разбила о его лицо стакан, изрезав осколками.
По другим показаниям (пленного харьковского чекиста Шерстобитова, впоследствии повешенного нами во дворе централа) Крестовская имела интимные отношения почти со всеми следователями губчека, иногда совокупления происходили в присутствии арестованных женщин. Имела она интимную связь и с самим Шерстобитовым. Он признавался, что после одной из таких встреч, Крестовская попросила его вымыть руки и ввести ей во влагалище два деревянных полированных шарика соединенных медной цепочкой. "Не терплю пустоты, – говорила ему тогда Крестовская. – Если во мне нет члена, заполняю ее так. Помоги, Шерстобитов, своему революционному товарищу деревянный протез поставить." Так шутила.
Бывало, Крестовская проводила допрос голой. Затянув волосы косынкой, надев на талию ремень с кобурой, а на ноги тяжелые кованые сапоги. Она хрипло орала, вырывала волосы.
Женщинам на допросах Крестовская откусывала соски.
Оказалось, что, кроме изменившейся прически, со времени нашей московской встречи на ее левой груди появилась татуировка – скрещенные кинжал и хлыст на фоне пикового сердечка. Дама пик...
...Когда я все это слушал, протоколировал, невольно вспоминал то московское приключение – закатившиеся глаза Крестовской, закушенные губы, прыгающие груди, ломающиеся тени от семилинейной лампы. И содрогался, представив себя в ее лапах в серых харьковских застенках.
Во время эксгумации из могильника были извлечены тела убиенных – женщин со страшными ранами на грудях, людей с перерезанными глотками, с выломанными крюком ребрами. Извлекли и отрезанную одноглазую голову. Обходчик опознал в ней бедного Пашку...
Они не искали врагов и не расследовали заговоры. Они просто хватали целых и теплых людей для развлечений. Кровавая баня...
...Потом еще как-то раз мы встретились с тем лядащим студентом, который привел нас на сходку. Кажется, это было на Маросейке.
Студент шел с миловидной женщиной лет сорока. Видно, что беседовали они о чем-то серьезном. О судьбах народа, конечно, о чем еще? А мы с Алейниковым, как назло, по странному совпадению опять были навеселе, ибо вывалились из весьма уютного полуподвальчика, бывшего в содержании какого-то поляка.
Мы поздоровались, Алейников, хотя и был в цивильном, лихо щелкнул каблуками и, дернув подбородком, представился:
– Дмитрий Алейников, старый революционер.
Я не отстал от своего военного друга, тоже прищелкнул калошами, резко мотнул головой на манер лошади:
– Николай Ковалев, молодой революционер.
Женщина, сопровождаемая нашим юным другом просто и мило кивнула и произнесла без улыбки, протянув тонкую руку:
– Александра Коллонтай.
– Отчего вы больше не посещаете сходки? – косясь на спутницу спросил нас юноша. – Я вот приглашаю Сашеньку к нам, побеседовать о революции, пообщаться.
Мы с Алейниковым переглянулись:
– Ну если придет такая милая барышня, мы будем непременно...
Но больше мы с Алейниковым к ниспровергателям царизма не ходили. Мы катались по ресторанам, дешевым публичным домам. А то и просто гуляли в московских парках, загребая ногами желтую листву и читали друг другу стихи. Он мне свои, я ему Северянина и свои. Так проходила последняя осень.
– Ты изрядный поэт, Дима, – говорил я после бутылки "Клико". Артиллерист Толстой бросил армию и стал большим писателем. Забрось свои портупеи и пиши стихи. Хочешь, езжай в мою усадьбу, благо она не продана, затворись там, как Пушкин в Болдине, и только пиши. А я тебе буду изредка присылать провизию и блядушек. Ты хоть записываешь свои стихи, бестолковый?
– Не-а... Почти никогда. К чему? Вот еще, слушай...
И опять читал. Он много читал. Запомнилось же немногое. Обрывки. Как жаль!
Я вошел осторожно
В засыпающий сад.
Мне на ухо тревожно
Зашептал листопад...
Я помню наизусть только несколько его стихотворений, которые буквально заставил его надиктовать на карандаш. Записав, я выучил их наизусть. И теперь помню
...Алейников, брат мой Алейников, жив ли ты? Где ты? Что с тобой?"
x x x
– Покажи, – Козлов достал из кобуры наган и протянул Ковалеву, кивнув в сторону смущенно улыбавшегося подпоручика Резухи. – А то он не верит.
– Не верит, говоришь, – Ковалев взял наган, секунду подумал, сунул его в карман галифе. – Пойдем.
Офицеры вышли в большой внутренний двор бывшей гимназии. Одна сторона его периметра представляла собой глухой кирпичный забор. Видимо, благодаря этому удачному стечению обстоятельств, тут и расположили контрразведку. Предполагалось, что в глухом дворе, напротив стены удобно расстреливать. Здесь и расстреливали из наганов. Раньше глушили и без того не очень громкие револьверные хлопки заводя граммофон, но потом перестали: жители окрестных домов быстро смекнули, что означает музыка средь белого дня. Таиться уже не имело смысла, поэтому расстреливали не стесняясь. Иногда для разнообразия вешали. Совсем уж без шума.
Козлов укрепил на стене 14 белых листков с нарисованными на них карандашом кружками диаметром примерно в пять сантиметров.
– С ходу, Николай Палыч, на бегу, вон от угла в направлении той стены.
Ковалев отошел на исходную позицию, вынул из кармана наган Козлова, переложил его в левую руку, расстегнул кобуру и достал свой револьвер. Он поудобнее пристроил револьверы в ладонях, шаркнул подошвами сапог, как бы проверяя сцепление с мостовой, внимательно осмотрел повешенные на стене листки.
Резуха с Козловым молча наблюдали за ним. Из окон гимназии, выходящих во внутренний двор выглядывали офицеры управления. Некоторые из них уже слышали о способностях штабс-капитана Ковалева или видели этот фокус раньше.
Ковалев подозревал, что Козлов поспорил с подпоручиком на бутылочку винца или горькой. "Мальчишки," – штабс-капитан прикрыл глаза, настраиваясь: – "А я не мальчишка?"
Он постоял несколько секунд в напряженной тишине, подняв стволы к небу, потом открыл глаза и побежал немного боком, вполуоборот к стене, приставными шагами.
Где-то на третьем шаге грохнул первый выстрел. Штабс-капитан стрелял с обеих рук.
...Правый первый, второй...
...Левый первый, левый второй...
Хлопали выстрелы, вздрагивали листки бумаги. Пули откалывали кирпичную крошку.
...Правый четвертый... левый пятый... левый шестой... правый пятый...шестой, седьмой... левый седьмой...
Последний выстрел прозвучал, когда Ковалев уже почти добежал до стены здания.
– О-ля-ля! Браво! – Козлов подбежал к стене и собрал листки, пересчитал. – Как всегда великолепно, Николай Палыч. Экий вы право, молодец. Одиннадцать из четырнадцати!
– Неплохо для учителя словесности, – похвалил себя штабс-капитан не скрывая удовольствия, бросил левый наган Козлову.
Поручик поймал наган.
– Пойдемте стволы чистить, Николай Палыч.
– Где же вы так обучились? – с нескрываемым уважением спросил Резуха.
– Если уж делаешь какое-то дело, так лучше делать его хорошо. После первого ранения в ногу, в госпитале кто-то притащил два ящика нагановских патронов, и мы от нечего делать целыми днями скандалили. С правой, с левой, с обеих. Когда смог ходить и бегать – на ходу, на бегу. В отпуске потом много стрелял. Правда, в тылу с патронами было сложнее... Ну и на фронте, разумеется, тренировался. На фортепиано играть разучился, на пистолетах научился. Собственно, наука нехитрая. Сплошная практика, стрелять надо больше. Чувствовать оружие, что опять-таки дается практикой.
Когда они с Козловым остались одни, Ковалев сказал:
– Кстати, Олег, с тебя полбутылки.
– Полбутылки чего?
– А того, что тебе Резуха проспорил.
Козлов засмеялся:
– Хитер ты, Николай Палыч. Но с этого жмота малоросского еще получить надо.
– Получишь, – сказал Ковалев по одному отправляя в барабан патроны взамен расстрелянных, – ты парень настырный.
= x x x
Крестовская.
Вчера я напилась и блевала.
Мы нажрались с Сидоровым и этим матросом (не помню как его имя) какой-то бурды, сивухи. Сволочь Сидоров принес. Где берет?
Я вчера подкалывала его:
– Если будешь приносить еще такую дрянь, напишу на тебя товарищу Ленину. Он, говорят, строг к алкоголикам. Пропьете революцию. Посадит он тебя на кол, Сидор ты вонючий.
Но лучше такая сивуха, чем просто брага без перегонки.
Вчера этот слизняк ничего не смог сделать. Хорошо хоть матрос оказался стоящим. Залудил мне до самых печенок. Но я была пьяна. Никакого удовольствия. Он называл меня ведьмой. Все называют меня ведьмой. Предрассудки.
Хотя, по честному, у меня бабка по матери, говорят, была колдуньей. Я в нее. Кровь она заговаривала. Могла порчу навести, сглаз сделать. Травами односельчан лечила. Могла глазами своими черными упереться и усыпить теленка или даже человека. Я читала, это называется гипноз.
Я замечала за собой, что тоже могу влиять на людей, подавлять их волю. И мне это нравится. Ну а остальное бабкино – заговоры, порча и так далее чепуха, ясное дело. Опиум для народа, как говорит Ленин. Мы бы сейчас моей милой бабке быстренько в ЧК мозги прочистили, чтоб не разводила религию и поповщину...
Сегодня, проспавшись, умылась и пошла к себе. По дороге вспомнила о радости. Позавчера Сидоров взял на белогвардейской явке одного офицерика. Я на него сразу глаз положила. Огромного роста, блондин, а усы черные, ручищи здоровенные. Уговорила Сидорова отдать его мне "для психической обработки".
– Ну и лярва ты, – сказал Сидор, но офицера на первый допрос отдал. Сказал только, чтоб не портила его. Делом, по которому он взят, заинтересовался сам Дзержинский. Там какая-то обширная монархическая организация... Но меня это не касается. Я теперь занимаюсь другими делами. И офицерика мне портить не резон. Такие экземпляры редки.
Я прошла к себе в кабинет, походила ожидая, когда приведут офицера. В предвкушении допроса я чувствовала нарастающее возбуждение, когда тело стенает в неукротимом желании. Я готова растерзать любого, чтобы насытить себя.
Красноармеец втолкнул ко мне офицера. Я вдруг осознала, что даже не знаю сути его дела. Подлец Сидоров не удосужился хоть для проформы просветить меня на этот счет.
– Садись! – я ткнула пальцем в направлении прибитого табурета ч
Ах, какой самец! Я представила себе, как он грубо берет меня и у меня непроизвольно сжались бедра. Это бывает заметно со стороны, я никак не могу избавиться от этого спазматического движения.
Сейчас, когда офицер сел на табурет, я спросила его имя, написала шапку протокола. И начала...
Я завожу себя не сразу. Потом расхожусь, возбуждаясь все больше и больше.
Я ругалась как извозчик, кричала на него. Он не ожидал такой от меня агрессии, опешил. Я чувствовала нарастающее возбуждение и приближение окончательной разрядки. Когда-то на сходках я настолько возбуждалась от агрессии своего голоса, что от малейшего движения или вдоха я разряжалась в экстазе, непроизвольно сводя ноги.
Теперь я хотела властвовать над самцом. Получить удовлетворение унизив и растоптав его личность. Я подошла к нему и с удовольствием отвесила звонкую пощечину. Я, слабая женщина вознесенная к власти, распоряжалась этим породистым, сильным самцом.
И тут случилось непредвиденное, то, чего я никак не ожидала. Он вдруг вскочил, возвысившись надо мной во весь свой рост, схватил меня за горло, встряхнул, придавил и отбросил в угол кабинета. Я испугалась, упала и ощутила сильнейший половой экстаз. Я испугалась, упала и ощутила сильнейший половой экстаз. Меня буквально скрутила. Такое со мной случалось несколько раз в жизни. Это был длинный, потрясший меня до потрохов оргазм.
Я получила возможность что-либо соображать лишь через несколько секунд, увидела удивленные глаза арестованного. Я лежала, точнее сидела в углу, опершись спиной о стену.
Затем я встала, подошла к столу, достала из ящика наган.
– За нападение на чекиста я тебя сейчас буду медленно убивать, контра, – я взвела курок.
На его лице отобразилась тревога. Мне нужно было пару-тройку минут, чтобы прийти в себя после экстатической реакции и снова хотеть плотских утех. Я опасалась только пустить его в расход за эти две-три минуты апатии.
– Открой рот... Ну!!!
Он стиснул зубы, сжал губы.
Я сдержалась, хотя обычно рука моя не дрожит в таких случаях. В Харькове покуролесила изрядно...
Член у этого великана оказался таким, каким я хотела его видеть. Настоящий жеребец. Когда он засаживал мне, задрав юбку, протыкая как копьем, пытал меня, мне хотелось выть от животной радости. Я лежала на столе и меня дергало от каждого тычка. Он буквально мочалил меня, чертов жеребец. Я расстегнула гимнастерку и терла, царапала соски, забросив ноги в сапогах ему на плечи. Хлюпающие звуки только распаляли меня, и я тонка скулила.
Потом, разрядившись от плотского желания, я привела себя в порядок, вызвала конвой и заставила связать арестанта. Они выполнили приказ, скрутили его, связали руки и бросили на пол. Когда красноармейцы вышли, я встала над его лицом, расставила ноги, присела и, задрав юбку, нассала ему на лицо.
И только тут успокоилась.
После Харькова меня окончательно переключили на связь с агентами за линией фронта.
Но иногда, вот как сегодня, приходится ездить по обыскам, помогать нашим, если проводится серия облав по мешочникам-спекулянтам или отпетой контре, или просто брать заложников.
Сегодня я с нашим Капелюхиным Ванькой и матросами поехала брать контру – какого-то профессора буржуазного права.
Я вообще люблю брать попов, тыкать в их толстые рожи стволом нагана за их сладкие религиозные сказки. Я тебе тыкаю, а ты мне вторую щеку подставляй.
Но профессор – тоже очень хорошо. Он тоже благородным рылом водит, от народа кары не ждет и не считает себя ни в чем виноватым. А за то, что всю жизнь сладко спал, сытно жрал, не желаешь отвечать, сволочь?!
Капелюхин сам выбил дверь. А трусоват вообще-то Капелюха. Знал бы, что там офицерики засели с наганами, заставил бы матросов дверь высаживать и первыми заскакивать. Сколько раз видела – любит жизнь Капелюха. И над арестованными покуражится любит.
...Дал ногой, вышиб профессорскую дверь. Что ж ты, профессор, замки-то не укрепил? Не ожидая, что народная власть к тебе придет, не думал ответ держать перед народом? Сейчас увидишь, где правда. Хватит, попил нашей кровушки. Теперь мы твою попьем.
Рассыпались матросики по квартире, начали шуровать. А Капелюхин сразу к профессору. Да без разговоров его за седую бороду хвать! Разговоры в ЧК будут. Я уже тоже настроилась профессора за волосы ухватить и тащить с Капелюхой в разные стороны, как вдруг:
– Папа!
Я обернулся. Дочка профессорская. Молоденькая симпапуля. Целка.
Я бросила профессора – и к ней. Завела в дальнюю комнату.
– Сидеть здесь, сучонка ненадеванная! До конца обыска.
В нетерпении я была. Велела матросам пальцами своими под хрен заточенными девку не трогать. А сама еле дождалась конца обыска. Даже не особо обращала, как там Капелюхин-герой профессора мордой его крысиной об стол возит, на зеленом сукне красные следы оставляет. Спрашивает его о золоте, валюте. Зря спрашивает, профессор все равно ничего ответить не может. И никто бы не ответил, когда его мордой об стол. В этом и есть высшая справедливость. Ты ему вопросик, а у него рот зубами занят, не отплевался еще. И не нужны нам твои ответы. Мы и так видим, что ты контра.
Когда все уходили и уводили профессора, Капелюха мне гаденько подмигнул. Был бы он врагом революции, я бы ему с удовольствием яйца вырвала.
Я прошла в дальнюю комнату, где нахохлившимся воробьем сидела дочка.
– Как тебя зовут?
– Ирина.
– Знаешь, почему я не отдала тебя матросам?
Прошептала одними губами:
– Почему?
– Себе оставила. Отца твоего я расстреляю, если будешь себя плохо вести. Поняла?
– Поняла.
– Тогда раздевайся. – не люблю я рассусоливать с такими. Быка за рога.
– Зачем?
Я улыбнулась:
– Лечиться будем.
Еще в Харькове, попавший в плен к белым товарищ Шерстобитов говорил: "Тебе, Крестовская, лечиться надо. У тебя все на половом вопросе замкнуто, даже классовая борьба. Потому ты и худая такая. Ты нимфоманка." Откуда только слов набрался, сволочь. Но меня такое устраивает вполне. А насчет худобы – может, у меня просто кость узкая. Если же у меня и болезнь, то приятная, наподобие чесотки: все время чешется и чесать приятно, получаешь удовлетворение. Я же не в ущерб работе.
Ирина профессорская сняла блузку, вопросительно взглянула на меня. Мной уже владела привычная истома, чудился запах крови.
– Догола!
Я сама, не глядя более на нее начала раздеваться. Сбросила с себя все ремень с кобурой, тужурку, гимнастерку, юбку, сапоги, белье нательное. Даже косынку с головы. Я хорошо себя чувствую голой, из меня тогда прет животная страсть. Я дома часто расхаживаю голяком, если не считать одеждой мои деревянные шары, которые я ввожу в себя. Еще до революции я прочитала об этой восточной штучке в какой-то книге, Но сделали мне такую только в Харькове. Токарь выточил за полбуханки и стакан морковного чаю. Стоящая вещь оказалась. Она заполняет собой вечную сосущую пустоту во мне. А при ходьбе, когда я хожу, шары будто живые начинают шевелиться, надавливая, потирая внутри. Я могу ходить так очень долго.
– Давай быстрее, – поторапливаю.
И вот она стоит голая, съеживаясь под моим взглядом. Погань буржуазная. Все их подлое буржуазное воспитание и поповские сказки сковывают их тело, не дают им полностью наслаждаться, люди стесняются себя. В будущем раскрепощенном мире свободные пролетарии полностью возьмут от жизни все. И от своего тела тоже. Это будет светлый совокупляющийся рай всех трудящихся, где никто никому не принадлежит, и каждый свободен.
Я прошлась по комнате и взяла с книжной полки небольшую статуэтку из слоновой кости. Для моей цели она вполне подходила – была длинной, не очень широкой, без острых краев и выступов. Это была скульптурка какого-то азиатского деда с узкими глазами, может быть ихнего монаха.
Я подошла к посеревшей этой сучке, сунула ей в руки монаха, повернулась задом и похабно выгнулась:
– Давай, вводи.
Я хотела раздавить ее своим бесстыдством.
– Давай, а то сейчас пойду твоего отца шлепать. Голову тебе его принесу и жрать заставлю. Пошла!
Она с дрожащими губами ввела в меня статуэтку.
– Давай двигай, не очень быстро.
Она, наверно, ненавидела меня.
Я подмахивала ей, своему классовому врагу, ненавидящей меня профессорской дочке, ебущей меня любимой статуэткой своего отца, которого я могу убить в любой момент. Я получала удовольствие от смешения всех этих обстоятельств.
Дважды удовлетворившись с этой девочкой, я до синяков и кровоподтеков искусала ей грудь, шею, бедра, чуть не загрызла. А потом лишила ее невинности этой статуэткой, еще пахнущей мною.
...Когда я одевалась, Ирина эта лежала бледная, затем с трудом встала, нагнулась, ее вырвало.
А я пошла к контору. Иногда я от себя страшно устаю, мое тело изводит меня, порой мешает думать. Что будет дальше?
Ковалев.
"Я понял, кого мне напоминает Олег Козлов. Того солдатика, Федора из моей роты.
За последние шесть лет произошло столько событий, что я не враз вспоминаю то, что нужно. Довоенную жизнь помню линейно всю, перебираю ее в пальцах как веревку с узелками от начала до конца. От самых ярких детских воспоминаний, когда мы с Алейниковым бегали по подворотням и стреляли из рогаток до окончания университетских волшебных лет, до последней осени. Хотя потом была еще последняя зима и последняя весна, но уже в Вильно.
А еще был Ревель, черт побери, еще был Ревель, куда я попал летом четырнадцатого случайно, незадолго да сараевского выстрела.
Когда я узнал об убийстве эрцгерцога, не подозревал, что этот выстрел стронул лавину, которая уже набирает скорость и которая сметет страны и миллионы людей.
Да, всю свою ту жизнь я помню как странный сон, как непонятно зачем существовавшее бытие, как длинный разбег перед прыжком в бурлящий военный этап.
А последние шесть лет я выхватываю только мозаично, поэпизодно. Картины внезапно возникают в памяти и снова пропадают, как кусочки нарезанных ингредиентов в супе. То одно всплывет, то другое. То морковь, то картошка.
Сейчас всплыло мясо...
Галиция. Тогда я командовал ротой, воевал уже полтора года и имел Георгия. Поэтому прибывшее пополнение, мальчишек лет восемнадцати рассматривал с высоты своих полутора военных лет как желторотых птенцов.
Особенно я выделил одного. Несмотря на разницу в возрасте всего в три года, я относился к нему почти по отечески. Потому, видно, что был он похож на меня из ТОЙ жизни. Федор Галушко его звали. Не сказать, что он был моим любимчиком – любимчиков не терплю, – но все же я старался уберечь его чуть больше, чем других. Не совал во все дыры, по возможности отсылал подальше от передовых окопов. И он, кажется, понимал и чувствовал это и тоже тяготел ко мне, выделял из других офицеров не только потому что я был его командиром.
Лишь один раз я накричал на него. В первый и, к сожалению, в последний.
Сестру милосердия Катю-Катюшу хотели у нас все – офицеры, унтеры, солдаты. Наверное, хотел и Федя Галушко. Во всяком случае провожал он ее чистыми влюбленными глазами. Ходил за нею. Все посмеивались над юношеской влюбленностью мальчишки в солдатском мундире. Но лишь потому, что проявлялось у него это столь явно. Другие страдали менее заметно. Ибо Катя-Катюша была на диво хороша. Милое лицо с совершенно очаровательными конопушками. Глаза огромные, круглые. Губки пухленькие, так и хотелось их зубами прихватить.
Все ее хотели. А получил я. И помог мне в этом мой Алейников. Вернее, его стихи. Я завоевал Катю-Катюшу твоими стихами, Дима.
Тогда, перед брусиловским прорывом было относительное затишье. Даже соловьи иногда свистели, хотя и стрельба была, конечно.
...Вечерело.
Небо было чистым, глубоким.
Закат розовым.
Воздух – пьянящим.
Блиндаж в три наката. Обосновались надежно и основательно.
Я целовал и легко закусывал ее мягкие губы, гладил спину.
Я ее раздевал. На лежаке из березовых жердей, покрытых раскатанными шинелями. ЕЕ небольшие розовые соски твердели под моими губами. Катя-Катюша смущалась, боялась и наслаждалась. Мои огрубевшие руки гладили ее белую теплую кожу с тонкими голубыми прожилками, похожими на змеящиеся реки на наших картах.
Наши языки сплетались и боролись.
Я целовал ее нежные веки.
Она вздрагивала всем телом и непроизвольно, чисто по-девичьи сдвигала ноги плотнее, когда я будто невзначай касался рукой черного островка волос внизу теплого живота.
Я был заведен до предела. Я был уже готов сбросить остатки одежды, когда в блиндаж ворвался Федя.
Потом-то я понял. Он ведь ходил за ней. Видел, куда и с кем она зашла. И догадался зачем. Наверное, какое-то время терпел, борясь с собой, может, слышал стонущие вздохи Катюши. А потом не выдержал. И вбежал, чтобы удостоверится в своей ошибке, в напрасности своих страшных подозрений.
Я, конечно, рявкнул, наорал, выгнал. А он смотрел не на меня, а в большие глаза Кати-Катюши. Когда он убежал сломя голову, вспыхнувший и потерянный, я обернулся к сестричке и увидел в ее глазах дрожащие слезы.
Но мы занялись нашим любовным делом дальше, высушивая слезы и не обращая внимания на грохот шального разрыва, редкие одиночные выстрелы с линии передовых окопов. Катя-Катюша была какое-то время напряжена, но я растопил ее.
Она была девственницей. В девственницах есть очарование первого трепета. Ты, как небожитель берешь ее мятущуюся душу и вводишь через ворота боли в эдемские сады наслаждений. Играешь на ней, осторожно пробуя, как на новеньком музыкальном инструменте. Он еще не настроен. Настраиваешь, прислушиваясь к божественному камертону в своей душе, чутко откликаясь на малейший отзыв ее тонких, нетронутых до того струн готовой и ждущей плоти. Пробуждаешь спящего.