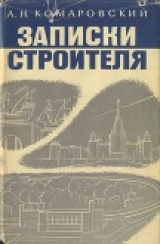
Текст книги "Записки строителя"
Автор книги: Александр Комаровский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)

Лежневая автодорога типа Б
И последнее, общее замечание. Технически несложной, но организационно значительной работой при строительстве канала был перенос 7505 крестьянских хозяйств из зон затопления и полосы отчуждения. Значительное количество крестьянских домов перевозилось или на мощных санях, подведенных под дом, или на четырех платформах «копелевских» вагонеток, соединенных деревянными рамами размером 6,5×5,5 м, по узкоколейным рельсовым путям. Эти вагонетки с помощью специальных шарниров могли вращаться в горизонтальной плоскости, что позволяло изменять направление движения платформ до 90°. Перед посадкой дома на платформу в нем разбирались печи, затем сруб поднимался на высоту 80 см с помощью четырех домкратов. Во всех случаях передвижение домов проводилось гусеничным трактором. Такой способ переноса крестьянских строений оказался значительно выгоднее, чем разборка, перевозка автотранспортом и сборка на месте с добавлением новых стройматериалов.

Перемещаемый дом на платформе
В апреле 1934 г. после моих настоятельных просьб о направлении на производство я был назначен заместителем начальника работ Южного (Московского) района канала Москва – Волга Ивана Николаевича Кострова – многоопытного инженера, человека удивительной выдержки в любых самых сложных строительных ситуациях. Помощником начальника района М. М. Кузнецова был живой, энергичный, всюду успевающий, мой добрый друг и поныне, Николай Викторович Кипиани. В состав этого района входили:
1. Истринская плотина (строительство которой в дальнейшем было выделено в самостоятельный район);
2. Перервинский гидроузел в составе шлюза № 10 и сегментной плотины, подымающий уровень Москвы-реки в пределах города на 3 м;
3. Карамышевский гидроузел на Москве-реке и Хорошевское спрямление р. Москвы (строительство этого гидроузла было позднее выделено в самостоятельный Карамышевский район);
4. Химкинская земляная плотина, запирающая верхний бьеф канала со стороны Москвы;
5. 7-й и 8-й двухкамерные шлюзы, осуществляющие «спуск» канала на высоту 38 м до уровня Москвы-реки;
6. Арочный железобетонный мост Белорусской железной дороги через шлюз № 8 и путепровод этой же дороги на пересечении с Волоколамским шоссе;
7. Двухпутный тоннель под каналом на Волоколамском шоссе;
8. Соответствующие участки канала Белорусской железной дороги, Волоколамского шоссе и другие небольшие сооружения.

И. Н. Костров

Н. В. Кипиани
А в 1932 г. в качестве «дополнительной нагрузки» району была поручена коренная реконструкция стадиона «Динамо» с увеличением числа мест почти в полтора раза.
Разнообразие сооружений района, их конструкций и геологических условий делали работы на строительстве необычайно интересными. Это уже был не «приготовительный класс», а строительный университет широкого профиля.
«Первым шагом» строительства в этом районе считалась плотина на реке Истре у дер. Раково. Предназначалась она для создания водохранилища, позволяющего частично зарегулировать реку Истру, увеличивая в маловодные периоды подачу воды к Рублевскому водопроводу (он в то время был основным источником водоснабжения Москвы). Кроме того, регулирование Истры снижает весенний паводок Москвы в пределах города и облегчает условия эксплуатации речного порта на Москве.
Первоначальный проект Истринского гидроузла был составлен немецкой фирмой Сименс Бауунион. Работа по проекту была сравнительно сложна, предусматривались значительные затраты валюты на покупку в Германии различного оборудования. Проектное управление канала этот проект отклонило. Был составлен заново свой проект. Он и осуществлялся с использованием исключительно отечественного оборудования.
Плотина сооружалась земляная, с глинистым экраном и зубом (см. рис.). Нормальный напор плотины 14 м. Длина по гребню 487 м, ширина по низу 130 м. В ходе строительства было вынуто 804 тыс. и насыпано 867 тыс. куб. м грунта. Объем бетонных и железобетонных работ по этому гидроузлу составил 68,5 тыс. куб. м.
По берегу, с правой стороны от плотины, проходит сбросный канал с железобетонным головным сооружением, имеющим четыре пролета по 11 м, перекрытых сегментными затворами высотой по 4 м. Расчетный расход для водосброса принят равным 550 куб. м/сек.
В основании тела плотины проходит железобетонная водоспускная штольня с водозаборной башней и внешними противофильтрационными ребрами. Пропуск воды для нужд водоснабжения проводится через турбины небольшой гидростанции, расположенной на выходе штольни водоспуска из тела плотины.
Истринская плотина была закончена и с высокой оценкой принята в эксплуатацию 5 ноября 1935 г., т. е. на два года раньше подачи воды по каналу Москва – Волга, и уже тогда сыграла определенную роль в пополнении водопроводной сети столицы.

Поперечный разрез Истринской плотины
Летом 1970 г., впервые после окончания строительства Истринской плотины, я снова побывал в этих местах, полюбовался живописными берегами водохранилища, ставшими зоной отдыха для десятков тысяч москвичей.
Многие из них, вероятно, помнят, что зимой 1941 года здесь, как и по всему каналу, проходила линия фронта. Гитлеровцы создали по берегу Истринского водохранилища сильные заграждения и упорно сопротивлялись во время нашего контрнаступления под Москвой. Тогда по решению командующего 16-й армией К. К. Рокоссовского были созданы две подвижные группы во главе с Ф. Т. Ремизовым и М. Е. Катуковым. 11 декабря наши войска освободили г. Истру, а 12 декабря подвижные группы стремительным броском обошли водохранилище с севера и юга, и противник вынужден был отойти, очистить берега водохранилища.
Первоочередной задачей Южного района явилось также сооружение Перервинского гидроузла на р. Москва.
Гидроузел включал плотину с примыкающими к ней дамбами и судоходным шлюзом № 10. Строился он непосредственно ниже Москвы в районе старого гидроузла с плотиной системы Пуарэ, сооруженной в 1923—1924 гг., и маленьким судоходным шлюзом, построенным еще в 1875 г. Новый гидроузел позволил поднять горизонт воды в Москве-реке на 3 м, что значительно улучшило санитарное состояние этой части реки и украсило ее берега, меняя пейзаж всей ленты городской застройки вдоль реки.

Схема Перервинского узла сооружений
Бетонная плотина (см. схему) имеет 7 пролетов по 20 м, перекрытых сегментными затворами. На пяти из этих затворов имеются ледосбросные козырьки высотой по 1,5 м. Флютбет (основание) плотины состоит из водосливной части длиной 28,5 м, горизонтального порога длиной 9,75 м, ниже которого устроен водобойный колодец в виде заглубления на 3 м, в конце которого поставлены железобетонные зубья для сокращения энергии сбрасываемого через плотину потока. За флютбетом устроена рисберма (слив) длиной 16 м из трех слоев бутового камня между деревянными сваями, схваченными продольными и поперечными пластинами. Камень уложен на слой песчаного фильтра. Выше флютбета устроен понур (водонепроницаемое покрытие) длиной 20 м в виде бетонных плит толщиной от 0,25 до 0,50 м, уложенных на гравий. Основным противофильтрационным устройством является зуб перед плотиной, устроенный из бетонных опускных колодцев, врезанных на 1,5 м в юрскую глину.

Поперечный разрез Перервинской плотины
Однокамерный Перервинский шлюз № 10 огражден раздельными железобетонными контрфорсными стенами. В остальном он ни по габаритам, ни по конструкциям голов и ворот не отличается от остальных шлюзов канала.
Ко времени моего назначения в Южный район здесь только начинались бетонные работы по шлюзу и развертывалось строительство плотины. Техническое руководство на этом гидроузле осуществлял мой давний друг по работе над проектированием канала, молодой инженер Иван Александрович Процеров. Вместе с ним работали опытный строитель-гидротехник Александр Иванович Кочегаров, молодой инженер А. И. Бурмистров (с ним мне довелось трудиться и позже на других стройках) и другие товарищи, составлявшие хорошо слаженный коллектив, которому были по плечу самые сложные задачи.

И. А. Процеров
Одной из таких задач был зуб из железобетонных опускных колодцев. Этот элемент плотины в такой форме и масштабах впервые осуществлялся в СССР.
Зуб состоял из двадцати четырех колодцев длиной каждый по 8,15 м, шириной 3,1 м и высотой от 5,7 до 8 м (в зависимости от глубины залегания юрской глины, в которую колодцы заглублялись не менее чем на 1 м). Правда, по проекту намечалось опустить 30 колодцев, но в ходе работы часть из них заменили 60 пог. м металлического шпунта, что было производственно проще, а геологические условия на этом участке позволяли забить шпунт без особых трудностей.
Фасад и поперечный разрез колодца представлен на рисунке. Расстояние между колодцами заполнялось бетоном на ту же глубину, на которую были опущены колодцы. Степки колодца имели толщину 0,76 м и были сложены из бетона марки 130, а внутренняя полость колодцев заполнялась бетоном марки 90.
Опускание колодцев на Перервинской плотине очень осложнялось тем, что в аллювиальных подрусловых отложениях обнаружились могучие древние стволы моренного дуба – остатки дубрав, некогда, покрывавших берега Москвы-реки в этом районе. В этих же отложениях встречались и отдельные крупные валуны. Извлечение стволов или валунов задерживало опускание некоторых колодцев на 12—14 дней. Без помех же полное время опускания колодца (с учетом всех видов работ), как правило, составляло 30 дней. В отдельных случаях для вытаскивания затопленных стволов, попавших под нож колодца, приходилось устраивать деревянный ростверк, на котором подвешивался весь колодец.

Опускной колодец зуба Перервинской плотины
Операции по устройству и опусканию колодцев в огражденной перемычками и осушенной секции плотины проводились в следующем порядке:
1. Заглубление (вручную) котлована под колодец – на 1,2—2,0 м ниже поверхности грунта в котловане.
2. Укладка на грунт пластин из бревен диаметром 18—20 см (по 16 шт. поперек колодца).
3. Установка на этих пластинах ножей колодца, а затем опалубки его стен, которая в различных случаях имела от одного до трех ярусов по высоте.
4. Бетонирование стен колодца.
5. Распалубка после 5—7-дневной выдержки бетона.
6. Вытаскивание стволов и валунов тросами с помощью ручных лебедок. Поскольку приходилось делать подкоп, эта операция в отдельных случаях приводила к значительному крену колодцев как по оси зуба, так и поперек ее. Особенные затруднения вызывало заклинивание торцов двух смежных колодцев при продольном их крене. К тому же посадка на грунт вызывала заглубления колодцев под действием собственного веса в среднем на 0,5 м.
7. Опускание колодца путем выемки из него грунта вручную. Выемка проводилась перекидкой грунта на горизонтальные полки от середины к внешним стенам с соблюдением горизонтальности вынимаемого слоя. При выемке грунта под ножом (что сразу же было строго запрещено) возникал приток воды и мелкого разжиженного грунта в колодец, который иногда заполнялся этой жидкой массой на глубину 2—3 м в течение 3—5 минут. Это, с одной стороны, вызывало опасность для работающих внутри колодца землекопов, а с другой – приводило к образованию воронок с внешнего периметра колодца. В целом примененный способ опускания следует признать крайне несовершенным и весьма трудоемким. Следовало бы приспособить для подъема грунта бадьи, поднимаемые хотя бы самым примитивным краном с лебедкой, или же применить гидроудаление грунта.
8. Во время опускания колодца до начала бетонирования его внутренней полости производился водоотлив с помощью 2—4-дюймовых насосов, установленных на верху колодца. Приток воды удавалось прекратить после заглубления на 1,5 м в юрскую глину.
9. Выемка грунта между опущенными колодцами представляла собой хотя и малообъемную, но сложную операцию. Осуществлялась она вручную при предварительно забитых деревянных шпунтах, ограждающих щель между колодцами с обеих сторон.
10. Бетонирование внутренней полости опускного колодца и зазоров между ними.
Подобные опускные колодцы для пресечения фильтрационного потока под плотиной в начале 30-х годов были применены в плотине на р. Изар недалеко от Мюнхена. Там в основании плотины залегал мощный слой гравия с большим расходом воды. Предложение об устройстве подобных колодцев в основании Перервинской плотины было сделано известным гидротехником заместителем главного инженера строительства Николаем Ивановичем Хрусталевым (ранее по проекту предполагался деревянный шпунтовый ряд). Опыт строительства показал, что для данных условий это решение оказалось нецелесообразным, а примененные нами методы опускания колодцев – слишком трудоемкими и неудачными. В целом, как теперь принято выражаться, решение и его осуществление было крайне не индустриально. Во всех случаях значительно проще было применить стальной шпунтовый ряд, даже обходя отдельные препятствия из валунов и затопленных стволов деревьев. А поскольку их было очень много, вероятно, было бы целесообразнее вообще отказаться от глубоких вертикальных пересечений пути фильтрации, заменив их развитым понуром и, возможно, отдельными неглубокими бетонными зубьями в верховой части флютбета.
Но работы тогда шли так, как рассказано выше, и в марте 1935 г., несмотря на все трудности, Перервинский гидроузел вошел в строй.
Одним из самых ответственных сооружений Южного района строительства была Химкинская земляная плотина, замыкающая водораздельный бьеф с южной стороны и расположенная примерно в 5 км от впадения р. Химка в р. Москва.
Левым своим корнем плотина врезалась в замечательный старинный Покровско-Глебовский парк с могучими липами и густым орешником. На обрывистом берегу Химки тогда еще сохранились остатки небольшого дворца дочери Петра I – Елизаветы Петровны. Вспоминается этот парк потому, что в годы строительства мне приходилось ходить через него на работу (я жил на окраине парка около Волоколамского шоссе). Идешь по этому чудесному парку, звенящему соловьиными трелями, благоухающему цветением бесчисленных лип, а в голове – мысли о выполненных, а иногда и недовыполненных кубометрах, процентах уплотнения… Посидеть бы здесь после длинного-длинного дня, сбросить тяжелые болотные сапоги с налипшей глиной… Ведь было-то мне только двадцать семь лет, хотелось «и песен и улыбок». Но проходишь парк, не останавливаешься, потому что через несколько часов начнется новый трудовой день. Снова планы, графики, бесчисленные дела и заботы. И так вот день за днем, из месяца в месяц, годами… Зато с какой молчаливой гордостью стоишь сейчас (уже с седой головой!) на берегу спокойного Химкинского водохранилища, смотришь на красивые речные лайнеры, на могучие краны в Северном речном порту, любуешься спортивными праздниками на водной станции «Динамо».

Схема Химкинского узла Южного района канала
В тридцатые годы Химкинская плотина (см. рис.) высотой до 34 м была самой крупной земляной плотиной в СССР. Длина плотины – 1500 м, ширина по гребню – 12 м, максимальная ширина по основанию – 208,5 м. Основная часть тела плотины сложена из разнозернистых песков и супесей, вынутых из котлована шлюза № 7, и с участков, прилегающих к каналу. Эти грунты уплотнялись прокаткой гусеничными тракторами ЧТЗ (на больших площадях с катками, на малых – без них) до уровня не ниже шести процентов сверх природной карьерной плотности.
В передней части плотины устроен понур из пылевато-илистых суглинков, уплотненных до карьерной плотности. По переднему откосу уложен мощный экран из тщательно утрамбованного жирного моренного суглинка. Этот экран присыпан тоже уплотненным песчано-гравийным грунтом. Экран, соединяющийся с понуром, врезан в основание трапецеидальным зубом глубиной около 7 м ниже основной подошвы плотины. По оси этого зуба забит металлический шпунт Ларсена общей длиной 430 пог. м. В низовой части плотины устроен многослойный дренажный тюфяк с призмой по всей длине плотины.

Поперечный разрез Химкинской плотины
Дренажная призма в виде обратного фильтра сложена из четырех слоев песка, гравия и камня различной крупности. Максимальная высота призмы 5 м. Кроме того, низовой откос плотины на высоту 9 м выше призмы присыпан сортированным песчано-гравийным грунтом без глинистых включений. В пределах возможного колебания горизонта воды верховой откос плотины укреплен бетонной плитой на слое щебня. Низовой откос покрыт растительным грунтом и засеян.
В наиболее высокой части плотины ее пересекает донный водоспуск в виде железобетонной штольни, закрытой с напорной стороны железобетонной коробкой. Штольня общей длиной 225 м состоит из 22 секций шириной по низу 4,6 м при высоте 4,3 м. Стыки секций соединены противофильтрационными компенсаторами и гудронными шпонками. Учитывая особую опасность фильтрации воды вдоль штольни, она врезана в юрскую супесь, для лучшего сопряжения с телом плотины по наружной поверхности штольни устроены бетонные выступы, пересекающие прямой путь возможной фильтрации. Сверху и с боков штольня покрыта тщательно уплотненным двухметровым слоем суглинка. В штольне проходят две металлические трубы диаметром по 1,3 м, перекрытые внутри головной коробки и в низовой части задвижками Лудло. Этот водоспуск позволяет опорожнить водохранилище объемом 28,5 млн. куб. м за 13 суток.
Общий объем работ по этой весьма ответственной плотине капала был сравнительно велик. Потребовалось, например, вынуть 440 тыс. и насыпать свыше миллиона куб. м грунта, уложить 20 тыс. куб. м бетона и железобетона, забить 1400 т металлического шпунта.
Я считаю, что строительство высоконапорной железобетонной плотины даже на мягких грунтах (например, плотина при ГЭС Свирь-3), требующих широкого основания, понура и шпунтов, значительно проще, определеннее по своим техническим решениям и, вероятно, дешевле, чем строительство высоконапорной земляной плотины[2]2
Это не относится, конечно, к плотинам намывным, которые могут быть сооружены с помощью гидромеханизации при наличии близлежащих песчаных карьеров.
[Закрыть].
Во времена же строительства канала Москва – Волга решение о строительстве ряда крупных земляных плотин, и самой большой из них – Химкинской, предопределялось стремлением сократить затраты цемента и арматуры, ресурсы которых в 30-е годы были еще ограничены. В известной мере на это решение влияло и опасение просадок сравнительно слабых аллювиальных грунтов в основании плотины, менее опасных для насыпной земляной плотины, чем для железобетонной любой конструкции.
Трудности сооружения Химкинской плотины предопределялись не только большим объемом работ. Строителей ни на минуту не покидала мысль о громадной ответственности за судьбу водохранилища, которое «нависнет» над Москвой. Страшно было даже подумать о возможных ошибках и о той огромной волне, которая помчалась бы к городу, сметая все на своем пути!.. Вот почему был установлен строжайший контроль за всеми видами работ и проектных решений на строительстве плотины.
Вспоминаются просто свирепость представителей технической инспекции (подчиненной не нам – районным начальникам, а управлению строительства, что безусловно правильно при подобных строительствах), постоянные споры о степени влажности и уплотненности грунта, требования дополнительных уплотнений, а иногда и обратной выемки слабых участков. Особое внимание и тщательность проявлялись в подборе материала и в укладке дренажного тюфяка и призмы, столь важных для земляных плотин. Большие волнения принес нам ключ, вырвавшийся в откосе правого берега в зоне примыкания плотины. Он менял место выхода, и справиться с ним удалось только с помощью грунтового водоотлива из скважин. Тем не менее ключ этот оставил дурную память в виде каверн в грунте, которые приходилось тщательно заделывать. Понимали мы и какую опасность представляет фильтрация вдоль штольни водоспуска. Поэтому лучшие наиболее ответственные работники постоянно были на вахте при сооружении всех элементов этой штольни и ее изоляции.
Работы шли круглые сутки, посменно. Ночью громадная площадь была залита светом. Лично мой производственный маршрут начинался в 6—7 часов утра обычно с котлована 8-го шлюза, затем продолжался осмотром строительства одноарочного моста через шлюз, тоннеля под каналом на Волоколамском шоссе, опускался в глубокий котлован 7-го шлюза и к полуночи завершался на поднимающейся Химкинской плотине.
Так работали тогда большинство строителей канала. Стремление с честью выполнить задание партии и правительства, сознание жизненно важной потребности столицы в волжской воде – все это умножало силы и энергию строителей. Этому способствовала и большая политико-массовая работа, проводимая Политотделом и партийными организациями стройки. Помню, будучи еще беспартийным, по поручению парторганизации и я не раз выступал на собраниях, митингах, проводил беседы с рабочими. Одним словом, строительство было для меня, как и для других молодых специалистов, не только техническим университетом, но и большой политической школой. Здесь с февраля 1937 года я был принят кандидатом в члены ВКП(б) и навсегда связал свою жизнь с ленинской Коммунистической партией.
Но вернемся к строительству.
Не считая Волжского гидроузла, наиболее крупными сооружениями в системе канала Москва – Волга являлись двухкамерные шлюзы № 7 и 8, которые «опускали» канал на 36 м от водораздельного бьефа до уровня Москвы-реки.
Строительством шлюза № 7 руководил молодой энергичный инженер коммунист Дмитрий Семенович Захаров, с которым я работал потом на многих стройках. Дмитрий Семенович обладал какой-то неистовой работоспособностью и умением найти общий язык с каждым рабочим. Он весьма грамотно руководил этим сложным даже по сегодняшним масштабам строительством. Строительство шлюза № 8 возглавлял опытный инженер-практик Иван Владимирович Скачков.

И. В. Скачков
Шлюз № 7 расположен у села Покровское-Глебово, а шлюз № 8, разделенный от него небольшим участком канала, у села Щукино. Камеры шлюзов и основные конструкции стен, голов и ворот однотипны с остальными шлюзами канала (длина каждой камеры 300 м, ширина по дну 30 м и минимальная глубина воды 5,5 м). Исходя из геологических условий – в основании шлюза № 7 лежат мелкозернистые черные юрские пески, а шлюза № 8 – черная юрская глина – был принят доковый тип камер шлюзов: неразрезное днище толщиной 4,5 м и монолитные стены. Учитывая возможность неравномерных осадок, а также усадочные температурные явления, камеры шлюзов разбиты по длине на секции, длиной 20 м каждая. Головы шлюзов также неразрезные, представляющие единое целое с железобетонным днищем той же толщины. Секции камер и головы сопрягаются между собою с устройством гудронными антифильтрационными шпонками.
Ворота средних и нижних голов шлюзов – створчатого типа, а верхних голов – сегментные с напуском воды в камеру из-под затвора. После заполнения камеры водой сегментный затвор опускается в нишу, которая является одновременно и водобойным колодцем, гасящим энергию воды, падающей из-под ворот в камеру шлюза. Наполнение нижних камер и выпуск из них воды производится через водопроводные галереи средних и нижних голов шлюза. В подходах к шлюзам запроектированы ограждающие палы, в виде бетонных площадок на высоком свайном ростверке.
Выемка котлована глубиной до 25 м под шлюз № 7 представляла чрезвычайные трудности. Грунты в пределах котлована были, в основном, водонасыщенные, типа плывунов. Обстановку осложняла крайняя стесненность площадки, заставлявшая идти на крутые, хотя и разрезанные бермами откосы в этих неустойчивых грунтах. Первый же период работ показал невозможность организации водоотлива с помощью обычных центробежных насосов с забором воды из постепенно углубляемых деревянных колодцев. Тяжелые первые советские паровые экскаваторы «Ковровец» с емкостью ковша 2,5 куб. м, передвигавшиеся по перекладным железнодорожным звеньям пути, временами буквально тонули в разжиженном грунте до уровня парового котла и их приходилось спасать от дальнейшего погружения местным водоотливом и обкапыванием. Дороги для автомобильной вывозки грунта из-под экскаватора укладывались из тяжелых лежневых щитов, также глубоко проседавших под грузом автомашин.
Вспоминается трагикомический инцидент, произошедший здесь со мной, вернее, с водителем старенького легкового «газика». Водитель привез меня к шлюзу и, зная, что я пойду вдоль него, решил проехать по автовозной дороге и пристроился в очередь грузовых машин, шедших медленным, но сплошным потоком под погрузку грунта экскаватором. Машинист экскаватора после того, как выгрузил ковш жидкого грунта в предыдущую машину, машинально опустил следующий ковш в мой несчастный открытый «газик», который под этим трехтонным грузом буквально развалился на куски. К счастью, водитель не пострадал, но мне пришлось потом некоторое время ездить в полуторке.
Следует сказать, что разжиженные песчаные грунты сравнительно легко отдавали воду при откачке или при отвале в кавальеры, создавая в последнем случае весьма плотную насыпь. Это обстоятельство, кстати, позволило построить насыпи строившегося нами обходного участка Калининской железной дороги, пересекавшей Волоколамское шоссе и шлюз № 8, в основном из грунтов, вынутых из котлована шлюза № 7.

Общий вид шлюза № 8
В самом же котловане седьмого шлюза пришлось применить для водоотлива насосы-качалки. Это было единственным решением, которое позволяло технически грамотно и сравнительно быстро выполнить выемку котлована. Насосы откачивали воду из дренажных труб, которые забуривались по периметру котлована, в данном случае в несколько ярусов, по мере его заглубления.
Изготовление этих несложных механизмов к тому времени было широко освоено Дмитровским механическим заводом, возглавлявшимся молодым инженером-механиком Петром Константиновичем Георгиевским (ныне он генерал, заместитель министра).
В настоящее время разработаны и на ряде строительств действуют значительно более совершенные и эффективные системы грунтового водоотлива, чем наши кустарные поршневые качалки. Но в те годы это было новостью в советской строительной технике, а на котловане 7-го шлюза – единственным средством, позволившим в сравнительно короткие сроки вынуть весьма большой объем водонасыщенных плывунных песков.
Бетонные работы на строительстве шлюзов № 7 и № 8 были организованы на высоком техническом уровне во всех отношениях. Отсутствовали тогда лишь инвентарные бетонные заводы с металлическими силосами для цемента и заполнителей да пневмотранспорт. Наши заводы были деревянные из брусчатых и частично каркасно-засыпных конструкций, но с отличными бетономешалками (типа Сименс) с емкостью по 2250 л. Подача бетона от бетономешалок к бетонируемым блокам велась ленточными транспортерами (осевыми неподвижными и поперечными катучими) с ручными сбрасывающими тележками. Так как бетонирование велось и зимой в любые морозы, все транспортерные галереи были утеплены.

Подача бетона в днище шлюза № 7 ленточными транспортерами
Кстати, это новшество отметил и Генрих Осипович Графтио, посетивший Южный район строительства. Раньше мне приходилось встречаться с ним, так сказать, на расстоянии – на некоторых технических заседаниях. В этот же день я сопровождал Генриха Осиповича и давал необходимые пояснения по отдельным сооружениям. Крупнейший инженер, строитель первенца советской гидроэнергетики Волховстроя, один из авторов ленинского плана ГОЭЛРО, Г. О. Графтио буквально очаровал меня своей эрудицией и культурой, исключительной подвижностью, стремлением увидеть все до мельчайших деталей.
Организацию бетонирования восьмого шлюза Г. О. Графтио считал большим шагом вперед в механизации подобного рода работ (даже попросил наши чертежи) и заметил, что гидросооружения одного только Южного района по масштабам превосходят весь Волховстрой.
Рассматривая сейчас сквозь призму времени и опыта примененную нами транспортерную доставку бетона, можно сказать, что выглядит она громоздкой и сложной. Подача бетона в стены и головы шлюзов с помощью кранов и опрокидных бадей была бы организационно проще. Но мы не располагали тогда кранами со сколь-нибудь большим вылетом стрелы. Не было еще и автосамосвалов-бетоновозов.
На строительстве канала впервые в СССР получило массовое распространение бетонирование в зимнее время крупных бетонных блоков (в том числе на шлюзах № 7 и 8) в теплой опалубке методом «термоса», без применения тепляков. Мне он запомнился не только новизной.
Однажды после снятия опалубки на одном из участков шлюза № 7 обнаружилась большая глубокая «раковина» – результат небрежности ночной смены, не сумевшей как следует уложить жесткий бетон.
В многотиражной газете появилось мое фото на фоне этой злополучной «раковины», а в приказе по Управлению строительства – выговор. Сняли с меня этот выговор не скоро, уже в Центральном районе за успешную борьбу с паводком р. Яхромы, грозившем затопить фабричный поселок.
Бывали, правда, и приятные приказы. Так, во время сооружения шлюза № 8 я предложил изменить проект и пропустить реку Чернушку, пересекавшую канал, через тоннель в бетонном массиве верхней головы шлюза. Предложение это было принято, так как оно давало солидную экономию в силах и средствах, и приказом по Управлению строительства мне была объявлена благодарность с «денежным поощрением в 2000 руб.». Тогда это были не малые деньги, но чтобы отметить как следует это событие, у нас у всех просто не было времени…
Замечательным сооружением, и по сей день остающимся уникальным, явился железобетонный одноарочный мост Калининской железной дороги через шлюз № 8. Автором проекта и руководителем строительства этого моста был талантливый инженер Александр Семенович Бачелис. Ему вместе с нами пришлось выдержать большие бои в Народном Комиссариате путей сообщения. По тем временам перекрытие пролета в 120 м одной железобетонной аркой было смелой технической новостью, и кое-кто называл этот проект «авантюрой» и «рекордсменством».
В нашей стране этот мост являлся наибольшим по своему пролету, а во всем мире – одним из крупнейших железобетонных арочных мостов. Сама схема моста, простая по своей композиции, очень интересна и в эстетическом отношении (см. рис.). Кроме того, при сравнении ряда проектов выявилось, что помимо преимуществ технического и эстетического порядка построенный нами мост дал экономию в 900 тысяч рублей по сравнению с наиболее дешевым из конкурирующих вариантов.

Схематический чертеж моста Калининской железной дороги через шлюз № 8
Строительство моста велось при строжайшей требовательности к качеству всех видов работ, но круглосуточно, темпами исключительными и на сегодняшнюю мерку (мост построили за один год). Сложной задачей была установка подмостей и кружал на 30-метровой высоте. Их конструкция и точность пригонки врубок вызвали особую похвалу приезжавших к нам крупнейших строителей академиков Б. Е. Веденеева и Г. О. Графтио. Бетонщики, впервые встретившиеся с тонкими железобетонными конструкциями на этом мосту, обеспечили высокое качество бетона. Член приемочной комиссии профессор Г. К. Евграфов заявил, что «такого качества бетона он не видел на других мостах». А в целом комиссия НКПС дала самую высокую оценку этому сооружению.








