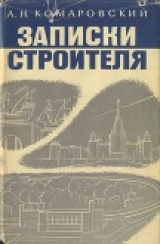
Текст книги "Записки строителя"
Автор книги: Александр Комаровский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
На строительстве МГУ бумажная масса широко применялась для изготовления вентиляционных и потолочных декоративных решеток, а также деталей люстр. Что это дало? На предусмотренные проектом падужные вентиляционные решетки актового зала потребовалось бы 5,5 т алюминия. Решетки же были выполнены не из алюминия, а из бумажной массы. Кроме экономии металла это в 10 раз сократило стоимость их изготовления. Производство изделий из бумажной массы (см. приложение) не требовало рабочих высокой квалификации и сколько-нибудь сложного оборудования. Все изделия по мере необходимости, покрывались любыми красочными составами или покрывались пленкой цветного металла методом шоопирования. Решетки, детали, люстры, изготовленные из бумажной массы и шоопированные под бронзу, невозможно отличить от настоящих бронзовых изделий. Они очень хорошо поддаются всевозможной обработке – шлифовке, резке, пилке и долговечны даже в неблагоприятных условиях.
Отлично зарекомендовали себя на строительстве МГУ и детали из белого литого камня (см. приложение). Внешне они ничем не отличаются от высококачественного известняка. Изготовлялись эти детали в мастерских строительства и служили как для сооружения монументальных скульптур, так и для облицовки главного корпуса в качестве переходных элементов от гранитного цоколя к керамической облицовке.
Литой камень получался путем сплавления в специальных плавильных печах при температуре 1350—1550° шихты из кварцевого песка, доломита и мела. Сплав, залитый в пропаленные земляные формы, кристаллизовался при температуре 920° и затем постепенно остывал. Полученный таким путем минерал дионсид имел предел прочности 4000—5000 кг/см2, объемный вес 2,9 т/м3, водопоглощаемость от 0,3 до 1%. Все эти показатели обеспечивали долговечную сохранность материала в атмосферных условиях.
Не сомневаюсь, что многие из тех, кто побывал хотя бы возле университета на Ленинских горах, обратили внимание на замечательные монументальные бронзовые скульптуры, украшающие здание МГУ, в частности памятник М. В. Ломоносову. Эти скульптуры изготовлены в довольно примитивных условиях мастерских строительства небольшой бригадой литейщиков во главе с замечательным мастером, виртуозом своего дела Владимиром Васильевичем Лукьяновым.
Владимир Васильевич начал трудиться еще в 1917 г. Им отлиты скульптура Вучетича «Перекуем мечи на орала», украшающая здание ООН в Нью-Йорке, фигура Горького у Белорусского вокзала, памятник Чайковскому около зала Консерватории в Москве и многие, многие другие великолепные произведения. Я был очень тронут и взволнован, когда спустя 10 лет после сооружения МГУ, вечером ко мне пришел Владимир Васильевич со своими мастерами и принес великолепно выполненную в бронзе скульптуру Владимира Ильича Ленина по подлиннику скульптуры Андреева, которую особенно высоко ценила Надежда Константиновна Крупская. Это прекрасное произведение и сегодня стоит в рабочем кабинете, напоминая и о мастере, и о годах строительства МГУ.

Актовый зал МГУ
Оглядываясь назад, нельзя не признать ряд существенных недостатков в проекте (в основном главного высотного корпуса) МГУ. Часть из них относится к архитектурно-компоновочным решениям, которые были заложены в утверждением Советом Министров форпроекте и по тем временам не могли быть ревизованы, часть же в известной мере была связана с темпом работ, которые велись, как я говорил, параллельно с проектированием. Назову некоторые, с моей точки зрения, недостатки этого в целом замечательного комплекса сооружений.
Прежде всего – соотношение учебно-научной и жилой площади с полезной площадью построенных сооружений. Оно равно всего 0,48, что, безусловно, недостаточно для учебных заведений. Площадь коридоров, а также разного рода вестибюлей и т. п. можно было бы сократить без ущерба для эксплуатации.
Расположение фабрики-кухни и громадной студенческой столовой в подвальных этажах главного корпуса представляется спорным. Нередко кухонные запахи распространяются на все этажи главного корпуса, несмотря на очень мощную вентиляцию с большим воздухообменом. Вероятно, было бы лучше разместить фабрику-кухню и столовую (а может быть, и две-три, в зависимости от расположения корпусов) в отдельном здании, соединив его как с главным корпусом, так и с остальными корпусами факультетов проходными туннелями.
При богатстве многих архитектурных решений необоснованно занижена высота вестибюля главного здания. У входящего в это грандиозное здание возникает ощущение какой-то «приниженности», исчезающей лишь после перехода через вестибюль в остальные помещения. Сомнительными представляются и внутренние дворики (по два со стороны переднего и заднего фасадов). Для закрытия их потребовалось сооружение специальных сложных и дорогих открылок. Эти дворики практически не используются, и открытие их вряд ли нарушило бы общий архитектурный замысел сооружения.
Отдавая дань высокого уважения покойному замечательному архитектору, руководившему творческим коллективом, Льву Владимировичу Рудневу, нельзя не упрекнуть его в излишнем стремлении украшать внешний облик здания, порой лишая его тем самым необходимой строгости. Между мной, отвечающим за строительство в целом, и Львом Владимировичем в процессе проектирования и строительства зданий возникали даже конфликты именно на эту тему. Дело доходило до рассмотрения спорных вопросов на специальных комиссиях Госстроя СССР. Комиссии тоже были против перенасыщения здания излишними архитектурными элементами (например, «лес» искусственных, конструктивно ненужных внутренних колонн), которых и после сокращения, вероятно, осталось слишком много. Но все это относится к главному корпусу. Факультетские здания решены, как мне кажется, лаконично, архитектурно выразительно.
После окончания строительства МГУ было немало критики по поводу его высотности. Считаю, что разговор о высотности МГУ является просто недоразумением. Высотной является только центральная часть главного корпуса, где незначительная площадь отведена под учебные помещения, а основной объем занят ректоратом, библиотекой, музеем землеведения, актовым залом, клубом и т. д. Все же остальные факультетские корпуса являются 6-этажными (включая цокольный этаж), а жилые корпуса имеют от 9 до 18 этажей, что вряд ли (по крайней мере, по современным понятиям) относится к категории высотных сооружений. А центральная, наиболее высокая часть главного корпуса, несомненно, придает величественность и завершенность всему комплексу МГУ.
Конечно, если бы мы начали проектирование здания МГУ в 1970 г., а не в 1947, многие архитектурные и инженерные решения были бы иными и, несомненно, более утилитарными и экономичными. Но и по сей день мы можем гордиться этим замечательным комплексом сооружений. Университетским ансамблем на Ленинских горах восхищаются и многие зарубежные гости Москвы.
Рассказывая о строительстве МГУ, необходимо сказать и о переселении граждан с территории, прилегающей к МГУ и подлежащей благоустройству, а также с территории строительства в Зарядье, занятой старыми домами. Это была сложная в организационном и емкая в строительном отношении задача. Ведь всем переселяемым надо было предоставить новое благоустроенное жилье, которое следовало построить заново со всеми коммуникациями, дорогами и т. д. Один такой массив построен в районе станции Лобня-Катуар, второй – в Текстильщиках и, наконец, в Черемушках. Построенные там дома для переселяемых и дома для преподавателей МГУ были тогда первыми. Теперь это крупнейший юго-западный район Москвы, причем название «Черемушки» стало нарицательным для новых строек во многих городах СССР.
С улыбкой вспоминаю сейчас, какой жесткой критике был подвергнут за то, что «вместо реконструкции центральной части Москвы строители лезут в какие-то Черемушки». Должен, конечно, сознаться, что выбор таких районов, как Черемушки и Текстильщики, для строительства жилых районов тогда определялся не столько стремлением к созданию новых микрорайонов Москвы, сколько невозможностью строительства нового жилья в центре. Там ведь требовалось сносить строения и вновь переселять жильцов, и мы никак не смогли бы вписаться в установленные сроки строительства и благоустройства территорий МГУ.
Заканчивая свои воспоминания о строительстве Московского государственного университета, не могу не отметить очень большую роль в выполнении всех видов строительных и монтажных работ, которую сыграли военные строители, возглавляемые Героем Советского Союза полковником Ф. А. Сабировым. Много помог нам, строителям, Евгений Федорович Кожевников, работавший в те годы в аппарате Совета Министров СССР. Евгений Федорович непосредственно наблюдал за строительством высотных зданий в Москве (и прежде всего МГУ) и неизменно оказывал широкую поддержку в обеспечении строительства, в оперативном рассмотрении многих вопросов, требовавших решений Совета Министров СССР.
Большой многообразный комплекс зданий и сооружений Московского государственного университета был закончен летом 1953 г. и сдан Государственной комиссии с отличной оценкой. В сообщении Совета Министров Союза ССР «Об открытии новых зданий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова» отмечалось, что Совет Министров СССР рассмотрел рапорт строителей университета, заключение Правительственной комиссии, доклад Министерства культуры СССР и усыновил, что задание правительства по строительству и вводу в эксплуатацию основных зданий и сооружений университета на Ленинских горах выполнено.
Наряду с большими объемами работ, выполненных самим строительством, заводами, проектными, научно-исследовательскими учреждениями и монтажными организациями министерств, проведена большая работа по проектированию и изготовлению новых специальных видов оснащения для учебного процесса и научно-исследовательской работы в университете, по изготовлению и монтажу металлоконструкций, механизмов и оборудования, а также снабжению строительства зданий университета необходимыми строительными материалами.
Совет Министров СССР отметил, что с вводом в действие новых зданий Московского государственного университета создаются широкие возможности для дальнейшего развития науки и подготовки квалифицированных специалистов для народного хозяйства нашей страны.
1 сентября 1953 г. состоялся торжественный митинг на площади перед главным зданием МГУ и начались занятия на всех факультетах в новых зданиях МГУ на Ленинских горах.
Строительство зданий МГУ являлось главной задачей сравнительно малочисленного коллектива Управления Дворца Советов, но отнюдь не единственной. Примерно с 1950 г. были начаты сперва подготовительные, а затем и основные работы по сооружению фундамента высотного здания на набережной Москвы-реки в Зарядье. Проект этого здания составлялся архитектурной мастерской под руководством крупного советского архитектора Д. Н. Чечулина. Несмотря на то что проект уже был утвержден правительством и, как я говорил, сооружался фундамент, градостроители Москвы и архитектурная общественность не приняли идею строительства высотного здания (высотой 130 м) в непосредственной близости от Кремля и не без оснований считали, что это здание в архитектурно-зрительном отношении «задавит» замечательный Кремлевский архитектурный ансамбль.
Этот вопрос неоднократно обсуждался правительством, и в конечном счете строительство высотного здания было приостановлено. В дальнейшем по проекту того же Д. Н. Чечулина Главмосстрой соорудил на этом месте гостиницу «Россия», имеющую значительно меньшую высоту, чем ранее намечавшееся административное здание.
Весьма ответственным для всего нашего коллектива было поручение правительства реставрировать стены и башни московского Кремля. Задача эта была сложной, так как систематическое изучение состояния кладки этих древних сооружений не производилось, тем более что не было и проекта этой реставрации.
Обследование большой площади кладки стен и башен, составление реставрационных карт, разработку методов разборки старой, разрушившейся кладки и, наконец, замену части кладки на новую – все это наше управление взяло на себя. Сразу же возник вопрос: откуда брать кирпич для кремлевских стен и башен? Кирпич должен быть минимум марки 300, морозоустойчивый и соответствующий по цвету старой кладке. Тщательные поиски кирпича на московских заводах и на предприятиях прилегающих областей были бесплодными. Подходящим оказался высококачественный многодырчатый и большеразмерный кирпич с завода в г. Азери Эстонской ССР (завод этот я знал по основной работе в промышленном министерстве). Кирпич из Азери частично использовался и на строительстве МГУ: бордово-красные элементы фасада в высотной части МГУ выложены из этого кирпича. Так в стены древнего русского Кремля лег эстонский кирпич.
Замененные участки кладки, на которых работали лучшие каменщики, и соседние участки стен покрывались по завершению работ прозрачной перхлорвиниловой пленкой, наносимой в жидком состоянии. Этот раствор впитывался как в кирпич, так и в швы, заполненные раствором, и усиливал водонепроницаемость, а следовательно, и повышал сохранность стен.
Немало хлопот принесло устройство подмостей для производства этих работ в верхних частях башен. На Арсенальной башне, что напротив Исторического музея, у нас произошла крупная неприятность. Часть трубчатых лесов, очевидно в силу плохого крепления в соединениях, обрушилась. Хорошо еще, что жертв не было. Но авария навсегда оставила у меня неприязнь к этим в общем-то жидким и трудоемким временным конструкциям. Куда проще и надежнее подвесные устройства! Если же обстоятельства все-таки заставляют применять трубчатые леса, то их качество – прежде всего соединений и креплений – должно быть самым высоким, а контроль за сборкой лесов самым строгим.
В заключение остается добавить, что после завершения строительства МГУ я стал настойчиво просить об освобождении от руководства Управлением строительства Дворца Советов, тем более что моя основная работа требовала постоянных и весьма длительных командировок в отдаленные районы страны. Просьба была удовлетворена. А вскоре Управление строительства Дворца Советов влилось в систему общестроительных организаций Москвы, где к тому времени нарастающими темпами стало развиваться жилищное и культурно-бытовое строительство.
Глава восьмая
НОВАЯ ТЕХНИКА – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
28 июня 1954 г. в печати появилось сообщение о пуске в СССР первой атомной электростанции.
«В настоящее время, – говорилось в сообщении, – в Советском Союзе усилиями советских ученых и инженеров успешно завершена работа по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт.
27 июня 1954 года атомная электростанция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов.
Впервые промышленная турбина работает не за счет сжигания угля или других видов топлива, а за счет атомной энергии – расщепления ядра атома урана.
Вводом в действие атомной электростанции сделан реальный шаг в деле мирного использования атомной энергии.
Советскими учеными и инженерами ведутся работы по созданию промышленных электростанций на атомной энергии мощностью 50—100 тыс. киловатт».
Конечно, сейчас, спустя 17 лет, это сообщение о первой АЭС выглядит заурядным. Ведь наша атомная энергетика далеко продвинулась вперед, давно уже функционируют атомные станции мощностью в несколько сот тысяч киловатт. В девятой пятилетке согласно Директивам XXIV съезда КПСС атомные электростанции дадут 12% всего прироста мощностей электростанций СССР. Всего же за 10—12 лет будут введены в действие атомные электростанции мощностью 30 миллионов киловатт!..
Но ведь вся эта грандиозная программа начинается с той, нашей первой АЭС. И я вспоминаю о ней потому, что ее строительство в какой-то мере характеризует новые задачи, поставленные сразу же после войны перед советскими учеными, инженерами и строителями, в частности перед коллективом нашего министерства.
Атомная электростанция, ускоритель элементарных частиц (синхроциклотрон) в Дубне, синхрофазотрон в районе Серпухова и многие другие комплексы научно-исследовательских установок, о которых пойдет речь ниже, были чрезвычайно ответственными, срочными и уникальными сооружениями.
Рассказ об этом строительстве мне хотелось бы предварить некоторыми общими замечаниями и выводами.
1. Строительства, как правило, располагались весьма далеко от автомобильных, а тем более железных дорог. Практика давно уже показала, что всякая попытка начинать на площадках даже подготовительные работы, не построив предварительно капитальных подъездных путей, не ускоряла, а только задерживала и дезорганизовывала строительство. Поэтому на всех этих стройках независимо от заданных сроков был установлен железный порядок – сначала дороги, а затем уже освоение площадки.
Дороги строились в основном из завозимых с существующих заводов нашей системы железобетонных дорожных плит, которые на конечной стадии строительства использовались как основания под постоянную эксплуатационную автодорогу с асфальтовым или бетонным покрытием. После сравнения ряда вариантов мы убедились в наибольшей целесообразности, простоте изготовления и устойчивости сборных железобетонных дорог по представленной на рисунке схеме. Всякие тонкие железобетонные плиты, в том числе ребристые, многодырчатые, оказывались хрупкими и нестойкими. Для отдельных малонапряженных и временных дорог нередко практиковалась так называемая колейная прокладка железобетонных плит того же типа с обязательной связью арматурными стержнями плит одной колеи с другой и заполнением пространства между колеями щебенкой с соответствующим уплотнением.
Опыт подсказал также, что применять на строительствах для верхнего покрытия дорог асфальт нецелесообразно. При интенсивном движении грузовых машин он быстро разрушается, его трудно укладывать во время неизбежных летних дождей и практически невозможно в зимнее время.

Сборные железобетонные плиты для покрытия автодорог
2. Основания многих крупных промышленных объектов опускались в землю на десятки метров. Приходилось выбирать громадный объем грунта, заботиться о создании устойчивых откосов и транспортных берм для большегрузных автомобилей и экскаваторов. Вынутый грунт отвозился на значительные расстояния, а затем – после окончания строительных работ – приходилось везти значительную часть этого грунта обратно для засыпки пазух и уплотнять его тракторами, катками и т. д.
Следует иметь в виду, что самое тщательное уплотнение практически не исключает последующей осадки грунта. А это влечет за собой повреждение бетонных площадок, дорог и, что самое страшное, нарушение ответственных коммуникаций, пересекающих засыпанные пазухи. В конечном счете пришлось коммуникации пропускать по сборным железобетонным эстакадам (см. рисунок), опирающимся на основной грунт, и оставлять эти эстакады внутри засыпки.
Такого же типа эстакады строились и для доставки к месту монтажа сблокированных элементов оборудования большой тяжести. Без эстакад портальные краны, которые не только поднимали, но и везли эти монтажные блоки, вызывали катастрофические просадки путей и сходили с рельсов.

Опорные железобетонные конструкции для прокладки коммуникаций через пазуху котлована здания реактора
Добавьте к этому необходимость устройства мощной и надежной гидроизоляции. Абсолютно водонепроницаемых бетонов нет, равно как и нет сухих котлованов. При весеннем таянии или при ливневом стоке в зоне примыкания засыпки пазухи к сооружению создается большое гидростатическое давление фильтрационных вод, и лишь самая герметическая изоляция способна выдержать этот напор. На ответственных сооружениях приходилось строить внутри помещений сварные металлические «корабли» с небольшим зазором от стен, потолков и пола и нагнетать в этот зазор жирный цементный раствор.
Опасность осадки грунта, кроме того, заставляет всякого рода подсобные и вспомогательные здания располагать вне пределов контура котлована, что существенно растягивает коммуникации, а в ряде случаев и усложняет эксплуатационные условия.
Все это приводит к выводу, что крайне нецелесообразно излишне заглублять сооружения без особых, непреложных технологических требований и оснований. Уверен, что очень часто можно найти решение с подъемом сооружения, в крайнем случае с его наземной обсыпкой.
3. Поскольку ряд ответственных и крайне срочных сооружений необходимо было все же строить с большим заглублением, вставал вопрос: как ускорить земляные работы и всемерно сократить объемы выемки котлованов?
В то время у нас еще были свежи в памяти саперные работы по строительству оборонительных рубежей, в частности взрывы «навымет» противотанковых рвов. Мы учитывали и то, что нередко грунт на строительной площадке был достаточно плотен и позволял создавать очень крутые откосы котлована даже при глубине его до 40—50 м. Были среди нас и опытные саперы-подрывники. Решили попробовать взорвать «навымет» сначала один, а затем и второй котлован сравнительно недалеко от действующего сооружения.
Составили проект такого взрыва со всеми надлежащими расчетами, по оси котлована пробили небольшую шахту с рассечками внизу, уложили нужное по расчету количество аммонала… Взрыв, грохот, тьма, гигантский столб земли и дыма… И – полный успех! Котлован как будто вырезан по проектному контуру. Требовались лишь небольшая доборка грунта по днищу, удаление отдельных разрыхленных комьев, упавших обратно в котлован. Правда, лес вокруг лег веером во все стороны (словно в зоне падения Тунгусского метеорита, в миниатюре разумеется). Но меньше чем через год и лес «оправился». По нашим расчетам, взрывы «навымет» сократили срок строительства месяцев на десять!
Этот и последующие опыты (земляные нефтехранилища в районе Уфы, котлован для проходного тоннеля к домнам Челябинского металлургического завода и другие) убедили меня в исключительной эффективности, целесообразности и экономичности такого метода работ. Без сомнения, выемка сколь-нибудь значительных котлованов и траншей как в скальных, так и в мягких породах путем взрыва «навымет», в том числе и направленного взрыва, окажется, как правило, экономичнее (не говоря уже о темпах работ), чем любые другие виды современной механизации. Во всяком случае, этот способ земляных работ при их организации должен быть рассмотрен и подвергнут объективному сравнению с другими возможными способами.
Кстати, наши подрывники отлично освоили совершенно новый характер подрывных работ: взрывы по строго очерченному контуру в толстых железобетонных стенах внутри уже построенных зданий. Дело в том, что строительство шло параллельно с проектированием технологического оборудования, которое зачастую менялось, заставляя изменять и некоторые габариты помещений, и проемы для пропуска коммуникаций. Саперы мелкошпуровыми взрывами точно выбивали нужные нам участки стен, и строителям оставалось только вырезать остатки арматуры бензорезами. Конечно, это не метод – строить без окончательного проекта. Но совершенно необычные сроки и условия заданных нам работ в то время в какой-то мере оправдывали эти своеобразные приемы.
4. Сооружая высокие стены из монолитного бетона, мы убедились, что деревянная опалубка даже в виде инвентарных переставных щитов вызывает немало трудностей. Дело в том, что при разборке опалубки часть щитов ломается и реальная оборачиваемость их невелика (особенно при строительстве неповторяющихся сооружений). Отходы, неизбежно возникающие при устройстве такой опалубки, засоряют пазухи котлованов, в которых строится это сооружение, и очистка этих пазух весьма трудоемка. Наконец, необходимо учитывать опасность пожаров – ведь одновременно идут и сварочные работы.
Вспоминаю, как однажды ночью раздался телефонный звонок: горит важнейшее сооружение, расположенное весьма далеко от Москвы. А оно должно сдаваться под монтаж в ближайший месяц!.. Через 3 часа я уже был в воздухе и в начале следующего дня – на месте. К тому времени пожар был ликвидирован. Точнее, сгорело все, что могло сгореть: опалубка бетонных стен и леса. Пришлось заниматься восстановлением – отбивать разрушенный при пожаре слой бетона, наносить новый и т. д. Эти работы велись в 3—4 смены почти 10 дней.
После этого инцидента мы старались вообще избегать деревянных опалубок, применяя железобетонные плиты, оболочки, входившие в состав основных бетонных сооружений и учитываемые в их статических расчетах. Этот метод, кстати, по инициативе бывшего главного инженера Волгостроя профессора В. Д. Журина еще в конце 30-х годов широко применялся при строительстве гидроузлов на Верхней Волге (Угличского и Рыбинского). Теперь он получал как бы второе рождение, повышая индустриализацию строительных работ.
5. К сожалению, совсем отказаться от деревянной опалубки пока еще нельзя. Без нее не обойтись, например, при бетонировании внутренних поверхностей стен, имеющих отверстия и проходки. В связи с этим следует подчеркнуть качество опалубки. Она должна быть достаточно жесткой и безупречно гладкой, чтобы не приходилось потом «деревянные» огрехи исправлять на бетоне.
Больше того, если как следует позаботиться о гладкой поверхности опалубки (набить на нее с внутренней стороны чистые фанерные листы и заделать швы между ними известковым тестом), то после распалубки не понадобится и штукатурка. Можно, если это требуется, прямо на бетон наносить шпаклевочный слой и делать покраску.
Во всяком случае, опалубка бетонных стен (и не только стен) требует инженерного проекта. Не стоит отдавать ее на откуп плотникам, не обладающим зачастую даже необходимым опытом, а тем более возможностью рассчитать опалубку на давление вибрируемого бетона.
Безусловно, во всех случаях, когда это можно, гораздо целесообразнее устраивать стены из крупных сборных бетонных блоков. Тогда не требуется ни опалубки, ни оболочки, и резко сокращаются все строительные процессы.
6. При строительстве крупных уникальных сооружений с необычным и зачастую крупногабаритным оборудованием мне, пришлось неоднократно сталкиваться с попытками проектировщиков отойти от стандартного шага колонн и соответственно от типовых стеновых панелей, балок и плит перекрытия. Тщательное изучение этого вопроса показало, что обычно отказ от стандартных и типовых решений вызывается только нежеланием внимательно рассмотреть компоновку оборудования, увязав ее с типовыми размерами строительных конструкций. Каждый раз удавалось найти вполне удовлетворительное решение с применением этих конструкций без нарушения интересов технологии. В конечном счете мы запретили принимать к рассмотрению какие-либо проекты, решенные в нетиповых и нестандартных строительных элементах.
И последнее общее замечание. В послевоенные годы широкое применение получило панельное и крупноблочное строительство. Это вполне понятно и объяснимо. Но не следует забывать и о кирпиче. Ведь здания с кирпичными стенами, во-первых, обычно дешевле панельных стен, требующих большего количества сравнительно дорогостоящего цемента и арматурного металла. А во-вторых, по своим технико-эксплуатационным показателям и долговечности кирпичная стена нередко превосходит панельную.
Широкое распространение панельных и блочных конструкций для гражданского строительства оправдывается прежде всего двумя обстоятельствами: более короткие сроки строительства, не зависящие от сезонных условий, и значительно меньшая потребность в рабочей силе (каменщики, штукатуры) на площадке строительства, перенесение всех основных процессов на завод.
Таким образом, при выборе строительного материала для того или иного объекта нужно серьезно взвесить все обстоятельства, провести сравнительный экономический анализ.
Разумеется, для скоростного строительства промышленных объектов с площадями, измеряемыми сотнями тысяч квадратных метров, стены из кирпича нецелесообразны. Здесь уместнее применить железобетонный каркас и типовые промышленные напели. А для сооружения жилых домов, административных и культурно-бытовых зданий во многих случаях выгоднее использовать кирпич. Кстати говоря, в зарубежной практике применение панелей или крупных блоков для стен гражданских зданий носит сравнительно ограниченный характер. Промышленные же и энергетические объекты строятся, как правило, из крупноразмерных панелей.
Таковы некоторые общие выводы и замечания из опыта проектирования и сооружения многообразных крупных и сложных предприятий, о которых пойдет рассказ ниже. Сразу же оговорюсь, что рассказ этот будет весьма кратким, лишь об основных, характерных особенностях того или иного объекта.
В 1946 г. состоялось решение о строительстве исследовательского комплекса для нужд атомной энергетики. Строить надо было недалеко от научно-исследовательских институтов столицы.
Выбор пал на район у села Петякино вблизи станции Обнинская Киевской ж. д. (примерно в 110 км по шоссе от Москвы). Здесь в сравнительно малонаселенном живописном районе между железной дорогой и р. Протва можно было хорошо разместить и научно-исследовательские сооружения, и жилой поселок.
На самой площадке находилось единственное полуразрушенное здание, в котором в октябре 1941 г. размещался штаб командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Это здание мы восстановили и достроили как главный корпус Физико-энергетического института.
Одновременно с научно-исследовательскими объектами строился и город, который назвали Обнинском.
Постепенно профиль всего строительства определялся все четче. После ряда экспериментов к 1950 г. под непосредственным руководством академиков Игоря Васильевича Курчатова и Николая Антоновича Доллежаля был разработай проект первой в мире атомной электростанции с энергетической мощностью 5 тыс. квт. Надо ли говорить, с каким подъемом инженеры и строители претворяли этот проект в жизнь!
Не вдаваясь в подробности сооружения АЭС, отмечу лишь, что в качестве биологической защиты после ряда исследований был принят тяжелый бетон объемным весом 3,6 т/м3 с заполнителем из криворожской железной руды (гематита), дробленной до нужных размеров. Частично использовался также бетон на гематитовой руде с добавкой обычного минерального песка. Кроме бетонной защиты реактор имел противонейтронную внешнюю защиту в виде кольцевых баков толщиной 1 м, заполняемых обычной водой.

Здание первой атомной электростанции (г. Обнинск)
К сожалению, приходится сказать, что архитектура этой первой в мире атомной станции (см. фото) не очень удачна. Форма явно не соответствует содержанию. Здание скорее напоминает старомодный административный корпус, чем современный научно-энергетический объект.








